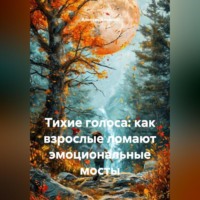Полная версия
Книга первая: Хранитель Эхо
Аглая не открыла книгу. Она лишь положила на неё ладонь и закрыла глаза.
–Да, – прошептала она. – Это оно. Здесь… гнев. И гордыня. И печаль. Измаил вложил в этот переплёт всё, что чувствовал в последние дни своей карьеры. Он не просто переплетал книгу. Он хоронил её. И хоронил часть себя вместе с ней.
– Почему он её ненавидит? – спросила Лира, не решаясь прикоснуться.
–Потому что это была его последняя попытка достучаться. «Трактат о геометрических иллюзиях» – это книга о том, как реальность может быть обманчива, как прямые линии ведут в тупик, а замкнутые кривые – к свободе. Он считал, что это метафора для памяти и забвения. Что забвение – это не тьма, а иная геометрия. Он хотел, чтобы книгу приняли в основной фонд, изучали. Её отвергли. Назвали бредом сумасшедшего. И тогда он… – Аглая вздохнула. – Тогда он, как мне рассказывали, устроил скандал. Кричал, что они сами стали иллюзией, что они уже забыли, что такое истинное знание. Его вывели. Он исчез. А эта книга легла на полку и стала памятником его краху.
Лира смотрела на замысловатый узор. Теперь он казался ей не просто украшением, а криком. Попыткой связать, скрепить что-то, что расползалось.
–Так мы несём ему его боль. Его неудачу.
–Мы несём ему его память. Самую яркую и самую горькую. Для человека, который боится забвения, это одновременно и пытка, и подношение. Он либо выслушает нас, либо вышвырнет вон вместе с книгой. – Аглая аккуратно завернула том обратно в бумагу. – Завтра. Завтра мы идём к нему. Теперь нам нужна не только осторожность, но и смелость. Ибо идём мы не к союзнику, а к раненому зверю в его логове.
Она погасила лампу. В темноте свёрток на столе казался тёмным, зловещим прямоугольником. Лира думала об узорах на коже, о гневе старого мастера, о воде, что помнит песню, к которой он должен указать путь.
Она снова тронула перо у себя на груди. Оно молчало. Но в его молчании теперь чувствовалось ожидание. Ожидание следующего шага в паутине, которую начала плести её мать, обращаясь к ним из небытия.
Завтра им предстояло встретиться с тем, кто помнил узоры забвения. И от того, сумеют ли они найти общий язык с этой памятью, зависело, смогут ли они услышать песню воды.
Часть 3: Логово Переплётчика ПустотПуть к Измаилу лежал через такие закоулки Старой Пристани, что, казалось, сама география города сдавалась здесь, уступая место хаосу ржавчины, гнили и забытых намерений. Аглая шла впереди, свёрток с книгой прижатым к груди, как щит. Лира следовала за ней, и каждый шаг отзывался в ней эхом. Здесь, среди полуразрушенных сараев и завалов битого кирпича, «тихие зоны», о которых говорила Аглая, чувствовались кожей. Одни участки были просто пустыми, выцветшими. Другие – и это было хуже – фальшиво-яркими. Заброшенная конюшня, например, источала навязчивый, приторный запах сена и пота, будто память лошадей так и не смогла улетучиться и теперь гнила на месте.
– Он живёт там, – указала Аглая на конец тупика, упиравшегося в высокий, слепой торец бывшего зернохранилища. Казалось, дальше идти некуда. Но, присмотревшись, Лира разглядела не дверь, а прореху. Рваный, неровный проём в кирпичной кладке, затянутый изнутри чем-то тёмным, похожим на кожу или толстый, просмолённый брезент. Над проёмом на гвозде висела ржавая табличка с едва читаемой надписью, выцарапанной от руки: «Здесь не стучат. Входят только забывшие дорогу назад».
Лира сглотнула. Аглая, не колеблясь, отодвинула тяжёлый полог.
Внутри пахло не плесенью, а густой, сложной смесью запахов: старый клей, дубильная кислота, воск, пыль, сухие травы (та самая горьковатая полынь) и под ней – острый, едкий химический запах, от которого щипало в носу. Воздух был тёплым, сухим и неподвижным, как в гробнице.
Мастерская, если это можно было так назвать, была лабиринтом. Она располагалась не в одном помещении, а в нескольких связанных между собой каморках и нишах бывшего хранилища. Всё было завалено, завешано, заставлено. Но не хаотично. Это был упорядоченный, чудовищно сложный порядок безумца.
Полки, сколоченные из ящиков и досок, гнулись под тяжестью книг в потрёпанных переплётах. Но это были не просто книги. Многие из них были разрезаны, расчленены. Корешки лежали отдельно от блоков, разрозненные страницы висели на бельевых верёвках, как стыдливое бельё, покрытые непонятными пометками. Повсюду были разложены инструменты: ножи для резки бумаги с причудливо изогнутыми лезвиями, кисти, иглы с длинными ушками, мотки разноцветной нити, чаши с засохшим клеем и красками.
А в центре этого бумажного склепа, за столом, освещённым слепящим глазком газовой горелки, сидел Старик.
Измаил Кроули был похож на своего жилища – высохший, скрученный, но полный скрытой энергии. Его волосы, когда-то тёмные, а теперь цвета пепла и ржавчины, торчали пучками. Лицо было изрезано глубокими морщинами, как старый переплёт, но глаза… Глаза за толстыми линзами в стальной оправе были яркими, острыми, безжалостно-внимательными. Они вспыхнули, когда упали на вошедших, но в них не было ни удивления, ни страха. Было лишь холодное, оценивающее раздражение.
Руки его, те самые руки «пахнущие старым клеем и печалью», не остановились. Пальцы, длинные, костлявые и невероятно ловкие, сшивали что-то на столе. Не книгу. Казалось, он сшивал два куска темной, грубой ткани, но под пальцами ткань издавала тихий, сухой шелест, похожий на шёпот.
– Архивариус, – произнёс он. Голос был низким, скрипучим, как несмазанная дверь. – Выбралась из своей золотой клетки? И привела птенца. Заблудились?
– Мы нашли дорогу, Измаил, – спокойно ответила Аглая, делая шаг вперёд. – И принесли тебе кое-что.
Она положила свёрток на край стола, не загораживая ему свет. Руки старика замерли на мгновение. Его взгляд скользнул по коричневой бумаге, и Лира увидела, как в его глазах что-то дрогнуло. Не нежность. Скорее, ярость. И… голод.
– Убирай свою подачку, – прошипел он. – Я не нищий. И не участвую в ваших играх с мумиями.
– Это не игра, Измаил. И это не мумия. Это – вопрос. И просьба о помощи.
– От кого? – старик язвительно скривил губы. – От мёртвых? Они просить не умеют. Они только шепчут. Мешают.
– От Кассии Веландры, – тихо сказала Аглая.
Воздух в мастерской содрогнулся. Не физически. Но все запахи вдруг стали острее, тень от газовой горелки заплясала на стене. Измаил откинулся на спинку своего скрипучего стула, и впервые его бесстрастная маска дала трещину. В глазах промелькнуло что-то неуловимое – признание? Боль?
– Кассия… – он произнёс имя так, будто пробуя на вкус давно забытый, горький плод. – Она… стёрта. Её нет. Не должно быть голоса. Не должно быть просьб.
– Есть эхо, – сказала Лира, неожиданно для себя. Голос её прозвучал тонко, но чётко в тяжёлом воздухе. – Я его спасла. Оно говорило со мной. Оно сказало искать тебя.
Измаил медленно, будто с болью в суставах, повернул голову к ней. Его взгляд, увеличенный линзами, был невыносимым. Он сканировал её, будто видя не лицо, а внутренности, узоры памяти, шрамы и свет.
–Ты, – пробормотал он. – Маленькая Веландра. Дитя стёртых. В тебе… шум. Громкий, неаккуратный шум. Как у неё.
– Она сказала, ты знаешь узоры, – продолжила Лира, чувствуя, как под этим взглядом хочется сжаться в комок, но она держалась. – Сказала, ты укажешь к воде, что помнит песню.
Измаил засмеялся. Сухой, короткий звук, похожий на треск ломающейся кости.
–Узоры… Да, я знаю узоры. Узоры дыр. Узоры пустот. Я их латаю. – Он ткнул пальцем в свою работу на столе. Теперь Лира разглядела: это были не куски ткани, а страницы из совершенно разных книг, сшитые вместе грубой, чёрной нитью. Текст на них был разным, нестыкующимся, но он создавал новый, уродливый смысл. – Видишь? Это – память. Разорванная, разрозненная. Я беру клочья и делаю из них… новую правду. Некрасивую, но целую. А вы… – его голос снова стал ядовитым, – вы свои клочья прячете в склянки. Как варенье. Чтобы любоваться. Вы не лекари. Вы коллекционеры трупов.
– Мы спасаем то, что ещё можно спасти! – вспыхнула Аглая. – Прежде чем Забвение пожрёт всё без остатка!
– Забвение?! – Измаил вдруг вскочил, и его тень, гигантская и уродливая, метнулась по стеллажам. – Вы до сих пор не поняли? Забвение – это не монстр из-под кровати! Это симптом! Это лихорадка больного мира! А вы боретесь с температурой, засовывая градусник в сосуд! Вы лечите следствие, игнорируя болезнь!
Он тяжело дышал, его худые плечи ходили ходуном. Потом он махнул рукой и снова рухнул на стул.
–Кассия… хоть она была упрямой и шумной, но она чувствовала. Она и её муж… они пытались добраться до причины. До Разлома. И посмотрите, что с ними стало. Их стёрли. Превратили в предостерегающую картинку для таких же глупцов, как вы.
– Они оставили эхо, – настойчиво повторила Лира. – Они оставили ключи. Мама сказала, ты укажешь путь. Значит, она верила, что ты поймёшь.
Измаил долго смотрел на свёрток на столе. Казалось, он ведёт немую войну с самим собой. Наконец, он резко дёрнулся вперёд, сорвал коричневую бумагу. Вишнёвый переплёт с узлами лежал перед ним в круге света.
Он не открыл его. Он положил на книгу свои руки – те самые, пахнущие клеем и печалью – и закрыл глаза.
–«Геометрические иллюзии» … – прошептал он. – Глупость. Детские каракули. Попытка нарисовать боль, которую нельзя нарисовать.
Но его пальцы гладили тиснёный узор с нежностью, которой Лира не ожидала.
–Вода, что помнит песню… – пробормотал он, будто разгадывая ребус. – В Дыме нет песен. Только гул. И ржавая вода. Но… есть одно место. Где вода пыталась петь. И её заставили замолчать.
Он открыл глаза. В них не было доброты. Была холодная, клиническая заинтересованность учёного, рассматривающего интересный образец.
–Старые очистные сооружения. На самом севере, где Чёрнилка впадает в городскую систему тоннелей. Там был проект… аэрации. Очистки воздухом и звуком. Инженер-романтик, верил, что можно заставить воду чистить себя музыкой определённых частот. Построил каскад цистерн с медными резонаторами. – Измаил усмехнулся. – Проект провалился, конечно. Вода сгнила, резонаторы украли. Но место… место сохранило попытку. Память о несбывшейся песне. Если ваше эхо указывает туда… значит, там застрял ещё один обломок ваших родителей. Обломок идеи. Наивной, глупой, шумной идеи.
Он отодвинул от себя книгу, будто она обожгла его.
–Вот ваш путь. Теперь убирайтесь. И заберите этот… памятник моему безумию. Он мне больше не нужен.
– Ты не пойдёшь с нами? – спросила Аглая.
–Зачем? Чтобы смотреть, как вы будете нырять в сточную яму в поисках призрака мелодии? У меня есть работа. – Он снова взял в руки иглу. – Мир разорван. Его нужно сшивать. Пусть и криво. Пусть и чёрными нитками. Но это честнее, чем ваше консервирование.
Лира понимала, что это всё, что они получат. Он не союзник. Он – ориентир. Обиженный гений, который предпочёл латать реальность в одиночку, презирая тех, кто пытается спасать её красоту.
Аглая молча взяла книгу, снова завернула её. Они повернулись к выходу.
–Измаил, – перед тем, как отодвинуть полог, сказала Аглая. – Охотники. Они уже интересуются библиотекой. Кто-то трогал эту книгу до нас.
Старик не поднял головы.
–Пусть интересуются. У меня здесь… свои охотники. На потери памяти. И мои ловушки потоньше будут их теней.
Это прозвучало как предупреждение и как прощание. Они вышли в тусклый свет дня, оставив за собой царство бумаги, склепа и горькой, одинокой правды. У них было направление. Очистные сооружения. Вода, которая пыталась петь.
И пока они шли прочь, Лира заметила на ржавой водосточной трубе над мастерской Измаила сидящую стеклянную птицу. Она смотрела не на них, а на затянутый кожей проём. И кивнула, один раз, будто отдавая дань уважения хозяину этого странного, печального места.
Глава четвёртая: Подземные реки Дыма
Часть 1: Карта из запахов и страхаНа следующий день Дым решил, что осень уже закончилась, и началась пора предзимней хмари. Небо опустилось так низко, что казалось, его можно коснуться кончиками труб. Воздух стал густым, сырым и колючим, пропитанным запахом горящего угля и грядущего снега, который, впрочем, никогда не выпадал здесь по-настоящему. Это была идеальная погода, чтобы идти под землю.
Аглая провела вечер, роясь в старых ящиках кабинета, и извлекла оттуда две пары грубых кожаных ботинок на толстой подошве, потёртые, но прочные плащи из промасленной ткани и две жестяные фляги.
–Внизу мокро, скользко и полно того, во что лучше не вступать, – пояснила она. – И пить свою воду. Та, что течёт под городом, давно забыла, что такое быть чистой.
Она также достала странный предмет – небольшой фонарь с матовым стеклом и сложным рефлектором внутри.
–Светильник Безмолвия, – сказала она. – Он не просто светит. Он гасит эхо. Делает наш шаг, наше дыхание, биение наших сердец… менее заметными. Для того, кто охотится по памяти, мы будем похожи на лужу тёплой воды среди холодной. Не невидимы, но менее вкусны.
Проводником до места вызвался стать Марк. Он явился к ним на рассвете, бледный, но с упрямым огоньком в глазах.
–Я нашёл старые схемы, – сказал он, разворачивая на кухонном столе пожелтевший, хрупкий чертёж. Это была не официальная карта, а любительская зарисовка, испещрённая пометками и стрелками. – Их сделал тот самый инженер-романтик, Сергей Волошин. Он вёл дневник. Измаил был прав: проект назывался «Гармония стоков». Он верил, что звуковые вибрации определённой частоты могут разлагать грязь на молекулярном уровне. – Марк ткнул пальцем в точку на краю карты, где тоннели Чёрнилки расходились веером. – Здесь, на Северном водосбросе, он построил «Аудиторию» – каскад из семи цистерн, каждая со своим резонатором. Но городской совет отказался финансировать «музыкальную терапию для нечистот». Волошина выгнали, оборудование растащили, а тоннели засыпали строительным мусором. Официально вход там завален ещё тридцать лет назад.
– Но неофициально? – спросила Аглая, внимательно изучая чертёж.
Марк понизил голос, хотя в доме, кроме них, никого не было.
–Есть слухи. Среди… исследователей городской инфраструктуры. Диггеров. Они говорят, что в прошлом году во время паводка часть завала в соседнем коллекторе просела. Образовался лаз. Неудобный, опасный, но ведущий прямиком в «Аудиторию». Вот координаты. – Он передал Аглае клочок бумаги с написанными от руки цифрами.
– Ты не пойдёшь с нами, – заявила Аглая не как просьбу, а как констатацию факта.
Марк с облегчением вздохнул, но тут же попытался сохранить лицо.
–Мне… мне нужно держать оборону здесь. В библиотеке. Если Измаил прав, и охотники уже копаются в фондах… кто-то должен заметить.
–Верно, – кивнула Аглая. – И ещё одна вещь. – Она достала из кармана маленький, тёмный, похожий на уголь камешек. – Это память о крике. Очень короткая, но громкая. Если случится худшее, если почувствуешь, что что-то не просто наблюдает, а подбирается к тебе вплотную – брось его на каменный пол. И беги. Не оглядывайся.
Марк взял камешек с благоговейным ужасом и спрятал во внутренний карман.
Они вышли, когда город только начинал своё дымное, ленивое утро. Северный водосброс находился на самой окраине, где Дым уже почти переходил в промёрзшие болота. Здесь не было домов, только бесконечные заборы из ржавого профнастила, склады с непонятным содержимым и гигантские, замолчавшие градирни. Воздух пахло кислотой и мокрой шерстью – где-то поблизости была кожевенная мастерская.
Вход в коллектор нашёлся именно там, где указал Марк – за грудой битого кирпича, в полуразрушенном контрольно-пропускном пункте. Решётка, когда-то наглухо заваренная, теперь отходила от стены ровно настолько, чтобы пропустить худого человека. За ней зияла чёрная дыра, из которой тянуло ледяным, спёртым дыханием подземелья.
Аглая зажгла Светильник Безмолвия. Его свет был не жёлтым, а холодным, синевато-белым, и он не рассеивал тьму, а как бы вырезал из неё чёткий, но очень узкий тоннель видимости. Всё, что оставалось за его пределами, тонуло в абсолютной черноте.
– Идём за мной, – сказала Аглая, и её голос в этом замкнутом пространстве прозвучал приглушённо, странно плоским, как будто эхо и правда отказывалось рождаться. – Не отставай. И касайся стен только если необходимо. Камни здесь… многое помнят.
Лира кивнула, сжав в кармане перо. Оно было прохладным и спокойным. Она сделала глубокий вдох, пахнущий плесенью, ржавчиной и чем-то металлическим, и шагнула за тётей в темноту.
Первое, что поразило её, – звук. Вернее, его отсутствие. Снаружи был ветер, отдалённый гул фабрик, крики птиц. Здесь, после первых же поворотов, воцарилась гробовая тишина, нарушаемая только редкими, тягучими каплями, падающими в воду где-то внизу. И тихим, мерным гулом Светильника Безмолвия, который не звучал ушами, а отдавался вибрацией в костях.
Тоннель был низким, они шли согнувшись. Стены, выложенные потемневшим от времени кирпичом, местами были покрыты скользкой, блестящей слизью или пушистыми, болезненными на вид колониями плесени. Под ногами хлюпала вода, холодная и маслянистая на ощупь даже через толстую подошву. Воздух с каждым шагом становился тяжелее, насыщеннее запахами. Запах человеческих отходов быстро сменился более древними, минеральными ароматами – сырой глины, серы, разлагающегося металла.
И памятью. Она висела здесь не эхом, а осадком. Лира, даже не прикасаясь к стенам, чувствовала тяжёлые, мутные волны. Это была не память о конкретных событиях, а память о движении. О бесконечном, медленном потоке, уносящем с собой обрывки жизни города: мыльные растворы, волосы из расчёсок, пепел, кровь, слёзы, обрывки писем, детские рисунки, смытые дождём лепестки. Всё это десятилетиями оседало здесь, разлагалось, смешивалось, создавая токсичный, духовный бульон.
– Здесь всё тонет, – прошептала Лира, и её шёпот был поглощён плоским светом фонаря. – Не только грязь. Чувства тоже. Они оседают на дно.
– Именно, – так же тихо ответила Аглая. – Поэтому подземные реки – опасное место для Хранителя. Это не архив, а свалка. Память здесь не структурирована, она хаотична, отравлена. Её трогать – всё равно что ковыряться в гниющей ране. Будь осторожна.
Они шли, казалось, вечность. Тоннель разветвлялся, но Аглая, сверяясь со схемой Марка, выбирала путь без колебаний. Иногда в боковых ответвлениях мелькали огоньки – отражение их фонаря в глазах крыс, которые замирали и бесшумно исчезали во тьме. Однажды они прошли под провалом, через который лился тусклый серый свет с поверхности и падали ржавые капли дождя, отдаваясь металлическим звоном по воде.
И вот, наконец, тоннель начал расширяться. Звук капель сменился другим – тихим, но настойчивым гулом. Не механическим. Это был низкий, вибрирующий звук, похожий на стон или на ноту, взятую огромной виолончелью и длящуюся годами.
– Резонаторы, – сказала Аглая, и в её голосе прозвучало облегчение. – Они всё ещё работают. Немного. Вибрация от движения воды в трубах… Они всё ещё поют.
Они вышли в огромное, круглое помещение. Это и была «Аудитория». Семь гигантских цистерн из чёрного, покрытого известковыми наплывами бетона располагались ярусами, как амфитеатр. Когда-то они были соединены системой медных труб и заслонок, но теперь всё это было грудами бесформенной ржавчины. Однако в центре каждой цистерны зияло тёмное отверстие, и из него, мерно и безнадёжно, низвергалась вниз струя чёрной воды. Падая с разной высоты, она ударялась о каменные чаши, и каждая цистерна издавала свою собственную, едва слышимую ноту. Вместе они складывались в тот самый протяжный, скорбный гул.
Здесь был другой воздух. Он был чуть чище, в нём чувствовалась слабая, едкая озоновая свежесть, как после удара молнии. И память… Память здесь была не осадком, а струной. Натянутой, вибрирующей, полной нереализованной потенции. Это была память не о том, что было, а о том, что могло бы быть. О чистоте. О гармонии. О безумной, прекрасной идее, которая здесь умерла, но не испустила дух до конца.
Лира подошла к краю первой цистерны и заглянула вниз. Вода внизу была не просто чёрной. Она была молчаливой чёрной. То есть, она не просто поглощала свет – она, казалось, поглощала саму идею света, звука, жизни.
– Где эхо? – спросила она, но Аглая подняла руку, призывая к тишине.
Старая женщина прикрыла глаза, прислушиваясь не ушами, а всем своим существом Хранителя.
–Здесь. Оно не в предмете. Оно в… самом звуке. В идее звука. Оно размазано по всей этой зале, по всем семи нотам. Его нужно не взять, а… услышать целиком. Собрать рассыпанную мелодию.
Лира посмотрела на перо в своей руке. Оно вдруг стало тёплым. Оно тянулось к этому месту, как компасная стрелка.
–Как? – прошептала она.
Но ответ пришёл не от Аглаи. Он пришёл из темноты за спиной.
Тихий, шелестящий, абсолютно бесстрастный голос, который, казалось, родился прямо из сырости в их ушах, произнёс:
–Не надо. Вы нарушаете покой. Эта музыка… она для мёртвых. Присоединяйтесь к ним, и вы услышите её во всей полноте.
Лира и Аглая резко обернулись, поднимая фонарь.
В проходе, через который они вошли, стоял Он.
Это не был охотник в пальто. Это было нечто худое, почти скелетообразное, облачённое в тряпьё, сливающиеся по цвету со стенами. Его лицо было скрыто капюшоном, но из-под него струился слабый, фосфоресцирующий туман. В руках, длинных и многосуставчатых, он держал не оружие, а странный инструмент – нечто среднее между камертоном и костяной иглой.
Шепчущий. Охотник, специализирующийся на тихих местах, на памяти, застрявшей между жизнью и смертью. И он стоял между ними и выходом.
Часть 2: Шепчущий в резонансеОн не двигался. Он просто стоял, заслоняя собой узкий проход, и его неподвижность была страшнее любой угрозы. Фосфоресцирующий туман, струившийся из-под капюшона, был того же синевато-белого оттенка, что и свет их фонаря, но он не освещал – он пожирал свет, создавая вокруг фигуры мертвенную, перевёрнутую ауру.
– Мы не хотим нарушать покой, – громко, чётко сказала Аглая. Её голос, обычно приглушённый Светильником Безмолвия, теперь звучал неестественно громко в этом гудящем зале. – Мы пришли за тем, что было оставлено. И уйдём.
Шепчущий слегка склонил голову. Звук, который он издал, был похож на скрип ржавых петель, смешанный с журчанием воды по камню.
–Оставлено… Ничего не оставляют. Всё уносится потоком. Всё растворяется. Вы пришли за тенью на воде. Тень нельзя взять. Её можно только… утонуть в ней.
Он сделал шаг вперёд. Его движение было плавным, но нечеловечески экономным, будто он не тратил энергию на преодоление расстояния, а пространство само сжималось под ним. Теперь в свете фонаря были видны детали: тряпья, обвивавшие его, были не тканью, а чем-то вроде высохших водорослей и обрывков прогнившей кожи. Инструмент в его руках – тот самый камертон-игла – слабо вибрировал, издавая тончайший, леденящий душу звук, вступавший в диссонанс с гулом цистерн.
Лира почувствовала, как этот звук впивается в неё, как тонкая стальная проволока. Он не причинял физической боли. Он расслаблял. Мысли начинали расплываться. Воспоминание о тёплом свете маминого сосуда становилось далёким, туманным. Страх притуплялся, замещаясь апатичной, тягучей усталостью. Зачем бороться? – шептал какой-то внутренний голос, звучащий похоже на Шепчущего. Здесь тихо. Здесь покой. Просто отпусти…
– Лира! – резкий, как удар хлыста, голос Аглаи врезался в это наваждение. – Не слушай! Он настраивается на твой внутренний ритм! Дыши громко! Думай о чём-то резком! О боли!
Лира судорожно вдохнула, закусив губу до крови. Острая, реальная боль пронзила туман. Она вспомнила не тепло, а холод – ледяную воду в Силосе, острый страх перед Пожирателем. Это сработало. Шепчущий слегка вздрогнул, будто его игла наткнулась на что-то твёрдое.
– Сопротивление… Шум… – его «голос» теперь звучал в их головах, накладываясь на реальный шепот. – Шум причиняет боль. Я предлагаю тишину.
– Твоя тишина – это смерть, – бросила Аглая. Она медленно, чтобы не спровоцировать резкого движения, опустила руку в складки плаща. – Мы не примем её.
– Все принимают. В конце концов. Вода смягчает. Стирает. Делает гладким и пустым. Как эти камни. Он провёл своей костяной иглой по мокрой стене рядом с собой. Камень под ней на мгновение… поблёк. Не изменил цвет, а словно потерял глубину, стал двухмерным, как выцветшая фотография. Память камня о влаге, о времени, о прикосновениях – была аккуратно, безболезненно стёрта.
Лира с ужасом поняла его «охоту». Он не пожирал память с яростью, как тварь из Силоса. Он был реставратором забвения. Аккуратно, тонко затирал шероховатости реальности, оставляя после себя гладкую, безликую пустоту.
Аглая выхватила из-под плаща не оружие, а небольшой свиток пергамента, испещрённый теми же символами, что и в Архиве. Она резко разорвала его.
Раздался не звук, а всплеск смысла. Словно кто-то крикнул одно-единственное, древнее слово в тишину библиотеки. В воздухе между ними и Шепчущим вспыхнул и погас яркий, слепящий иероглиф – «ПАМЯТЬ».