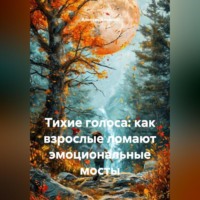Полная версия
Книга первая: Хранитель Эхо
Шепчущий отпрянул, как от удара кислотой. Его инструмент завизжал. Фосфоресцирующий туман вокруг него заклубился, стал неупорядоченным.
–Старые слова! Громкие, грубые слова! – его мысленный голос прозвучал с искренним, почти детским возмущением. – Вы царапаете!
Этим моментом воспользовалась Аглая.
–Лира! Цистерны! Звук! Он держит эхо рассредоточенным, не даёт ему собраться! Его инструмент – это камертон разлада! Ты должна пересилить его! Найди гармонию!
– Как?! – крикнула Лира, едва уворачиваясь от внезапного взмаха костяной иглы, которая, казалось, целилась не в тело, а в воздух вокруг её головы, пытаясь вырезать кусок её ауры.
– Пером! Настройся на место! Не на него! На идею Волошина! На надежду, которая здесь была!
Шепчущий, оправившись, издал новый звук – низкий, утробный гул, который тут же подхватили и исказили резонаторы цистерн. Гармоничный, пусть и скорбный, гул превратился в какофонию визжащих, скрежещущих нот. Звук бил по ушам, по вестибулярному аппарату. Лиру затошнило. Аглая, прижав руки к ушам, отступила к стене.
Лира, спотыкаясь, отбежала к центру зала, к краю самой большой цистерны. Вода падала вниз с оглушительным, теперь дисгармоничным рёвом. Она сжала перо в потной ладони. Оно горело. Она закрыла глаза, пытаясь отгородиться от ужасающего шума, от страха, от образа этой костлявой фигуры, методично стирающей мир.
Надежда. Гармония. Идея. Слова Аглаи метались в сознании. Она пыталась представить это. Неуклюжего, одержимого инженера Волошина, который верил, что можно очистить грязь красотой. Безумную, прекрасную веру. Она представляла, как медные трубы сияют, как резонаторы поют чистую, ясную ноту, как чёрная вода, послушная музыке, становится прозрачной…
Перо в её руке дрогнуло. Не так, как в Силосе – не лучом, а тонкой, звенящей струной, протянувшейся от её сердца в пространство. Она почувствовала, как натягивается невидимая связь между семью цистернами, между падающими струями воды.
И в этот миг Шепчущий увидел её. Не как девочку, а как источник этого зарождающегося, чуждого ему порядка. Он повернулся к ней, отбросив Аглаю. Его капюшон, наконец, слегка откинулся, и в тусклом свете Лира увидела… не лицо. Что-то вроде впадины, заполненной мерцающим, текучим песком, в котором плавали тёмные, как маковые зёрна, точки. Это было лицо-забвение.
– Прекрати шум, – прозвучало в её голове с невыразимой силой. – Ты портишь тишину.
Он направил на неё свою иглу. Звук от неё стал целенаправленным, тонким, как лезвие бритвы. Лира почувствовала, как он впивается в её память о сегодняшнем утре, пытаясь выдернуть её, как нитку из ткани. Образ Марка, передающего карту, начал бледнеть.
Паника захлестнула её. И в панике она не стала думать о гармонии. Она сделала то, что пришло инстинктивно. Она вскрикнула – не от страха, а от ярости. От ярости за то, что это существо смеет трогать её воспоминания. И вместе с криком она толкнула через перо всё, что чувствовала – не надежду Волошина, а свою собственную, дикую, необузданную волю к жизни.
Перо вспыхнуло не серебристым, а ослепительно-белым светом. Луч ударил не в Шепчущего, а в ближайшую цистерну, в самую гущу падающей чёрной воды.
И произошло не то, что ожидал кто-либо.
Вода не стала чистой. Она не запела. Она взревела.
Гул цистерн, искажённый Шепчущим, внезапно синхронизировался с этим лучом воли. Хаотичный звук схлопнулся в один, чудовищно мощный, низкочастотный удар. Это был звук самой памяти, тяжёлой, грязной, живой, отказывающейся быть стёртой. Звук всей боли, всей грязи, всех потерянных надежд, которые десятилетиями текли сюда.
Шепчущий вскрикнул – на этот раз физически, звуком, похожим на лопнувшую гидравлическую линию. Его инструмент треснул. Фосфоресцирующий туман взметнулся и начал рассеиваться. Гладкая, мёртвая аура вокруг него затрещала, не выдержав напора этой сырой, непричесанной, дикой памяти места.
– СЛИШКОМ ГРОМКО! – пронеслось в головах, полное настоящего, животного страха. Существо, питавшееся тишиной и порядком, не могло вынести этого катарсиса шума.
Оно отступило. Не плавно, а задом, спотыкаясь о груды мусора, его тряпье-водоросли цеплялись за ржавые трубы. Ещё один рёв из цистерн, и Шепчущий, издав последний жалобный писк, растворился в темноте бокового тоннеля, оставив после себя лишь запах озона и сырой глины.
Гул стих так же внезапно, как и возник. Воцарилась тишина, но теперь это была не тишина забвения, а тишина после бури. Звон в ушах. Лира опустилась на колени, дрожа всем телом. Перо в её руке погасло, став тяжёлым и холодным, как кусок свинца.
Аглая подбежала к ней, её лицо было бледным, но в глазах горело нечто вроде уважения.
–Что ты сделала? – прошептала она.
–Я… я не знаю. Я просто не дала ему забрать у меня память. Я… вскричала.
–Ты вложила в перо свою волю. Свою личную, живую память. Это было опасно. Но… эффективно. – Аглая помогла ей подняться. – Он ушёл. Но ненадолго. Он вернётся с подкреплением, когда оправится. Нам нужно спешить. Теперь, когда его влияние ослабло, эхо должно проявиться яснее.
Лира, всё ещё не в силах говорить, кивнула. Она посмотрела на цистерны. Они снова гудели, но теперь их гул был другим. Не скорбным и не искажённым. Он был… собранным. Семь нот, пусть и тихих, звучали в стройном, печальном, но завершённом аккорде. И в центре этого аккорда, в самом воздухе над падающими струями воды, начало проявляться слабое, пульсирующее свечение.
Второе эхо не было в предмете. Оно было в самой музыке, которую теперь, наконец, можно было услышать.
Часть 3: Цена аккордаТишина после отступления Шепчущего была звенящей, насыщенной отзвуками только что отгремевшей битвы. Семь нот цистерн, наконец-то звучавшие в гармонии, создавали в сыром воздухе «Аудитории» странный, переливчатый узор. И в центре этого узора, над самой глубокой цистерной, висело свечение. Не искорка, как в сосуде матери, а нечто вроде звукового призрака. Полупрозрачное, мерцающее образование, похожее на завиток застывшего дыма или на абстрактное изображение звуковой волны. Оно пульсировало в такт аккорду, и с каждой пульсацией по зале пробегала слабая, но отчетливая вибрация.
– Это оно, – прошептала Аглая, подходя ближе. Её лицо в холодном свете фонаря было усталым, но сосредоточенным. – Эхо идеи. Эхо веры в гармонию. Оно не принадлежало твоим родителям лично, но… они знали Волошина. Поддерживали его безумный проект. Думаю, это эхо их солидарности с любой попыткой противостоять хаосу и грязи. Даже такой наивной.
Лира стояла, всё ещё дрожа от пережитого. Перо в её руке казалось инородным, чужим и тяжёлым. Оно больше не горело, не вибрировало. Оно было просто холодным куском металла. И внутри неё самой что-то изменилось. Было чувство… пустоты. Не физической усталости, а как будто какой-то ящичек в её сознании, который раньше был плотно набит, теперь оказался приоткрытым и слегка опустошённым.
–Я… я что-то потеряла, – тихо сказала она, не в силах понять, что именно.
Аглая обернулась, и её взгляд стал острым, диагностирующим.
–Что именно? Что ты помнишь о сегодняшнем утре? О Марке?
Лира зажмурилась, пытаясь вызвать в памяти образ. Карта на кухонном столе. Нервные пальцы Марка. Его слова о «тихой зоне» … Всё это было. Но было каким-то… плоским. Как иллюстрация в книге, а не пережитое событие. Она не чувствовала больше того щемящего чувства благодарности и вины перед ним. Эмоциональная окраска стёрлась.
–Я помню факты, – сказала она, и голос её прозвучал чужим. – Но не чувства. Это… это как читать отчёт.
Аглая тяжело вздохнула, и в этом вздохе была вся её тревога и горькое «я же говорила».
–Это цена. Ты вложила в перо свою собственную, живую память, свою эмоцию, чтобы противостоять Шепчущему. А он, в свою очередь, пытался выдернуть твоё воспоминание. В схватке часть твоего личного переживания… испарилась. Сгорела как топливо. Это необратимо, Лира. – Она подошла и положила руку ей на плечо. – Вот почему правила существуют. Вот почему нельзя действовать на эмоциях. Твоя память – это не бездонный колодец. И каждый такой акт делает тебя… менее тобой.
Лира смотрела на пульсирующий звуковой призрак. Цена за него оказалась её собственной, крошечной частичкой себя. Цена за эхо чужой солидарности – её личная солидарность с Марком стала бледной тенью.
–Что же теперь? – спросила она, и в её голосе прозвучала не детская обида, а взрослая, усталая горечь.
–Теперь мы забираем то, за чем пришли. И учимся на ошибке. – Аглая вынула из складок плаща не сосуд, а небольшой мешочек из тёмного, плотного шёлка. – Это не для жидкостей. Это для эфемерного. Для звука, для запаха, для намерения. Помни, как ты направляла луч? Теперь нужно сделать тоньше. Не толкать. Пригласить. Создать для эхо резонансную ловушку.
Лира взяла мешочек. Шёлк был прохладным и скользким. Она снова подняла перо, но теперь её движение было осторожным, почти робким. Она боялась своей собственной силы, своей потери.
–Сосредоточься не на своей воле, а на его природе, – направляла Аглая. – Оно – звук. Оно – гармония. Представь, что твоё перо – это камертон, который может спеть ту же ноту. Найди общий тон.
Лира закрыла глаза, отгораживаясь от мрака подземелья, от страха, от чувства утраты. Она слушала. Семь нот. Грустных, но чистых. Она искала среди них не самую громкую, а… самую устойчивую. Ту, что была фундаментом. Это была нота самой нижней, самой большой цистерны. Глубокий, бархатный гул, похожий на дыхание спящего гиганта.
Она направила перо на звуковой призрак и мысленно попыталась пропеть эту ноту. Не голосом. Всем своим существом. Представила вибрацию в горле, в груди, в костях.
Перо отозвалось. Не вспышкой, а тонким, едва слышным звоном. Высокой, серебристой нотой, которая идеально легла поверх гула, завершив его, сделав его цельным.
Звуковой призрак дрогнул. Он потянулся к перу, как железные опилки к магниту. Мерцающий завиток начал растягиваться, превращаясь в тонкую, светящуюся нить, которая потянулась к острию пера.
– Теперь мешочек, – тихо скомандовала Аглая. – Дай ему путь.
Лира, не прерывая мысленного «пения», поднесла шёлковый мешочек к перу. Светящаяся нить, коснувшись тёмной ткани, вдруг оживилась, завертелась и, как змейка, скользнула внутрь. Мешочек будто вдохнул – его стенки надулись, а затем сжались, приняв овальную форму. Внутри что-то мягко и ритмично пульсировало, отливая перламутровым светом.
Аккорд в зале не прервался. Но он изменился. Из него ушла… напряжённость. Ожидание. Теперь это был просто звук падающей воды – печальный, монотонный, естественный. Магия, державшая его особым образом, исчезла. Эхо было изъято.
Лира опустила руку. Мешочек с тёплым, пульсирующим содержимым висел у неё на ладони, привязанный к её запястью тонким шнурком. Вторая частица пазла. Добыта ценой части её самой.
–Быстро, – сказала Аглая, уже двигаясь к выходу. Её слух, обострённый годами опасности, уловил то, чего не слышала Лира. – Он возвращается. И не один.
Действительно, из дальних тоннелей, откуда скрылся Шепчущий, донёсся новый звук. Не шелест, а глухое, размеренное шарканье. И ещё что-то – лязг, похожий на волочение цепи. И холод – физический, пронизывающий холод, который начал наползать по тоннелю, конденсируясь инеем на ржавых трубах.
Они бросились бежать. Ноги вязли в жиже, спотыкались о скрытый под водой мусор. Светильник Безмолвия в руке Аглаи прыгал, выхватывая из тьмы куски стен, обвалившиеся своды, зияющие боковые ответвления, из которых, казалось, вот-вот выглянут чьи-то лица.
Погоня была слышна за спиной. Шарканье ускорилось. К нему добавился новый звук – тихое, ритмичное поскрипывание, как будто кто-то качался на ржавых качелях. И сквозь все эти звуки пробивался знакомый, ненавистный шёпот, теперь полный ядовитого торжества: «Оста-а-авьте шум… оста-авьте свет… останьтесь с нами… навсегда…»
Они выскочили из широкого тоннеля в более узкий, тот самый, по которому пришли. До выхода на поверхность оставалось, казалось, всего сто метров. Но прямо посередине этого отрезка, в луже стоячей воды, стояло что-то новое.
Это была не человекоподобная фигура. Это был сгусток холода. Бесформенная, колышущаяся масса, похожая на тень от облака, но материальная. От неё исходил такой мороз, что вода вокруг покрылась тонким ледком. Внутри этой массы плавали и сталкивались какие-то тёмные предметы – обломки кирпича, кости, ржавые банки – будто существо состояло из мусора и льда, скреплённых волей Забвения. Цепи, которые они слышали, тянулись от него в темноту боковых тоннелей, но их конца не было видно.
Ледяной Скрежет. Страж водостоков. Существо, не стирающее память, а замораживающее её. Консервирующее в вечном, неподвижном, стерильном холоде.
У него не было глаз, но они почувствовали его внимание. Весь холод сконцентрировался на них.
– Назад! – крикнула Аглая, но сзади уже слышалось шарканье и шепот. Они оказались в ловушке между двумя охотниками.
Лира в ужасе смотрела то на ледяной сгусток, медленно плывущий к ним, то в темноту за спиной, откуда вот-вот должен был появиться Шепчущий со своим «подкреплением». Мешочек с эхом на её руке пульсировал учащённо, тревожно.
Аглая сделала неожиданное. Она не стала искать брешь в стенах. Она схватила Лиру за руку и рванула её вбок, в одно из тех небольших, заваленных мусором ответвлений, которое они проскочили на пути сюда.
Это был тупик. Всего пять метров в глубину, заваленный обломками и капающий водой. Но Аглая знала, что делает. Она подбежала к самой дальней стене, к месту, где из шва между кирпичами сочилась струйка воды, и ударила по нему кулаком, в котором был зажат осколок кристалла из Архива.
– Дом! – крикнула она отчаянно, вкладывая в слово всю свою тоску и потребность. – Дай нам то, что осталось! Одну тень! Одну тень уюта!
Осколок вспыхнул и рассыпался в пыль. И на мгновение… на самое короткое, хрупкое мгновение… в ледяном, вонючем тупике пахнуло домашним теплом. Запахом воска, яблочного пирога и старой бумаги. Прозвучал обрывок мелодии с того самого пианино в гостиной. Это была последняя, самая слабая эманация памяти дома, которую Аглая вытянула, как ниточку.
Для людей это было лишь мимолётным воспоминанием. Для охотников, чьи чувства были настроены на память и её отсутствие, это был ослепляющий всплеск.
Ледяной Скрежет замер, его бесформенное тело затрепетало от противоречия: инстинкт велел заморозить этот яркий, тёплый след, но сам след был таким чуждым, таким «шумным», что вызывал замешательство. Шепчущий, появившийся в основном тоннеле в сопровождении двух более мелких, похожих на сгорбленных тенистых гончих, издал визгливый звук отвращения.
Этого мига замешательства хватило. Аглая, используя последние силы, впихнула Лиру под низко нависающую, полуразрушенную трубу, которая вела в соседний коллектор – не к выходу, а глубже, в другую ветку.
–Ползи! Не оглядывайся!
Лира поползла, царапая колени и локти о ржавый металл. За спиной она слышала яростный, дисгармоничный вой Шепчущего, лязг цепей Ледяного Скрежета и последний, отчаянный крик Аглаи:
–Беги к Измаилу! Он знает другой выход!
Потом звуки стали удаляться, заглушаемые рёвом воды в каком-то новом, незнакомом тоннеле. Лира выползла в другой зал, меньший, и, не разбирая дороги, побежала наощупь, держа перед собой потухший Светильник Безмолвия, как оберег.
Она бежала, не зная куда, с одной мыслью в голове: она одна. Тётя осталась там, в темноте, между двумя охотниками. А у неё на руке пульсирует эхо, купленное ценой её собственной памяти. И теперь ей нужно идти к тому, кто их презирает, – к Измаилу Кроули, переплётчику пустот.
Она спасла эхо. Но потеряла часть себя и, возможно, единственного близкого человека. Подземная река Дыма приняла свою дань. И урок был усвоен куда страшнее, чем любая лекция в Архиве. Магия памяти не прощала ошибок. Она требовала оплаты наличными – кусочками собственной души.
Глава пятая: Узлы и разрывы
Часть 1: Бремя пустоты в карманеТемнота под землёй была не абсолютной. После безумного бега, после того как звуки погони окончательно растворились в грохоте отдалённых водостоков, наступила новая темнота – тихая, измождённая, пронизанная слабыми, больными отсветами. Гниющая древесина где-то фосфоресцировала бледно-зелёным. Стенки трубы, по которой Лира выползла, были покрыты каким-то слизнями, мерцавшими, как тусклые звёзды в чёрном небе. Это был свет распада, свет забвения в процессе работы. Он не освещал путь, а лишь подчёркивал ужас окружения.
Лира прислонилась к холодной, мокрой стене, судорожно ловя воздух. Горло саднило, в боку кололо. Светильник Безмолвия погас – видимо, заряда хватило только на время активного использования. Он был теперь просто тяжёлой железной безделушкой в её руке. Единственным источником живого света было эхо в шёлковом мешочке на её запястье. Его перламутровые пульсации были слабы, но упрямы. Они отбрасывали на стены призрачные, пляшущие тени.
Она была одна. Осознание этого ударило не сразу. Сначала был животный страх, инстинкт бегства. Потом – леденящая, тошнотворная пустота на месте воспоминания о Марке. А теперь, в этой гнетущей тишине, пришло понимание: тёти Аглаи нет рядом. Не будет её спокойного, твёрдого голоса, её решений, её защиты. Последнее, что Лира слышала – её крик: «Беги к Измаилу!»
Измаил. Переплётчик, который их презирал. Единственная ниточка.
Лира заставила себя думать. Она была в неизвестной ветке коллектора. Вода здесь текла не потоком, а редкими, грязными каплями, падающими в стоячие лужи. Воздух пахло металлической пылью и чем-то кислым, как уксус. Она попыталась вспомнить схему, которую показывал Марк, но карта в её голове была размытой, лишённой деталей. Она помнила, что «Аудитория» была на севере. А мастерская Измаила – на Старой Пристани, что на юго-востоке. Значит, нужно было двигаться вниз по течению? Но течение здесь было едва уловимым.
Она потрогала перо на груди. Оно было холодным и молчаливым. Она попыталась настроиться на него, как учили: пассивно, слушая. Но вместо тонких вибраций памяти места её накрыла волна собственного страха и одиночества. Она слишком громко звучала внутри себя, чтобы услышать что-то извне.
Тогда она посмотрела на мешочек с эхом. Оно пульсировало ровно, как маленькое, светящееся сердце. И вдруг она подумала: а что, если само эхо может быть проводником? Не к следующему эху, а к… к сочувствию? Измаил знал Волошина. Он помнил его проект. Может, эхо этой идеи отзовётся на того, кто с ней соприкасался?
Это была безумная надежда. Но другой у неё не было.
Лира осторожно развязала шнурок и высыпала светящееся содержимое мешочка себе на ладонь. Это не была материальная субстанция. Это был сгусток света, тёплый и упругий, как мыльный пузырь, который не лопался. Внутри него мерцали крошечные, сложные узоры – визуализация той самой семинотной гармонии.
Она поднесла его к своему перу, не знаю, что ожидает. Перо не отреагировало. Тогда она, зажмурившись, попыталась вложить в эхо вопрос: Где тот, кто помнит тебя? Где Измаил?
Эхо не ответило словами. Оно… зазвучало тише. Его внутренний свет сместился, и один из семи узоров – тот, что соответствовал самой низкой ноте, – начал светиться ярче других. И почувствовался… толчок. Слабый, как дуновение, но направленный. Не вдоль тоннеля, а вбок, в каменную стену.
Лира уставилась на стену. Это был сплошной, старый кирпич. Но эхо явно тянуло туда. Она подошла ближе, прижала ладонь со светящимся сгустком к влажной поверхности. И тогда она почувствовала. Не рукой. Тем самым новым, испуганным чутьём, что обострилось в подземелье.
За стеной была не земля. Там была пустота. Не физическая пустота, а пустота забвения. Своего рода шрам, тоннель в памяти места, где когда-то что-то было, а теперь осталась лишь выглаженная, стерильная дыра. И эта дыра вела… куда-то.
«Он знает другой выход», – сказала Аглая. Измаил, латающий пустоты. Может, он не только латал, но и пользовался ими? Как червоточинами в сырной головке реальности?
Мысль была пугающей. Но позади была тьма, полная охотников. Впереди – непроходимые лабиринты. А здесь – направление.
Лира огляделась, ища что-то, чем можно было бы работать. Её взгляд упал на груду мусора в углу: обломки кирпича, палку, тряпку. Ничего полезного. Она снова посмотрела на перо. Оно все ещё молчало. Но что, если… что, если не пытаться активировать память камня, а попробовать взаимодействовать с самой пустотой? С отсутствием памяти?
Это противоречило всему, чему её учили. Память – это сила. Пустота – это враг. Но Измаил говорил, что пустота имеет узор. И её эхо тянуло именно к узору пустоты в стене.
Она сделала глубокий вдох, прижала сгусток эха к стене в том месте, где чувствовала «шрам», и направила острие пера не на кирпич, а на само эхо, на тот яркий узор низкой ноты. Она не вкладывала силу. Она, наоборот, попыталась снять с пера его собственную, природную склонность к памяти. Представить, что оно становится не ключом, а… пробкой. Инструментом тишины, вроде Светильника Безмолвия, но тоньше.
Перо дрогнуло. Не так, как раньше. Оно не стало тёплым. Оно стало… нейтральным. Безразличным. Из его острия не полился свет, а, казалось, потянулась тончайшая нить тени, которая коснулась светящегося узора на эхе.
И произошло нечто парадоксальное. Яркий узел на эхе не погас. Он стал резче, чётче, но при этом потерял связь с остальным узором. Он будто выделился, стал самостоятельным. А стена перед ним… не растворилась. Она стала призрачной. Не прозрачной, а нереальной. Кирпичи потеряли текстуру, глубину. Они выглядели как плоская декорация, нарисованная на чёрном бархате. И в центре этой декорации зияла дыра. Не пролом. Дыра в самой реальности. Чёрный, бездонный, идеально круглый проём диаметром с тарелку.
Из него не пахло ничем. Абсолютно. Это было самое пугающее.
Эхо на её ладони потянулось к этой дыре. Узор-ключ вибрировал.
Лира понимала, что это ловушка. Это могло быть прямой дорогой в пасть какому-нибудь Пожирателю Эха. Но крик Аглаи звучал в ушах: «Беги к Измаилу!»
Она не полезла в дыру сама. Она сделала следующее: осторожно, словно поднося угощение дикому зверю, поднесла сгусток эха прямо к чёрному кругу.
Эхо коснулось края дыры – и мгновенно было втянуто внутрь без малейшего звука. Свет исчез. Но связь не прервалась. Лира чувствовала слабый, нитевидный след, тянущийся от неё через дыру. Эхо было там, по ту сторону. И оно звало.
Она засунула руку в отверстие. Ожидала холода, боли, отсечения конечности. Но ничего. Рука исчезла по локоть в идеальной черноте, но она всё ещё чувствовала её. Было ощущение… пустоты. Не вакуума, а отсутствия всего: температуры, сопротивления, времени.
Собрав всю свою волю, Лира шагнула вперёд, в дыру.
Мир перевернулся. Вернее, его не стало. Не было ощущения движения. Был мгновенный переход из одного состояния в другое: из холодного, вонючего, тёмного тоннеля – в сухое, тёплое, тускло освещённое пространство, пахнущее кожей, клеем и полынью.
Она стояла посреди мастерской Измаила Кроули. Прямо перед его рабочим столом.
Старик не вздрогнул. Он даже не поднял головы от своей работы – он сшивал что-то, похожее на пергаментный свиток с куском выцветшей кожи. Его длинные, костлявые пальцы двигались с гипнотической точностью.
– Намусорила, – сухо произнёс он, не глядя на неё. – Притащила в мою чистоту шум и влагу с подземки. И потратила ценный фрагмент резонанса, чтобы пройти через дыру, которую я зашивал три месяца. Глупо.
Лира, всё ещё не веря, что она здесь, спаслась, могла только выдохнуть:
–Тётя… Аглая… она…
–Задержала гостей. Знаю. Слышал всплеск. Грубый, топорный, но эффективный. – Он наконец оторвал взгляд от работы и посмотрел на неё через толстые линзы. Его глаза были красными от усталости, но также беспощадно остры. – Она жива. Пока. Иначе ты бы не стояла здесь. Ты бы уже стала частью фона. Садись. Ты мешаешь свету.
Он кивнул на табурет в углу. Лира, почти падая от слабости, послушалась. Она сидела и смотрела, как его игла входит и выходит, сшивая не сшиваемое, и чувствовала, как внутри неё что-то дикое и дрожащее наконец начинает затихать. Она была в логове затворника. В безопасности. На время.
И только теперь она позволила себе осознать всю глубину своей потери. Не только пустоту на месте воспоминания о Марке. Но и тяжесть того, что она оставила там, в темноте. И холодное знание: чтобы двигаться дальше, ей придётся научиться понимать узоры не только памяти, но и забвения. И учителем будет этот странный, злой старик, который ненавидел всё, во что она верила.
Часть 2: Уроки латанияМастерская поглотила её – не тепло, а статичное, сухое тепло забвения о времени. Тиканье часов, которое она смутно помнила из дома, здесь отсутствовало напрочь. Было только тихое шуршание иглы, скользящей сквозь пергамент, да собственное, ещё учащённое дыхание Лиры. Она сидела на табурете, вцепившись в его края побелевшими пальцами, и смотрела, как руки Измаила творят своё невозможное ремесло.