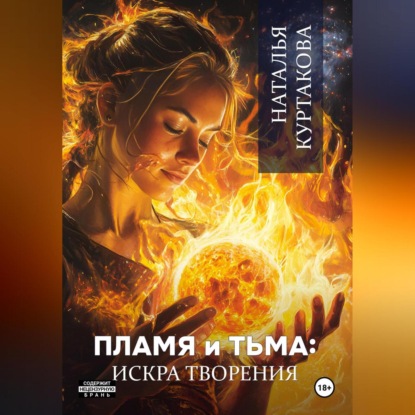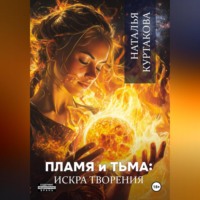Полная версия
Пепел и Прах
– Зачем тебе… – начал он, и слова тут же вязли в горле, как комья холодной грязи. – Там не змеиное гнездо. Там – дно. Самое дно, куда оседает всякая дрянь, которой уже нечего терять. Сволочь на сволочи. Убьют там не за кошелек – за сапоги, за взгляд, за то, что тень твоя не понравилась. Сожрут и не поперхнутся.
– Не страшнее Фотсменов, – отрезала она, не давая договорить. Каждый слог – отточенный клинок, готовый к удару. В ее глазах горела уверенность того, кто уже прошел через самое страшное. – Я видела резню. Видела предательство. Я знаю, на что способны «благородные» дома. Уличный сброд не изобретет ничего нового.
Борей горько, почти яростно усмехнулся.
– Фотсмены? – выплюнул он. – Дорогая моя, Фотсмены со своими интригами и казнями – лапочки, воспитанные в бархате и золоте, по сравнению с теми, кто выживает в Тебризе. Твои благородные советники режут горло по правилам, пусть и своим, изуверским. А там, внизу, – он мотнул головой в сторону города, – водятся крысы. Голодные, бешеные, зараженные чумой. Они не станут тебя убивать. Сначала будут мучить, потому что могут. Потом продадут по частям тому, кто заплатит. А твой нерожденный ребенок… – его голос сорвался, но он заставил себя говорить, вбивая в ее сознание жуткую правду, – …для них будет диковинкой, игрушкой. Будут спорить, кому достанется твой труп, чтобы вырезать его на сувенир. Ты думаешь, самое страшное уже случилось? Ты даже не представляешь, какое дно еще существует. Ты – дитя каменных стен, ты не знаешь, что такое настоящая, животная грязь.
Элисфия слушала, и ее уверенность пошатнулась, но не сдавалась. Юность и неопытность заставляли ее верить, что боль Элимии – это предел, за которым уже не может быть ничего хуже. Это была защитная реакция души, отказывающейся принимать, что мир может быть еще более безнадежным.
– Ты преувеличиваешь, – сказала она, но в ее голосе уже не было прежней стальной уверенности, прозвучала трещина. – Чтобы запугать. Я должна это сделать. И ничто меня не остановит.
Именно эта слепая, отчаянная решимость, смешанная с наивным неверием в глубину падения, и вывела его из себя окончательно.
– Ты спятила с голодухи и горя! – вырвалось у него хрипло, с отчаянной, почти животной надеждой встряхнуть ее, вернуть к реальности. – Еле ноги волочила, чуть не сдохла, а теперь в эту гнилую пасть лезть?! Они тебя сожрут заживо, девочка! Сожрут и не заметят!
– Ты отвезешь меня, – ее голос не повысился ни на йоту, но в нем зазвенела та самая сталь, что режет любые аргументы, – или я пойду сама. И тогда я точно не вернусь. Выбор за тобой.
Они замерли. Воздух в хижине сгустился, наполнившись немым, яростным поединком воль. Взгляд Борея – испуганный, яростный, умоляющий – уперся в ее холодный, абсолютно непоколебимый, пустой. И дрогнул. Плечи его бессильно опустились, сдаваясь под натиском ее отчаянной решимости.
– Ладно… Черт с тобой, пропадай обе… – прошелестел он, отвернувшись к окну, где в серой дымке маячило зловещее, ненавидящее все живое Око. – К вечеру вернемся. Ни минутой позже. Иначе Юра нас обошьет.
Покинув угнетающую тишину жилища Миствуд, они направились к одному из бесчисленных протоков Моряновых рек. Тропа была черной от ночного ливня, размокшей и скользкой. Земля чавкала под сапогами, липкая и холодная, обволакивая подошвы тяжелым, удушающим запахом гниющих водорослей, сырой коры и далекой, едкой гарью Тебриза, который лежал внизу, как гнойная, вскрывшаяся язва на лице земли, окутанный грязно – серой, ядовитой дымкой.
Из тумана, словно порождения самой этой гнили, вынырнули двое.
Оборванные, с лицами землистого, болезненного цвета, будто вылепленными из грязи и отчаяния. Один, проходя вплотную, намеренно, с силой толкнул Элисфию корявым, костлявым плечом.
– Ого! – хрипло цокнул он, оскалив беззубый, гнилой рот. Волна гнилостного, спиртного дыхания окутала Элисфию, заставляя ее задохнуться. – Брюхатая падаль по нашим болотам шляется! Ишь, живот – то выставила, как королева перед холопами!
Его спутник, воняющий перегаром дешевого эля и застарелым потом немытого тела, фыркнул, брызгая желтоватой слюной:
– Да не падаль, дурень! Глянь – ка плащ – хоть и замызган, а барское сукно! Может, услужим, а? Пару медяков срубим, скажем, где таких от плода избавляют? – его грязный, с обломленным ногтем палец резко, оскорбительно тыкнул в сторону ее живота. – Знаем мы одну шлюхину кузню у Вечных ворот… За медяк скажем куда топать, а? Быстро, чисто, хоть и не без последствий…
Балитер, будто раненый вепрь, почуявший угрозу, вздыбился. Ярость, мгновенная, слепая и первобытная, исказила его грубые черты. Жилы на шее налились кровью, слюна брызнула с губ, когда он зарычал, низко и хрипло, как разъяренный кабан, готовый растерзать:
– Сукины выродки! Червям кормиться вашими кишками! Провалитесь в эту вонючую жижу и сгниете!
Сталь его тесака, тяжелого и тусклого, но оттого не менее смертоносного, блеснула у пояса, выдернутая наполовину. Мужики, бормоча грязные, бессвязные ругательства про «проклятых чужаков» и «бешеных псов», шарахнулись в сторону, спотыкаясь о кочки, и растворились в серой, равнодушной мгле так же быстро, как и появились, оставив после себя лишь въедливую вонь и тягостное, липкое ощущение осквернения.
Элисфия стояла, прижав ладонь к горлу, будто пытаясь выдавить из себя тот отравленный, мерзостный воздух, которым дышали эти люди. Жаркий стыд пылал у нее под кожей, а в горле стоял ком, не дающий вздохнуть. Ее тело дрожало мелкой, неконтролируемой дрожью – не только от животного страха, но и от унизительной, гнетущей грязи происходящего. Прикосновение того грязного пальца, тыкавшего в ее живот, оставило невидимый, но жгучий след, как от ожога.
Она глубже втянула голову в капюшон, словно пытаясь исчезнуть, сжалась в комок под плащом, чувствуя, как огненная волна стыда и ярости заливает лицо. Брюхатая падаль… Слова звенели в ушах, острые, постыдные, но оттого – правдивые. Знаем, где таких от плода избавляют…
Борей, все еще тяжело и хрипло дыша, резко, почти с яростью, схватил ее за локоть – не помогая, а таща, будто груз. Его пальцы впились в ткань плаща со звериной силой отчаяния и ярости, так что она вскрикнула от неожиданной, резкой боли.
– Двигайся! – прорычал он сквозь стиснутые, скрипящие зубы, его взгляд, дикий и невидящий, метнулся по туману, выискивая новую, невидимую угрозу. – Здесь оставаться – смерти искать похлеще, чем в бою! К лодке! Быстро, пока другие стервятники не слетелись!
Он почти потащил ее по топкой, предательской тропинке, вниз, к черной, маслянистой ленте воды, едва видной сквозь пелену. Ноги Элисфии заплетались, подошвы скользили по мшистым, скользким камням и вязкой грязи. Она спотыкалась, падала на одно колено, но его железная, безжалостная хватка не отпускала, не давая упасть, лишь подстегивая, таща вперед, к спасению, к гибели – она уже не понимала. Запах болота, гнили, человеческих испражнений и собственного страха смешивались в горле в один горький, тошнотворный ком.
Лодка – утлая, жалкая скорлупка из почерневшего от времени и воды дерева, привязанная к покосившемуся, подгнившему колу – жалобно заскрипела, едва Балитер грубо, одним движением оттолкнул ее от вонючего берега, почти вбрасывая Элисфию внутрь. Она упала на жесткую, холодную скамью на носу, спиной к угасающему, словно призрак, силуэту города за туманом, лицом – к белесой, непроглядной, пустой пустоте впереди. Сердце колотилось так бешено и громко, что, казалось, вот – вот выпрыгнет из груди и упадет на мокрые, скользкие доски днища. Она инстинктивно, судорожно, с силой обхватила руками живот, не столько защищая, сколько пытаясь вдавить, спрятать, уничтожить этот позорный, ненавистный выступ, ставший мишенью для всего грязи этого мира.
В ушах, не умолкая, стоял тот хриплый, мерзкий голос: «Брюхатая падаль…»
Борей, тяжело опустившись на кормовую скамью, с глухим стуком схватил весла. Его лицо в полумгле казалось вырубленным из того самого кровавого базальта Хеллфортов – жестким, непроницаемым, вечным. Лишь неестественно сжатые челюсти и тяжелое, с присвистом, дыхание выдавали бурю, бушующую внутри. Сталь тесака тупо блеснула у его пояса, когда он двинулся, упираясь веслами в илистое, вязкое дно, чтобы оттолкнуться. Лодка дрогнула, жалобно заскрипела и закачалась, черная, маслянистая вода с тихим шлепком принялась бить о борт.
Тишина повисла между ними, густая, тягучая, зловещая, как сам туман. Только скрип уключин, мерзостные всплески весел да собственное бешеное, предательское сердцебиение слышала Элисфия. Стыд, страх, гнев и отчаяние – все смешалось в ней в один тугой, давящий на грудь клубок, который душил горло, не давая дышать. Она не могла больше молчать. Не могла.
– …Падаль… – прошептала она, и голос сорвался, зазвучал чужим, сдавленным, разбитым. – Так они меня назвали. – она подняла глаза на Борея, ища в его неподвижной, каменной фигуре хоть каплю понимания, оправдания, защиты от этого всепоглощающего унижения. Но его взгляд был устремлен куда – то в серую, безнадежную даль за ее спиной, в прошлое, полное таких же теней, грязи и крови. Молчание было ее единственным ответом. И оно ранило больнее, чем любой нож, острее, чем любое слово. Казалось, даже скрип уключин и шлепки весел по черной, мертвой воде затихли в тяжком, унизительном ожидании.
Балитер резко, судорожно дернул головой, словно стряхивая наваждение, пытаясь сбросить с себя невидимые оковы. Его пальцы, до белизны сжимавшие древко весла, разжались на мгновение, потом впились в дерево с новой, яростной силой. Он сделал глубокий, хриплый, с надрывом вдох, будто перед прыжком в ледяную, смертельную воду. Когда он наконец заговорил, голос прозвучал неестественно громко в этой внезапной, гнетущей тишине, сорванный, как рваная мешковина, грубый от сдерживаемой ярости и чего – то еще, какого – то глубокого, непонятного Элисфии стыда:
– Падаль… – повторил он ее слово, и оно прозвучало как плевок на грязную, безразличную воду. Он все еще не смотрел на нее, его взгляд буравил мутную, маслянистую рябь за кормой, будто там, в темной глубине, была написана его собственная, горькая и бесполезная исповедь. – Говорят, что хотят. Что у них на языке. Но ты… – он снова замолчал, сглотнув ком, застрявший в горле. – Ты… все взвесила? По – настоящему? Понимаешь? – его голос понизился, стал каким – то мертвым, пустым. – Живот – то… – он сделал короткий, резкий, почти отвращенный жест подбородком в ее сторону, так и не поворачивая головы, – он уже не прячется. Как шиш на роже. Всем видно. Все понимают.
«Стыдится? – мысль пронзила Элисфию ледяной, ядовитой иглой. – Как падальщик стыдится своей добычи. Стыдится меня. И правильно. Это его вина. Его крест. Его грязь на моей жизни.»
– Все решено, – отчеканила она, глядя прямо перед собой, на расстилающуюся перед лодкой серую, безразличную гладь Моряны, в водах которой, казалось, растворились все ее слезы.
Вокруг, словно призраки, покачивались другие лодки – такие же утлые, такие же гнилые. Воздух густо, почти осязаемо пропитали запахи: рыбьей чешуи, тины, гниющего дерева и чего – то еще – тяжелого, металлического, неживого, что исходило от самого Тебриза. Город – Хеллфорт давил на грудь невидимой, но физически ощутимой тяжестью, а черное, пустое Око на холме, казалось, следило за их утлой, жалкой лодочкой, излучая немую, всепоглощающую, древнюю злобу.
– Его тебе ЖАЛКО?! – крик сорвался с ее губ, дикий, хриплый, нечеловеческий, рвущий горло, рожденный в самых глубинах истерзанной души. Она впилась пальцами в округлость под плащом, в этот ненавистный, чужой шар плоти, с такой силой, что готова была разорвать собственную утробу, выдрать с корнем, выжечь каленым железом. – А МЕНЯ?! Меня тебе не было жалко, когда Рамон впервые вошел ко мне в девять лет, разорвав все внутри, а я кричала так, что горло кровоточило?! Когда он избивал меня до полусмерти за каждый неверный взгляд, за каждое слово, за каждый вздох, который ему не понравился?! Когда запирал в той крошечной коморке, где даже нельзя было выпрямиться, и приходил каждый день, каждый день, чтобы издеваться, глумиться, насиловать снова и снова, шепча на ухо, что это и есть истинные отношения между мужем и женой?! Что он так воспитывает из меня верную и преданную суку, которая будет лизать ему руку за подачку?!
Она задыхалась, слезы и слюна текли по ее подбородку, но она не замечала этого. Глаза ее горели, как раскаленные добела угли, полные такой ненависти, что, казалось, воздух вокруг начал трещать.
– А настой чертового корня?! – выла она, хватая себя за живот обеими руками, будто пытаясь выдрать его вместе с памятью. – Я пила его годами! Годами, Борей! Эта горечь во рту, эта боль в животе, эта дрожь – это была моя единственная защита! Моя маленькая, жалкая победа! Но Диона, эта сумасшедшая, прознала! И рассказала ему! И он… он избил меня так, что я неделю не могла встать! А потом запер. На тридцать четыре дня, Борей! Тридцать четыре дня в этой каменной могиле! И он приходил. Каждый. Проклятый. День и ночь. И делал свое дело, зная, что теперь уж точно все получится! И получилось! – ее голос взлетел до пронзительного визга. – А потом они все, ВСЕ пришли! Грир, Рьяна, сама Диона! Они устроили представление! Она засунула в меня свои холодные пальцы, щупала, оскверняла, а они стояли и смотрели! СМОТРЕЛИ, БОРЕЙ! И улыбались! Этот ребенок – не невинность! Он – печать моего позора! Последний акт их издевательства! И ты говоришь: «ЖАЛКО»?! Я носила в себе его ненависть с девяти лет! Я выросла в его кулаках! Я дышала его гнилью! И теперь должна родить ему памятник?! ЧТОБЫ ОН ВСЕГДА БЫЛ СО МНОЙ?!
Она стояла, вся дрожа, как в лихорадке, ее грудь судорожно вздымалась. Казалось, сама плоть вокруг нее должна была обуглиться от этой испепеляющей ярости.
– Ты МОГ! – прошипела она уже почти беззвучно, но с такой концентрацией ненависти, что слова жгли, как кислота. – Мог разбить ему голову тем самым копьем, что так хитро припрятал! Мог подарить мне нож и научить, куда его вонзить! Но ты предпочел СМОТРЕТЬ! МОЛЧАТЬ! ЖДАТЬ! И теперь, когда я наконец нашла в себе силы ВЫПЛЮНУТЬ эту гадость, ты смеешь говорить о жалости?! Жалко этого ублюдка, в жилах которого течет кровь насильника и одобрение его семьи?! Этого червя, эту пиявку, эту гадину, что выросла на моей боли и теперь сосет из меня жизнь, каждым ударом своего сердца напоминая о них?! Я НЕНАВИЖУ его! Ненавижу так, как не ненавидела никого! И я его убью! Я ВЫРЕЖУ его из себя и брошу на съедение воронам! И если ты посмеешь встать у меня на пути…
Борей съежился, будто от удара бича. Весла выпали из его ослабевших рук, глухо, безнадежно шлепнувшись о воду. Лицо стало землистым, мертвенным, под глазами выступили темные, как синяки, круги, щеки пылали багровыми пятнами жгучего, бесполезного позора. Он уткнулся взглядом в мокрые, грязные доски на дне лодки, словно искал там спасения, ответа, прощения, но находил лишь собственную трусость и расчет.
– Прости. – выдавил он, и это слово было похоже на предсмертный стон, полный такой беспомощности и саморазрушения, что стало ясно – защиты не будет. Оправданий – тоже. – Не все… не все так просто было… Не мог я…
Он не договорил. Не смог. Да и не нужно было.
И тут с ней случилось странное. Словно прорвало последнюю, сдерживающую ад плотину. Вся ярость, все отчаяние, вся накопленная за годы боль выплеснулись наружу в том последнем, оглушительном крике – и схлынули. Унеся с собой не только силы, дрожь в коленях и жар в щеках, но и последние остатки… чего бы то ни было. Надежды? Веры? Даже ненависти, такой жгучей и живительной секунду назад.
Она не рухнула на дно лодки. Не разрыдалась. Она просто… выдохнула. Длинно, медленно, будто выпускала из легких тот самый отравленный воздух Элимии, что носил в себе все эти годы.
– Разумеется, – прозвучало тихо, ровно, без единой эмоциональной трели.
Ее голос был теперь похож на гладкий, холодный, отполированный до зеркального блеска камень, упавший на дно колодца. Беззвучный всплеск – и лишь равнодушная глубина в ответ. Вся ее пылающая ярость сжалась внутрь, превратившись в нечто твердое, тяжелое и невероятно холодное. В леденящую, абсолютную пустоту и странное, почти неестественное, зловещее спокойствие.
Она медленно, с почти механической точностью, опустилась обратно на сиденье. Движения были выверенными, лишенными суеты. Она поправила сбившийся плащ, отряхнула с подола капли черной воды. Пальцы не дрожали. Взгляд, устремленный куда – то вперед, поверх головы Борея, в серую мглу, был чистым, ясным и пустым, как вымершее озеро. В нем не осталось ни упрека, ни боли, ни вопроса. Только решение. Окончательное и безоговорочное.
Тишина, наступившая в лодке, была уже иной. Не тягостной, не злой. Она была… мертвой. Борей сидел, не в силах пошевелиться, не в силах вымолвить слово, подавленный не криком, а вот этим внезапным, леденящим душу спокойствием. Оно было страшнее любой истерики. Он видел – в ней что – то сломалось. Окончательно и бесповоротно. И на месте сломанного выросло нечто новое. Хрупкое, как лед, и столь же безжалостное.
– Прибыли, – процедил Борей, вскакивая с сиденья. Лодка закачалась. Он протянул руку, чтобы помочь ей подняться, его пальцы сжали ее локоть с силой, граничащей с болью. – Держись крепче. Добраться до улиц Ока – то еще испытание. Не утонешь – задохнешься.
Он не преувеличивал. Прямо перед ними, из воды поднималась исполинская, циклопическая стена Хеллфорта, сложенная из грубых глыб «кровавого базальта». Камни, темные, с ржавыми прожилками, казались пропитанными вековой скверной, они нависали над самой водой, уходя ввысь и теряясь в серой пелене неба. Стена была пронизана теми самыми зловещими «швами» из более светлого камня, которые при ближайшем рассмотрении напоминали мертвенные, бледные рубцы на теле исполина. У ее подножия кишела жизнь, но жизнь уродливая и призрачная – гигантский, шаткий частокол из мачт и корпусов всех мастей, образующий зыбкий, ненадежный мост к единственному видимому входу – черной, словно провал в небытие, арке, ведущей в каменное чрево крепости.
От самого края зловонной воды и на десятки шагов вглубь тянулся этот хаотичный, шаткий лес. Лодки – большие, маленькие, полуразвалившиеся, похожие на скелеты доисторических чудовищ – стояли в пять, а то и шесть рядов, плотно притиснутые друг к другу. Они качались на маслянистой воде, скрипели, стонали, сталкивались бортами с глухим стуком. Воздух здесь был густым и тяжелым, пахший гниющими отбросами, стоячей водой, потом и чем – то еще – металлическим, затхлым, словно сама каменная плоть Хеллфорта дышала на них своим могильным холодом.
Элисфия шла следом за Бореем, сердце колотилось где – то в горле. Ноги подкашивались, скользили по мокрым доскам. Несколько раз она едва не рухнула в черную, маслянистую воду между лодками, но его сильная рука резко хватала ее за плащ, ставя на ноги с грубоватой командой: "Смотри под ноги!". Когда ее сапоги наконец ступили на вязкую, утоптанную грязь настоящей земли, она выдохнула с таким облегчением, будто сбросила камень.
– И… обратно… тем же путем? – выговорила она, пытаясь отдышаться, оглядывая жуткий плавучий барьер.
– А ты как думаешь? – Борей уже высматривал что – то в толпе, снующей по узкой набережной. Его взгляд скользил по лицам, выискивая кого – то или что – то. – Рынок – прямо по этой улице. Иди, главное – никуда не сворачивай и не разговаривай ни с кем.
Она схватила его за рукав, почувствовав, как холодный страх сковывает грудь.
– Ты… ты не пойдешь со мной? – Голос дрогнул. Она никогда не была одна. Никогда. Перспектива остаться без его хоть и сомнительной, но защиты в этом людском муравейнике пугала до паники.
– Нет. Мне нужно кое – куда. Срочно. – Он не смотрел на нее, его внимание было приковано к толпе. – Некогда объяснять. Как закончишь – жди меня здесь. Тут. У этого столба. Только здесь. Поняла?
Не дожидаясь ответа, Борей Балитер резко дернул руку, высвобождаясь из ее хватки, и растворился в потоке серых, сгорбленных фигур, сновавших как крысы в подвале.
Элисфия замерла на мгновение, ощутив ледяную пустоту внутри. Потом глубже натянула капюшон, стараясь стать невидимкой, слиться с грязной стеной покосившегося дома. Она чувствовала себя потерянным щенком. Кто – то грубо толкнул ее в больное плечо.
– Чего встала? – прохрипел пьяный голос. – Иди куда шла, не загораживай дорогу!
Элисфия потупила взгляд и зашагала туда, куда указал Борей, прижимаясь к стенам, словно боясь, что шаткая земля Ока поглотит ее.
Город давил. Серый, вонючий, пропитанный отчаянием. Воздух был густым коктейлем из вони нечистот, тухлой рыбы, гниющих отходов и той самой гарью, что висела над Тебризом. В узких переулках, вымощенных скользким от грязи булыжником, сточные канавы переполнялись, образуя зловонные лужи, в которых копошились крысы. Элисфия шла, прикрывая рот и нос краем плаща, борясь с тошнотой.
Она поднимала глаза на лица прохожих. Они были такими же серыми и изможденными, как и их одежда. Многие тоже прикрывали лица тряпками.
Она последовала их примеру, но легче не стало – запах пропитал все.
Хруст под ногой заставил ее вздрогнуть. Она посмотрела вниз – рыбья кость. Еще одна. И еще. И доски, брошенные поверх самых глубокых луж, трещали под ее шагами. И вот он, рынок. Скопление людей здесь было в разы плотнее. Элисфии пришлось буквально протискиваться между телами, чувствуя на себе чужие взгляды, ощущая толчки.
Торговцы, засевшие в грязных палатках цвета дорожной пыли, орали, зазывая покупателей к своим скудным товарам: вялой рыбе, подозрительному мясу, увядшим кореньям. Их крики сливались со скрипом телег, везущих тяжелые бочки, с руганью, смешками, плачем детей. Где – то в этом хаосе терялся голос старика, монотонно бубнящего под аккомпанемент расстроенной лютни о подвигах рыцарей, которых здесь явно никогда не было.
Элисфия на секунду задержала взгляд на старике – обрывки знакомых легенд пробивались сквозь шум. Но времени не было. Ей нужно было найти травы. Ее поиски были недолгими. Нужная палатка выделялась, как яркий маков цвет в пепле. Она была не серой, а из пестрой, хоть и поношенной, ткани. Травы внутри лежали не кучей, а аккуратными пучками. И сама торговка – женщина лет сорока с безупречно гладкой кожей и длинными, черными как смоль волосами, заплетенными в толстую, тяжелую косу. Ее глаза, темные и невероятно живые, мгновенно оценивали покупателя. Она улыбалась – теплой, знающей улыбкой – и каждому находила нужные слова. Каждому, кто подходил к ее прилавку.
Каждый мешочек с травами был аккуратно перевязан яркой ленточкой и украшен маленькой табличкой из светлого мангового дерева с выжженным золотом названием снадобья.
Но когда взгляд торговки упал на Элисфию, стоявшую чуть в стороне, улыбка мгновенно исчезла. Заменилось она внимательным, изучающим взглядом. Когда основной поток покупателей схлынул, торговка сама обратилась к ней. Голос был тихим, но он пробил шум рынка, как игла.
– Что – то темное задумала, дитя, – произнесла она, не отрывая взгляда от пучка какой – то травы в своих руках. – Тень легла на твое лицо. Густая тень.
Элисфия почувствовала, как земля уходит из – под ног, кровь отливает от лица.
– Я… просто смотрю, – пробормотала она, сама не понимая, зачем лжет. Она пришла сюда за конкретным, и уйти без него не могла. Но что – то в этой женщине, в ее проницательности, вызывало животный страх.
Торговка медленно подняла голову. Ее темные глаза встретились с зелеными глазами Элисфии. Это был не взгляд, а прикосновение лезвия.
– Смотришь? Или ищешь? Ищешь то, что смоет вину? Что отмоет грех, который еще даже не свершился, но уже давит тебе на душу? – Голос оставался тихим, но каждое слово било точно в цель.
Элисфия сглотнула комок в горле. Пальцы вцепились в край плаща. Нужно было сказать. Сейчас.
– Мне нужно… – голос сорвался, она заставила себя выговорить, – мне нужно избавиться. От того, что внутри.
Торговка не моргнула. Лишь чуть приподняла тонкую бровь. Потом ее губы тронула не улыбка, а скорее печальная гримаса понимания.
– Нелегкую ношу выбрала себе, дитя. Нелегкую. – Она покачала головой. – Жизнь за жизнь. Таков закон. Готова ли ты заплатить эту цену? Свою? Его? Не пожалеешь? Искра эта – чиста, она не виновата в грехах отца.
– Я все решила. – Сердце Элисфии колотилось так, что, казалось, вырвется из груди. – Я не знаю ваших лесов, ваших трав. Помогите.
Торговка вздохнула, глубоко и тяжело. Ее пальцы, тонкие и ловкие, начали перебирать мешочки на прилавке, но движение было медленным, нерешительным.
– Помочь… могу. Но знай, дитя: каждое снадобье имеет свою цену. И речь не о серебре или золоте. Цену назначают не люди. – Она посмотрела Элисфии прямо в глаза. – Цену назначают боги. Или силы, которым ты служишь. Ты готова принять их суд? Нести это бремя?
– С богами я разберусь сама, – отрезала Элисфия, в голосе прозвучала прежняя, знакомая Борею упертость. – Просто дайте мне то, что нужно.