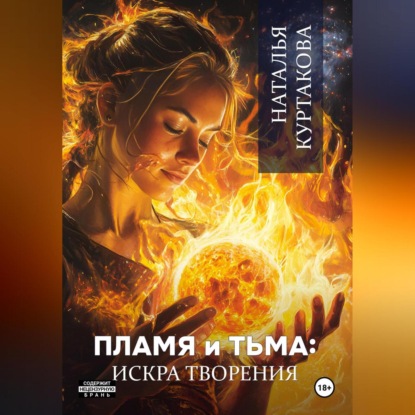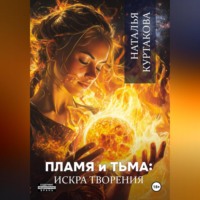Полная версия
Пепел и Прах
Боль была белой. Белой и ревущей. Она смывала все, как волна прибоя, и он тонул в ней, захлебывался, чтобы на мгновение вынырнуть, судорожно глотая спертый, прокопченный воздух. В эти краткие мгновения ясности он видел ее. Адею. Она сидела на табурете у стены, ее руки безвольно лежали на коленях, а взгляд был пуст и направлен куда – то сквозь него, сквозь стены, в никуда. Он попытался сказать ей что – то, просить прощения, назвать ее имя, но из горла вырывался лишь хрип, похожий на предсмертный хрип утопающего.
Маргарита обрабатывала раны. Ее движения были резкими, безжалостными и точными. Она ощупывала его ребра, и Раймонд, стиснув зубы, закусил нижнюю губу, пока не почувствовал во рту теплый, соленый вкус крови.
– Что случилось, Виктор? – ее голос был низким, натянутым, как тетива. – Говори. На вас напали? Разбойники в горах?
Раймонд молчал, пытаясь совладать с новой волной тошноты и боли. Ответ пришел из угла. Тихий, ровный, лишенный всякой интонации голос Адеи прозвучал, как погребальный колокол.
– У меня был ребенок.
Руки Маргариты замерли. Гордон застыл, не ослабляя своей медвежьей хватки. В комнате воцарилась тишина, такая густая и тяжелая, что даже треск поленьев в очаге не мог ее нарушить. Казалось, сам воздух застыл, замедляя бег времени.
– Что? – выдохнула Маргарита, медленно поворачиваясь к дочери. На ее лице было непонимание, будто она услышала слова на чужом языке.
– Ребенок, – повторила Адея тем же мертвым, деревянным тоном. – Он родился мертвым. В горах. Мы его сожгли.
Сначала на лицах родителей читался лишь шок, ступор. Потом, медленно, как поднимающаяся из болотной топи стужа, пришло осознание. Оно наползало, леденило души. Радость внука, которой они были лишены. Надежда на продолжение рода, обернувшаяся кошмаром. Горе, ударившее с такой силой, что от него перехватило дыхание. У Маргариты задрожала нижняя губа, но слез не было – лишь сухая, беззвучная паника. Гордон опустил голову, его могучие, привыкшие к труду плечи сгорбились, будто под невидимым грузом. Старик внезапно сморщился, стал старым.
– Дочка… Адея – Линн… – начал он, но слова застряли в горле, превратились в хриплый шепот.
Адея поднялась. Ее движения были лишены всякой цели. Она подошла к старому сундуку, откинула тяжелую крышку и достала оттуда что – то. Старую, потрепанную тряпичную куклу, с выцветшими нитями волос и двумя точками – глазами, когда – то вышитыми ее матерью. Она прижала эту истлевшую память о детстве к своей груди, к тому месту, где теперь была лишь пустота. И, не глядя ни на кого, не сказав больше ни слова, вышла из комнаты. Дверь за ней закрылась с тихим, но окончательным щелчком.
Раймонд видел, как щель между дверью и косяком исчезла. Он хотел крикнуть. Кричать до хрипоты, до кровавых слез, звать ее, требовать, чтобы она вернулась, чтобы она посмотрела на него, ударила, прокляла – что угодно, лишь бы не это мертвое, ледяное молчание. Но тьма, копившаяся все эти дни и недели, та тьма, что начала свой путь еще в заснеженных ущельях у Хребта, наконец накрыла его с головой. Боль, усталость и всепоглощающее отчаяние переломили последний остаток воли. Его сознание, как камень, сорвалось с обрыва и погрузилось в глубокий, беспробудный мрак, где не было ни боли, ни горя, ни этого ледяного ужаса за женщину, которую он любил больше жизни и которую не смог уберечь.
ВОЛЯ, ЗАКОЛЕННАЯ В ОГНЕ
Холодный воздух снаружи шатра ударил в лицо Ханара Эпперли, не освежив, а лишь сменив душную тяжесть видения на физический озноб. Он стоял, вглядываясь в замерзший лагерь, в бездушные шеренги трайтеров. Внутри него бушевал хаос, более страшный, чем любая битва. Образы из шатра – ненависть в детских глазах, пламя, пожирающее его воинов, – вцепились в сознание, угрожая подточить саму основу его воли.
Действие. Только действие. Мысль пронеслась, ясная и единственно верная. Он должен был двигаться, чувствовать мышцы, слышать скрежет стали. Без раздумий, привычным жестом он схватил верную секиру и шершавый точильный камень. Ноги сами понесли его прочь от лагеря, от давящего безмолвия его «победы», туда, где густели сумерки леса.
Добравшись, Ханар втянул воздух полной грудью. Резко, глубоко. Воздух был чист, лишен вони пота, крови и гари. Ручей предстал шире, чем он думал. Течение – тихое, почти беззвучное, но мощное. Темная вода катилась меж берегов, окаймленных причудливыми наростами льда, похожими на застывшую пену. Конец южной зимы в Антарте. Снег лежал пятнами, пористый, пронизанный черными иглами хвои. Земля кое – где проглядывала – темная, мерзлая, ждущая. Воздух звенел от хрупкого холода, каждый выдох Ханара превращался в короткое, яростное облако.
Он прошел вдоль воды, сапоги вязли в подтаявшем снегу у кромки. Взгляд, привыкший выискивать угрозы, отметил валун – плоский, темный, омытый струями. Подходящий. Эпперли опустился на камень тяжело. Секира легла поперек мощных бедер, лезвие, отполированное до зеркального блеска, холодно отсвечивало в скупом свете. Острое? Да. Смертоносное? Бесспорно. Но ритуал точения был не о необходимости. Он был о сосредоточении. Очищении. О звоне стали, вытесняющем шепот видений.
Камень с сухим шипением лег на грань. Первый уверенный взмах руки – резкий скрежет заполнил тишину леса, отрывистый и твердый, как удар сердца перед сечей. Ханар склонился над оружием, могучие плечи напряглись. Взгляд, обычно буравящий пространство, обратился внутрь, в темные глубины собственных мыслей, которые предстояло выковать в нечто твердое и ясное, как сталь под его руками. Скрежет камня стал единственным звуком его раздумий – ритмичным, неумолимым, мужским.
Скрип… Скрип… Скрип…
«Мальчик. С карими глазами. Он выжил. Он вырос. И он ненавидит меня не как солдата, не как завоевателя… а как убийцу его семьи. Как монстра.»
Скрип… Скрип…
«И эта ненависть… она дала ему силу. То самое Пламя. Оно родилось из его потери. Из его боли.» Лезвие дрогнуло. «А что породило меня? Что дало силу Ханару Эпперли?»
Скрип…
Воспоминание, острое как осколок: пепелище. Вонь горелого мяса и дерева. И он, маленький, одинокий в море пепла. И появляющийся из дыма Исиндомид.
«Твой род вырезан в междоусобии,» – вот и вся история, вбитая в него, как гвоздь. Ни лица матери. Ни отца. Ничего, кроме пустоты и воли старого колдуна.
Скрип…
«Стала бы она? Моя мать. Рвать глотки за меня, как Тея за своих сыновей?» Мысль ударила с невероятной силой. И следом – леденящее осознание: «А что, если не было никакой междоусобицы? Что, если Исиндомид… выкорчевал меня из другой жизни? Сделал тем, кто я есть?»
Мысль ударила, как кузнечный молот по наковальне. Гулко. Тяжело. И следом – ледяное жало: А не врал ли Исиндомид? Всю жизнь? Не он ли…? Зачем выдергивать щенка из пепла, чтобы выковать из него… это?
Скрип умолк. Тишина леса оглушила. Даже ручей приглушен. Дар или кандалы? Мысль пронеслась, острая. Ответа не было. Только потребность увидеть. Не глазами воина, привыкшими к крови и дыму.
Он медленно, почти неохотно, отложил секиру в сторону. Холодный металл глухо стукнул о подтаявший снег. Верная сталь – простая, предсказуемая. То, что он собирался сделать, было иным. Магия Исиндомида. Его клеймо.
Ханар поднял левую руку. Сжал кулак. Сухожилия натянулись, как тетивы. Смотрел на эту руку – мощную, иссеченную шрамами, знавшую вес меча и хватку горла. Руку, что затянула порез. Его руку.
Потом началось. Сначала – глубокая, костная ломота. Знакомая, но от этого не менее мерзкая. Словно кости плавились изнутри. Кожа на тыльной стороне ладони заколыхалась волнами. Цвет плоти стал темнеть, приобретая серо – бурый, землистый оттенок.
Боль усилилась, стала рвущей. Ханар стиснул зубы. Взгляд прикован к руке с хищной концентрацией. Пальцы… удлинялись, кости хрустнули. Ногти потемнели, стали толще, грубее, вытянулись вперед, загибаясь вниз – превращаясь в мощные, острые когти. Кожа сморщилась, стала жесткой, чешуйчатой.
Но самое странное – выше. Из пор на предплечье начали пробиваться перья. Сначала редкие щетинки. Потом – быстрее, гуще. Длинные, упругие. Они росли с жутковатой скоростью, покрывая руку от локтя плотным, переливающимся слоем. Цвет – темный, как старое железо и буря, с охристыми прожилками. Крыло. Его крыло. Инструмент колдуна.
Ханар разжал кулак. Пальцы – когти разошлись веером. Медленно повернул руку, наблюдая, как мышцы под перьями играют, как суставы сгибаются с чужеродной гибкостью. Чувствовал каждое перо. Чувствовал тягу. Желание распахнуть это крыло, подставить ветру. Чувствовал, как воздух обтекает перья. Сила? Да. Свобода? Обман. Это был якорь, связывающий его с Исиндомидом крепче цепей.
«Он создал меня своим орудием. Выковал из пепла и лжи. Мальчик с Пламенем… его сила в его правде. В его памяти. В его любви. Моя сила… в послушании. В слепоте. Я – всего лишь изощренный трайтер. Трайтер с иллюзией воли.»
Он сжал руку снова. В кулак. Боль вернулась – обратный путь был резче. Ломка. Перья втягивались, растворялись. Кожа светлела. Когти укорачивались, превращаясь обратно в ногти. Кости хрустели. Через несколько тяжких мгновений перед ним снова была рука. Человеческая. Сильная. Знакомая. Покрытая шрамами и тонкой сеточкой пота.
«Он хочет, чтобы я был Молотом. Как Фаларис. Чтобы я крушил, сея хаос, за которым придет он, Исиндомид, со своим порядком. Он хочет, чтобы я был предсказуемым зверем. Чтобы носитель Пламени видел во мне только монстра, достойного лишь уничтожения.»
Ханар разжал кулак. Ни следа перьев, когтей. Только память о тяге и горечь: дар, которым он гордился, мог быть частью той же лжи, что и пепелище детства. Он поднял взгляд, вновь схватив секиру. Холод стали – единственная неоспоримая реальность. Крыло… лишь еще один клинок в арсенале. Острый. Полезный. И чуждый.
«Но что, если я перестану быть молотом? Что, если я стану… щитом?»
Мысль ошеломила своей простотой и дерзостью. Антарта боится. Она боится хаоса, который он принес с падением Элимии. Но еще больше она боится призраков прошлого, слабости своих правителей.
«Они не примут нового тирана. Но они примут сильную руку, которая наведет порядок. Руку, которая спасет их от ужаса, который… якобы… посеяли другие. Они примут Защитника.»
Это был не просто тактический ход. Это был вызов. Вызов самому себе. Сможет ли он, Ханар, чья душа, казалось, была выкована из насилия, стать чем – то большим? Сможет ли он завоевать не страх, а если не любовь, то хотя бы признание? И главное – это был вызов Исиндомиду. Это была его воля, закаленная в огне видения и в боли трансформации. Он больше не пешка в чужой игре. Он меняет правила.
Он встал, поднял секиру. Сталь была холодной и надежной. Но теперь он знал, что его истинное оружие – не она, и не крыло за спиной. Его оружие – это решение, которое он только что принял.
Шаги его назад, в лагерь, были твердыми и быстрыми. Он прошел мимо трайтеров, не глядя на них, к центру лагеря, где ждали его «советники».
Укуфа, вертя свою хрустальную корону, встретила его хищной ухмылкой. Од Куулайс, точащий мечи, лишь скользнул на него холодным взглядом. Исиндомид восседал над своим фолиантом.
– Видение у ручья оставило след, Ханар? – голос колдуна был сухим, но с привычной примесью превосходства. – Сомнения…
– Заткнись. – Голос Ханара прозвучал не громко, но с такой ледяной, неоспоримой властью, что Укуфа замерла, а Од перестал точить. Даже Исиндомид прикрыл книгу. Ханар не кричал. Он констатировал. Его взгляд, чистый и острый, как клинок, скользнул по ним. – Слово теперь не твое, старик. Слушай все.
Он сделал шаг вперед, его фигура казалась выше, массивнее, наполненной новой силой – силой собственного выбора.
– План меняется. Мы идем к трону иным путем. – Он выдержал паузу, вбирая их немое, ошеломленное внимание. – Не путем завоевателя. Путем освободителя. Путем щита.
Он видел недоумение в их глазах и наслаждался им.
– Антарта дрожит от страха. Страха перед хаосом, который мы же и принесли. Но мы дадим им не нового тирана. Мы дадим им порядок. Сильную руку. Руку, что спасет их от слабости их прежних правителей. Мои знамена будут развеваться не как предвестники гибели, а как символы закона и безопасности. Город распахнет ворота не перед захватчиком, а перед защитником.
Он выпрямился во весь рост, и в его голосе зазвучала непоколебимая уверенность.
– Я – Ханар Эпперли. Не палач. Не молот. Отныне и навсегда – я Щит Антарты. Первый камень в основание королевства, которое будет строить не я один, но которое будет держаться на моей воле. На моем порядке.
Он замолчал. Тишина была оглушительной. Укуфа смотрела на него с новым, жадным интересом. В глазах Ода читалось не просто одобрение, а уважение к стратегу. Исиндомид сидел не двигаясь, его лицо было каменной маской, но в глубине мутных глаз бушевала буря. Его инструмент не просто вырвался из повиновения. Он перековал себя заново. И старый колдун впервые почувствовал ледяную струю настоящего страха. Ученик не просто вырос. Он стал Мастером. И его следующего хода Исиндомид предсказать уже не мог.
МОЛИТВА ПУСТОГО ЧРЕВА
Часовня Камня и Очага была вырублена в скальном основании старого маяка, что стоял на отроге, вдававшемся в Тигровое море. Это была не постройка, а продолжение самой земли. Стены, неровные и шершавые, местами проступали влажным, темным камнем, а сводчатый потолок был так низок, что высокий мужчина мог задеть его головой. Воздух был густым, прохладным и неподвижным, пахнущим сыростью, дымом тлеющих углей и засохшими травами.
В глубине зала, в самой старой части пещеры, возвышались две статуи, высеченные из единой глыбы гранита. Слева – Дхар – Камнедержец. Его лик был суровым и недетализированным, словно выветренным бурями, а мощные каменные руки сжимали пучок вырезанных из того же камня корней, что уходили в пол. У его подножия лежали дары: комья земли, кости животных, обсидиановые наконечники. Справа – Дана – Землительница. Ее фигура была более мягкой, округлой, с явными признаками материнства, а в руках она держала глиняную чашу, в которой тлели угли из домашнего очага. Перед ней лежали колосья, спелые фрукты и вышитые полотна. Они не смотрели друг на друга, но их спины были обращены к одной скальной стене, символизируя вечный союз, не требующий взглядов.
Адея сидела на грубой скамье посередине, вцепившись в тряпичную куклу – ту самую, что сшила ей Маргарита в детстве, с выцветшими нитками волос и двумя точками – глазами. В часовне было еще несколько человек. Две женщины постарше, их головы покрыты платками, перешептывались, бросая на Адею косые взгляды. Мужчина, молившийся Дхару, обернулся и быстро отвел глаза, встретившись с ее пустым взглядом.
Шепот, как рой мух, долетел до нее сквозь гул прибоя, доносившийся извне.
«…четвертый год, а живот тощ, как у девчонки…»
«…альбиносиха… нечистая, говорят… кровь у них белая, ледяная…»
«…что Виктор в ней нашел? Красота – то призрачная, болезненная…»
«…лоно пустое… Дхар не принимает ее дары, видно, земля неплодородная…»
«…следующей зимой, коли не родит, бросит он ее, уж точно… Лаура – то цветет…»
Каждое слово впивалось в нее, как раскаленная игла. Она слышала такое в Суле, но там это были чужие. Здесь, на родине, это резало в тысячу раз больнее. Ее пальцы сжали куклу так, что вот – вот порвут ткань. Она пыталась сосредоточиться на молитве, шепча заученные слова, обращенные к Дане, умоляя о милости, о зачатии, о жизни внутри.
Но шепот за спиной нарастал, сливаясь в ядовитый гул.
«…бесплодная сука…»
Что – то в ней порвалось. Тишина часовни взорвалась.
– ЗАМОЛЧИТЕ! – ее крик, хриплый и дикий, отскочил от каменных стен, заглушив шум моря. Она вскочила, кукла упала на пол. Ее фиолетовые глаза, обычно потухшие, пылали безумной яростью. – ЗАМОЛЧИТЕ, ВЫ! ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ?! НИЧЕГО!
Она метнулась к алтарю Даны, схватила тяжелый железный подсвечник с тремя догорающими свечами. Горячий воск брызнул на ее руку, но она не почувствовала боли.
– Вы не знаете его! Не знаете, что он такое! – она размахивала подсвечником, как дубиной, двигаясь к перешептывавшимся женщинам. Те в ужасе отшатнулись. – Вы не знаете, через что мы прошли! Какое вы имеете право судить?! Ваша вера – убога и мелка, как лужа! Вы молитесь, чтобы урожай был больше, а сосед – меньше! Вы ничтожны!
– Кощунство! – крикнул мужчина, делая шаг вперед, но Адея взмахнула подсвечником, заставив его отпрянуть.
– ВОН! – проревела она. – ВСЕ ВОН ИЗ ХРАМА! ОСТАВЬТЕ МЕНЯ С НИМИ! С БОГАМИ, КОТОРЫЕ ГЛУХИ К ВАШЕМУ ЖАЛКОМУ ТРЕПУ!
Она погнала их к выходу, размахивая своим импровизированным оружием. Испуганные прихожане, отмахиваясь и бормоча молитвы, высыпали на улицу. Адея с силой захлопнула массивную дубовую дверь и, с трудом подняв подсвечник, вставила его ручку в тяжелые железные скобы, забаррикадировав вход.
Она тяжело дышала, прислонившись к двери. Затем, медленно, подошла к статуям и опустилась на колени. Подсвечник с грохотом упал на каменный пол.
– Дхар… Дана… – ее голос срывался на шепот, полный слез. – Великие Предки… Вечные Супруги… Я не прошу богатства… не прошу славы… Я прошу лишь того, что дано каждой суке, каждой кобыле, каждой крестьянке в поле! Дар, в котором мне отказано!
Она припала лбом к холодному камню у ног Дхара.
– Я отдам все… заберите мою жизнь, мою душу, мою память… но дайте мне дитя! Дай мне, Дхар, свою твердость, укорени его в моем чреве, как корни в скале! Дай мне, Дана, свое тепло, взрасти его в моей утробе, как хлеб в печи! Я буду самой верной, самой покорной твоей служанкой, Дана! Я буду приносить любые жертвы, Дхар! Только… только дайте мне услышать детский крик… дайте мне держать на руках свое дитя…
Ее тело содрогалось от беззвучных рыданий. Она ползала по полу между двумя божествами, целуя холодный камень и теплую глину в их алтарях, смешивая слезы с пылью веков.
– Я на все готова… слышите? На все…
Тихий скрип боковой двери, скрытой в тени, заставил ее вздрогнуть. В проеме показалась пожилая женщина. Ее лицо было испещрено морщинами, как карта прожитой жизни, а седые волосы, собранные в простой узел, были обнажены – редкая честь для замужней женщины. На ней было платье цвета охры, поверх – передник из небеленого полотна, а на поясе болтались десятки маленьких узелков – оберегов из трав и кореньев. Она была Очаговой Матерью, жрицей Даны.
Женщина не смотрела на Адею. Она медленно прошла к алтарю Даны, поправила угли в чаше, села на ближайшую скамью и уставилась на статую.
– Слушают ли боги наши молитвы, дочь? – ее голос был тихим, скрипучим, как шелест сухих листьев. – Или они слушают само молчание между словами? Боль, что мы носим в себе, как ношу камней?
Она замолчала, будто прислушиваясь к ответу.
– Белая Баба… она ходит по краю леса, где тень встречается со светом. Она знает язык всех трав – и тех, что лечат, и тех, что убивают. Она плачет по каждому ребенку, что ушел в землю раньше времени… – женщина повернула голову, и ее мудрый, печальный взгляд скользнул по Адее, все еще лежащей на полу. – Ей не нужны громкие слова. Ей нужна правда. Правда твоего горя. Сплети венок… из полыни, что отгоняет тени, и чабреца, что дает силу духу… добавь плющ, символ верности… и первые фиалки, что пробиваются из – под снега, знак надежды… и отнеси его к старому камню с ликом. Тому, что в лесу у ручья. Оставь там. И скажи… скажи все, что не смогла сказать здесь.
Она медленно поднялась, ее кости мягко хрустнули.
– Иногда, чтобы родить жизнь… нужно сначала похоронить надежду. И родить новую. Из пепла старой.
И, не оглядываясь, она вышла через ту же дверь, оставив Адею одну в гулкой тишине часовни.
Слезы Адеи постепенно иссякли. Она лежала, глядя в каменный свод, пока холод пола не проник в кости. Затем, медленно, словно старуха, она поднялась. Подошла к двери, подняла подсвечник. Вышла на ослепительный дневной свет.
Она не пошла сразу домой. Она свернула к лесной опушке, к ручью, где знала тот самый камень. Она не плела венок – у нее не было сил. Но она нашла несколько стеблей полыни, чабреца и сорвала три первые фиалки, пробивавшиеся у корней старого бука. Она положила их у подножия камня с застывшим ликом и прошептала всего одну фразу:
– Помоги мне. Или забери все.
Когда она вернулась в родительский дом, ее лицо было бледным, но слез больше не было. Только холодная, каменная решимость. Она вошла в зал, где Лаура, румяная и сияющая, хлопотала у стола, и прошла мимо, как тень, к своей лавке у окна. Ее пальцы сжались в кулаки. Она смотрела на сестру, и в ее фиолетовых глазах, помимо боли, теперь жило нечто новое – понимание. Понимание того, что ее молитвы в официальной часовне окончены. Теперь ее религия была иной. Религией отчаяния, камней и тихих, ядовитых трав.
УТРЕННИЕ ТЯГОТЫ
Запах свежего хлеба и корицы витал в огромной королевской кухне, словно насмешка над реальным положением дел. Воздух был густым и влажным, пах потом, вареным мясом и дымом. Кастрюли шипели на плите, словно сердитые змеи, поварята сновали, обливаясь потом, а главная кухарка Хильда – женщина с руками, знающими толк в тесте и подзатыльниках – командовала этим адским хаосом, ее лицо было багровым от жара печи.
Терон Ламонт вплыл в это царство, ведомый инстинктом голода. Его нос повел его мимо туш с ощерившимися ребрами, мимо корыт с потрохами – прямиком к красавцу – пирогу, гордо красовавшемуся на столе. Пирог был идеален: румяный, с золотистой, жирной корочкой, чуть треснувшей, чтобы выпустить на волю душный, навязчивый аромат тушеной говядины с луком. У Терона отчаянно свело скулы.
«Мое», – пронеслось в его голове, и рука, будто сама собой, потянулась… Кусок пирога, горячий и обжигающий, аккуратно лег ему на ладонь. Терон даже не успел понять, как это вышло.
– Ты че, балбес, с утра крышу сорвало?! – прогремел голос, способный перекричать кипящий котел.
Хильда, вся в жирных брызгах и муке, как призрак после пиршества, нависла над ним, потрясая огромной деревянной ложкой, липкой от соуса.
– Не топчись тут под ногами, как голодный пес у мясной лавки! И не трожь королевскую снедь! Это ж не для твоей горшечной братии!
Хильда была душкой, хоть и с громом в голосе. Сердце у нее – сало на сковороде, таяло быстро. Этим Терон и пользовался без зазрения совести. Себя он мнил ястребом, а Марту – милой, но глупой курицей, чье назначение – его кормить.
И сейчас, вместо того чтобы испугаться, он лишь медленно обвел ее взглядом – с засаленного фартука до выбившихся из – под платка сальных прядей – и нарочито лениво поднял бровь. Вызов витал в воздухе, гуще чада и пара.
– А ну – ка положи обратно, шельмец! – пригрозила Хильда, замахиваясь ложкой для устрашения, с которой капнуло что – то коричневое и мутное.
Но Терон лишь обнажил свои ослепительно белые зубы в самой дерзкой ухмылке, поднес вожделенный кусок ко рту и с наслаждением впился в него зубами. Хруст корочки прозвучал во внезапно наступившей тишине кухни как вызов. Жир потек у него по подбородку.
Расплата настигла Терона мгновенно. Хильда, алая от гнева, швырнула в него мокрой, вонючей тряпкой, пахнущей старой грязью и рыбой.
– Ах ты паршивый щенок! – загремела она, наступая на него так, что поварята шарахались в стороны. – Да это ж любимый пирог Его Величества! Весь вид испортил! Теперь как на стол подавать – с твоей воровской дырищей?!
Терон, ловко юркнув за спину самого толстого поваренка, пытался оправдаться, с трудом проглатывая жесткое мясо:
– Э – э, кусочек всего лишь! Подумаешь трагедия! – он сделал невинное лицо, хотя жир на губах его явно изобличал. – Живот подвел! С утра еще ничего не было!
– А у нас, по – твоему, животы не урчат?! – фыркнула Хильда, обходя поваренка, от нее пахло перегорелым жиром и злостью. – Все голодны! Но нормальные люди ждут своего пайка, а не тырят с королевского стола!
Терон выпрямился во весь свой невеликий рост, пытаясь придать себе веса:
– Я, между прочим, персона важная в этом замке… – начал он с напускным достоинством, но его тут же прервал гомерический хохот всей кухни. Даже котел на плите зашипел громче, выплеснув на жар кипящую воду.
– Персона? – Хильда закатилась таким жирным смехом, что задрожали туши на крюках. – Терончик, дорогуша, ты королевский горшечник! – она вытерла слезу веселья грязным уголком фартука. – Зад ему подтираешь, да по мелким делам бегаешь! А индюшишься, будто ты его сенешаль, а не… ну, ты понял!
– Ну и что? – Терон надул губы, стараясь скрыть, как больно задели ее слова. – Зато я каждый день возле него! И он меня ценит! – выпалил он, больше пытаясь убедить себя.
– Тю – тю! – Хильда махнула рукой, будто отгоняя назойливую муху, и швырнула утирку в таз с мутной водой. – А я ему каждый день живот согреваю! Уж моя – то стряпня поважнее твоей возни с ночными вазами будет!
Она деловито, почти яростно подошла к столу, взяла большой поцарапанный поднос и начала собирать завтрак. Отрезала ровный квадрат пирога, ловко обойдя злополучный укус, положила ломтики сыра, покрытые легкой влажной слизью, кусок печеного яблока, кожица которого сморщилась, как лицо старухи, и налила в потрескавшийся глиняный графин теплого вина, пахнущего чем – то кислым. Все это она с грохотом поставила перед Тероном.