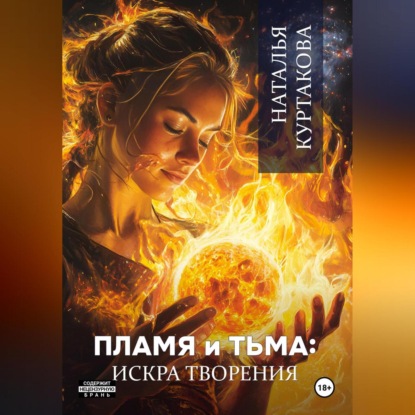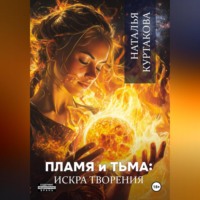Полная версия
Пепел и Прах
Торговка смотрела на нее долгим, проницательным взглядом. Потом кивнула, словно приняв какое – то решение.
– Покажи, – сказала она мягко, но непререкаемо.
Элисфия замерла. Она понимала. Понимала риски. Срок был велик. Любая ошибка – ее смерть. Но мысль о том, что оно родится, что в мир придет еще один Фотсмен, через нее… Нет. Только не это. Глубоко вдохнув, словно перед прыжком в бездну, она резко откинула складки плаща и положила руку на явно округлившийся живот под грубым платьем.
Торговка закрыла глаза на мгновение. Когда открыла, в них была бесконечная грусть и понимание неизбежного.
– Ты можешь умереть, дитя, – прошептала она. Голос был нежным, как у матери, предостерегающей ребенка от края пропасти. – Легко умереть. И тяжело жить после, если выживешь. И жить… пустой. – Ее взгляд скользнул вниз, к скрытому плащом животу, и в нем читалась невысказанная боль. – Травы эти… они не щадят. Часто после… дар жизни в утробе навсегда отнят бывает. Плодоносить земля твоя больше не сможет. Грех этот – он навсегда. Пятно на душе. И пустота в чреве. Уверена?
– Знаю! – Элисфия резко дернула плащ, закутываясь плотнее, ее тон стал почти грубым от напряжения, но в глазах, зеленых и бездонных, как лесные озера, не было сомнения. – Я знаю цену! Но я должна! Мой путь – не материнское лоно и колыбельная песнь. – Она выпрямилась, и в этой внезапной горделивой осанке, в повороте головы, было что – то от древних королев, приносящих жертву судьбе. – Моя дорога ведет через тернии и сталь, к иному предназначению. И если плата за шаг по ней – тихий очаг и детский смех… – Ее голос, низкий и четкий, как удар меча о щит, заполнил пространство между ними. – …то я плачу без сожаления. Считайте это не потерей, а обменом. Одну судьбу – на другую. Более… – губы ее тронула тень горького, торжествующего подобия улыбки, – …интересную. Продайте мне травы. И разойдемся.
Молчание повисло между ними. Женщина смотрела на нее, и в ее взгляде была не злоба, не жажда наживы, а глубокая, бездонная печаль и… жалость. Наконец, она отвернулась, ее пальцы быстро и точно выбрали три небольших мешочка.
– Мята болотная. Ревень дикий. Цветы горной арники. – Она положила их на прилавок. – Три серебряные моменты. И помни каждое слово, что сказала.
Элисфия сунула руку в потайной карман платья, вытащила кошелек. Рука дрожала. Она торопливо отсчитала три момента, протянула их дрожащей рукой торговке, схватив мешочки. Ее пальцы сжали их так, будто это были камни, тянущие ко дну, края врезались в кожу.
– Верю, что ты передумаешь, дитя… – тихие, полные безнадежной надежды слова впились ей в спину, как тонкие иглы. – Пока не поздно… Верю…
Элисфия не оглянулась. Она вжала драгоценные мешочки в ладонь и рванула вперед, в гущу людского потока. Толпа сомкнулась за ее спиной, как грязная вода, поглощая фигуру торговки, но не ее слова. "Пустота в чреве… Пятно на душе… Передумай…" – они звенели в ее ушах, смешиваясь с гомоном рынка, ударами сердца, свистом ветра в узких переулках. Она бежала, не разбирая дороги, толкаемая страхом и стыдом, спотыкаясь о булыжники, втягивая в себя смрадный воздух, от которого першило в горле и подташнивало. Единственной путеводной нитью был причал, Борей, и путь отсюда. Добежать. Уехать. Свершить.
Когда она вырвалась на относительно свободное пространство у воды, ее ноги подкосились. Она прислонилась к мокрому, скользкому столбу, пытаясь перевести дух. Грудь горела, в глазах стояли черные точки. Именно здесь он велел ждать.
Борей ждал. Он стоял чуть поодаль, спиной к городу, лицом к каналу, но его осанка, напряженная, как тетива лука, выдавала нетерпение. Когда она приблизилась, он резко обернулся. Лицо его искажалось странным, лихорадочным возбуждением. Глаза, обычно колючие и настороженные, горели каким – то мутным, опасным огнем, губы были растянуты в подобии улыбки, которая не имела ничего общего с радостью. Он что – то сделал здесь. Что – то важное для него.
И это наполнило его дикой, сдерживаемой энергией.
Элисфия увидела это возбуждение, этот странный блеск. Вопрос – чем он занимался, кто ему был так нужен в этом гнилом городе – замер на губах. Ей было все равно. Абсолютно. Ее собственный мир сузился до жгучей боли в сжатой ладони, где впивались края мешочков, словно угли, до жжения в груди, до ненавистной тяжести внизу живота и ледяной решимости в сердце. Не до того.
Он что – то сказал – она не разобрала сквозь шум в собственной голове. Потом его голос пробился четче:
– Нашла? – бросил он, уже хватая весло, его взгляд скользнул по ее лицу, не задерживаясь, не видя ее бледности или дрожи. Он видел только результат: она здесь, значит, дело сделано.
– Почти, – выдохнула она, и голос ее звучал плоским, лишенным всяких интонаций, эхом отозвавшись в ее собственной пустоте.
Обратный путь по качающемуся лабиринту лодок был кошмаром. Скользкие борта, шаткие дощечки – мостики, вонючие щели черной воды, грозящие проглотить. Элисфия шла, цепляясь за его рукав, ноги подкашивались от усталости и дрожи. Несколько раз она пошатнулась так, что сердце уходило в пятки, но его сильная рука резко подхватывала ее под локоть, почти таща вперед. Она чувствовала лишь жгучую боль в сжатой ладони, где впивались края мешочков, да ломоту в больном плече от толчков. Шум рынка, крики лодочников, плеск воды – все слилось в оглушающий гул.
Едва они добрались до их утлой скорлупки, Борей почти втолкнул ее на сиденье, сам прыгнул следом, хватая весла.
Лодка резко дернулась, отчаливая от гнилого причала. Борей греб резко, мощно, лодка прыгала по мелкой волне. Его возбуждение требовало выхода в действии.
– Что – то еще нужно? – спросил он через несколько взмахов, его дыхание стало чаще не от усилия, а от внутреннего огня.
Она медленно повернула к нему голову. Солнце, садящееся прямо за его спиной, бросало кровавые блики на воду, но не могло пробить холод, что стоял в ее глазах. Они были как два осколка темного льда, выловленных из самой глубины мертвого озера.
– Лед, – произнесла она отчетливо, не отводя этого ледяного взгляда. – Много льда.
ИСКУШЕНИЕ
Боль стала его новой кожей, вторым скелетом, сковавшим тело и волю. Раймонд лежал неподвижно, вглядываясь в трещины на потолке из почерневшего от времени дерева. Внутри, в глубине разбитой груди, тлел божественный огонь – дар, не делавший его бессмертным, но дававший жалкий шанс выкарабкаться. Он чувствовал, как тот самый огонь медленно, с упорством кузнеца у наковальни, сплавляет осколки его ребер. Он был разбит, но не сокрушен. Лишь воля, стальная и непреклонная, отделяла его от животного, заставляя плоть затягиваться чуть быстрее, чем у обычного человека. Чуть – но и этого могло не хватить.
Сегодня с него хватило.
Со стоном, в котором ярости было куда больше, чем боли, он откинул грубое шерстяное одеяло, пахнущее потом и лекарственными травами. Босые ноги коснулись ледяного, утоптанного до каменной твердости земляного пола. Головокружение накатило свинцовой волной, заставив мир поплыть. Он впился пальцами в край кровати, костяшки побелели, и переждал, пока в висках не перестало стучать. С трудом выпрямился, шатаясь, и сделал первый шаг, потом второй, держась за спинку кровати.
Каждое движение отзывалось в боку глухим, раскатистым гулом, будто внутри висел треснувший колокол. Он заставил себя пересечь тесную комнату, чувствуя, как дрожь от невыносимого напряжения передается от поясницы к сведенным судорогой икрам. Потом начал упражнения: неуверенные приседания, едва отрывая пятки от пола, опираясь на сундук, чтобы не рухнуть; робкие наклоны, от которых мышцы живота горели огнем, а швы на ранах натягивались, угрожая разорваться. Он дышал ртом, коротко и прерывисто, слыша собственное хриплое посвистывание в такт каждому движению.
Но главной была рука. Правая. Она висела безжизненным, чужим грузом. Рука, что держала меч и вздымала плуг, рука, что касалась щеки жены. Защита, труд, сама жизнь – все было в ней. Ее исцеление значило больше, чем сросшиеся кости. Левой, здоровой, он поднял ее, разминая непослушные, закоченевшие пальцы. Сухожилия скрипели, суставы горели. Он согнул руку в локте, и острая, рвущая боль в предплечье заставила его потемнеть в глазах. Холодный пот выступил на лбу. Он попытался сжать кулак. Пальцы, дрожа и предательски подрагивая, медленно сомкнулись. Он повторил. И еще. Преодолевая. Всегда преодолевая.
Скрип отворившейся двери, шелест шагов по твердому земляному полу. В проеме застыла Лаура. Сестра Адеи, которая была полной ее противоположностью. Не высокая и не низкая, она была… округлой. Плавные линии бедер, упругая талия, сильные руки с розоватой кожей. Ее волосы, цвета спелой ржи, были заплетены в толстую, блестящую косу, лежавшую на спине как плетеное золото. Над воротом простого домашнего платья виднелась шея, полная и белая. Ее лицо – румяное, с ямочками на щеках, с большими серыми глазами, в которых стоял безмятежный, добрый свет. От нее веяло здоровьем, уютом и тем простым, животным теплом, которого была лишена Адея.
– Виктор? Ты что? – в ее голосе прозвучала тревога, но не испуг. – Тебе еще рано, раны не зажили.
– Движусь, – хрипло бросил он, опуская руку. – Иначе кости срастутся криво, а мышцы откажутся служить.
– Герой, – в ее тоне смешались одобрение и та мягкая, материнская нежность, что так манила его в последние дни. Она приблизилась, и воздух принес с собой легкий, согревающий душу запах свежего хлеба, сушеного чабреца и чего – то молочного, детского. – Но не надрывайся. Давай, сядь.
Он не сопротивлялся, когда ее пальцы, сильные от работы, но удивительно мягкие, принялись разминать его закоченевшие мускулы. Он зажмурился, стиснув зубы. Боль была жгучей, почти невыносимой, но за ней шло облегчение, долгожданное и пьянящее. И вместе с ним – горькая, едкая горечь. Вот так, просто и естественно, должна была бы касаться его Адея. Его жена, его белая лань с волосами цвета лунного света и прозрачной кожей. Но Адея была призраком, тенью, а тепло и забота исходили от ее полной, земной противоположности. От сестры. И в этом был извращенный подвох судьбы, от которого сжималось сердце.
– Адея? – спросил он, не открывая глаз.
Пальцы Лауры на мгновение замерли, и он почувствовал, как в ее прикосновении появилась едва уловимая жесткость.
– Ушла. Снова. Глаза заплаканы, в себя не приходит, – в ее голосе прозвучало легкое, но отчетливое презрение. – Она… она не с нами, Виктор. Все там, в своем горе. Четыре года молила богов о дитя, а когда они, наконец, ниспослали ей сына… не смогла даже уберечь. А сегодня… сегодня в часовне беда случилась. Люди шепчутся, будто ее бес попутал. На людей с подсвечником кидалась, выла, рыдала, всех из храма повыгоняла и дверь на засов задвинула. Выгнать ее смогла лишь очаговая матерь Сасса Берь, жрица Даны. Та самая, что двадцать лет назад мужа потеряла… она одну ее и слушает. – Лаура помолчала, и ее пальцы снова задвигались, но теперь ее движения были более властными, уверенными. – А тебе, Виктор, нужно жить. Сильному мужчине, воину… горевать – не удел.
– Она еще там? – голос Раймонда сорвался.
– А кто ее знает? Будто тень по поместью бродит.
– Мне нужно найти ее… – Раймонд попытался подняться, но твердое, уверенное прикосновение Лауры мягко, но неумолимо усадило его назад.
– Нет, Виктор, не нужно, – ее голос стал твердым, в нем зазвучала житейская, беспощадная мудрость. – Подумай о себе. Твои раны… они ужасны. Тебе бы выжить, сил набраться. А она? Она телом здорова, сильна. Ее рассудок тронулся, и ты его не вернешь, сколько ни бейся. Горе – как чума: кто – то выживает, а кто – то нет. Ты хочешь тащить на себе двоих? Мертвого ребенка, которого не вернуть, и женщину, что вслед за ним на тот свет рвется? Мир не пощадил тебя, не щади и ты его. Она выбрала свою дорогу – в часовню, к теням и плачу. А твоя дорога – здесь. К жизни. К силе. Ты воин, кормилец. Ты должен быть тверд. Иначе вас обоих скрутит одно горе, и вас не станет.
Он молча кивнул. В ее словах была горькая правда. Прошло четыре месяца. Четыре! В мире, где смерть косит пригоршнями, так долго убиваться по младенцу, которого едва успел узнать, – это роскошь, граничащая с безумием. Он любил Адею, свою стройную, острую, как клинок, жену. Но теперь он видел: она сломана. А он… его вина была лишь в том, что он остался жив. И ее упреки, ее ледяное молчание, ее ночные слезы, от которых он лежал с открытыми глазами, злясь и не понимая, – все это истощало его сильнее, чем любая рана.
А тут Лаура. Ее тепло. Ее простое, понятное, плотское сочувствие, которое за месяцы ухода за ним незаметно переросло в нечто большее, что он видел в ее глазах и чувствовал в каждом прикосновении.
– Но раз уж ты рвешься в бой, нельзя тебе здесь, в четырех стенах, киснуть, – решительно сказала она, заканчивая массаж. – Выйдем. Солнце пригревает, в Лимонных Садах воздух чистейший. Пройдешься, разомнешь ноги.
Он хотел отказаться, но мысль о душной комнате, пропитанной призрачным присутствием жены, показалась невыносимой.
Прогулка давалась с трудом. Каждый шаг по неровной булыжной мостовой отдавался в ребрах глухим ударом. Он шел, опираясь на локоть Лауры, и чувствовал себя дряхлым стариком. Она же была воплощением жизни – так близко, что ее округлое, мягкое бедро намеренно или нет постоянно касалось его, и каждое такое прикосновение было словно глотком живой воды в пустыне.
Лимонные Сады просыпались после короткой, но влажной зимы. Воздух был густым и тягучим, пах влажной землей, цветущими померанцами и дымком очагов. Свежая листва на деревьях отливала изумрудной зеленью. Повсюду кипела жизнь: слышался стук топоров, смех детей, гонявших по улице тощую собаку, доносились окрики женщин, выбивавших пыль из половиков. С беленых стен домов под черепичными крышами на них косились, шептались, указывали пальцами. Весь этот гулкий, яркий, надоедливый мир жаждал зрелищ. И они с Лаурой были прекрасным представлением: бледный, изможденный калека и цветущая, румяная девица, прижимающаяся к нему с фамильярностью, недопустимой для сестры жены. Отрывки фраз долетали до него:
«…Олдум…»
«…Еле ноги волочет…»
«А это Лаура – то… И что это они вдвоем, а где старшая?..»
Раймонд пытался игнорировать их, но его мир сузился до боли в боку, до уличной пыли и до жгучего, невыносимого присутствия женщины рядом.
Они заглянули в общую конюшню, где стояли лошади семейства Олдум и их соседей. Воздух был густым и теплым, пропахшим навозом, конским потом, кисловатым запахом перебродившей мочи и сладким ароматом свежего сена. В стойле, отделенном от других, беспокойно переступал с ноги на ногу его вороной жеребец, Тайнан. Увидев хозяина, конь фыркнул, громко брякнул уздой, приветственно тряся гривой.
– Вижу, вижу, брат, – хрипло прошептал Раймонд, подходя ближе.
Он протянул ладонь, и Тайнан тревожно обнюхал его пальцы, уловив чужеродные запахи боли, зелий и крови. Конь беспокоился, чувствуя слабость хозяина. Раймонд провел здоровой левой рукой по его мощной, глянцевитой шее, ощущая под ладонью живую, пульсирующую теплоту. Он наклонился лбом к крупу коня, закрыв глаза, позволяя знакомому запаху на мгновение смыть всю боль и усталость.
– Скучаешь? – его голос был глух. – Я тоже. Скоро, брат. Скоро я снова сяду в седло. Мы умчимся так далеко, что никто нас не достанет.
В дальнем конце конюшни, возле кадки с водой, копошилась рыжая, веснушчатая девчонка лет шестнадцати. Она таскала тяжелые ведра, по плечо заливаясь водой, и украдкой, с подобострастным любопытством, поглядывала на хозяина Тайнана. Раймонд поймал ее взгляд, и девчонка, смутившись, тут же уткнулась в свою работу, принявшись с усердием скрести уже чистое корыто.
Лаура, наблюдая за ним, мягко коснулась его локтя.
– Довольно, Виктор. Не стоит утомлять себя. Тебе нужен свежий воздух, а не эта удушливая атмосфера. Пойдем, – ее голос звучал заботливо, но настойчиво.
Раймонд кивнул, в последний раз похлопав Тайнана по холке, и позволил вывести себя из конюшни под пристальным, незаметным взглядом рыжей.
Они вышли на улицу, и он с облегчением вдохнул воздух, уже не такой густой, но все еще напоенный ароматами жизни, которую он почти забыл. Лаура уверенно повела его дальше, в сторону рощи.
– Сюда, – решительно сказала она, сворачивая на узкую, почти незаметную тропинку, ведущую в чащу старой, дикой рощи. – Здесь никто не помешает.
Они вышли на небольшую, скрытую зарослями полянку, где поваленный штормом исполинский ствол служил естественной скамьей. Тишина, нарушаемая лишь жужжанием насекомых, оглушила после шумных улиц.
– Давай присядем, – сказала она. – Ты устал.
Он не спорил, почти рухнув на древесину. Она присела рядом, так близко, что ее упругое бедро плотно прижалось к его, а тяжелая, полная грудь оказалась в паре дюймов от его предплечья. Он чувствовал ее тепло сквозь слои ткани.
– Отец опять завел речь о замужестве, – тихо начала она, глядя куда – то вдаль. – Сватает сына мельника, толстомордого дурака, который только и умеет, что считать зерно. Или старого Тэба, у которого жена три года назад умерла. – Она горько усмехнулась. – Будто я вещь, которую нужно сбыть с рук. Здесь, в Садах… все мужчины стали какими – то… мелкими. Боятся, суетятся, прячутся за юбки жен. Ни силы в них, ни огня. – Она повернулась к нему, и в ее больших серых глазах плясали тени и искры. – Я хочу видеть мир, Виктор. Хочу перевалить за Хребет Ящера, увидеть Антарту, ее белые башни… а может, и добраться до Калананта, до столицы. Говорят, королевские гвардейцы там… совсем другие. Сильные. Бесстрашные. На таких можно положиться.
Она говорила, а ее рука легла ему на бедро. Сначала невинно, но потом палец начал водить по грубой шерсти его штанов маленькие, вызывающие круги. Она приблизилась еще, и теперь ее грудь касалась его руки. Он чувствовал ее упругость и тепло.
– А ты… ты из таких, Виктор, – ее шепот был горячим у самого уха. – Ты сильный. Настоящий. Я видела это с первого дня. И мне так тебя жаль… и так… так тебя не хватает.
Он повернул голову. Их взгляды встретились. В ее больших серых глазах не осталось и следа от былой безмятежности. В них стоял дымный, темный, животный огонь. Страсть. Прямой вызов.
– Здесь, у нас… все могло бы быть по – другому, – прошептала она, и ее губы, полные, влажные, прикоснулись к его. Горячие, настойчивые, лишенные нежности. В них был только голод. Только пыл.
И он ответил. Бес его возьми, как он ответил! Год воздержания, тоски, злости и боли вырвался наружу одним яростным, требовательным поцелуем. Его левая рука впилась в ее толстую золотую косу, притягивая ее так, что кости хрустели. Он слышал ее прерывистое дыхание, чувствовал, как под его ладонью дрожит ее спина.
– Виктор… – задыхалась она, ее пальцы лихорадочно рвались к застежкам его рубахи. – Дай… Дай мне тебя… Я так хочу…
Он помог ей, его собственная рубаха расстегнулась и сползла с плеч, обнажив бледную кожу, шрамы и перевязанную грудь. Пахло потом, болью и ею – травами и хлебом. Она откинулась, и быстрым, ловким движением ослабила шнуровку своего платья. Ткань разошлась, и ее грудь выплеснулась наружу – упругая, ослепительно белая, с темными, налитыми ягодами сосков. Она прижала его ладонь к этой горячей, шелковистой плоти.
– Видишь? Я живая. Я вся здесь. Для тебя.
Его раненый торс пылал, мускулы на животе напряглись до судорог. Он был мужественен и уязвим, и эта смесь, казалось, сводила ее с ума. Она покрывала его лицо, шею, грудь жадными, влажными поцелуями, кусая и зализывая укусы. Ее руки скользили вниз, к поясу, дрожащими пальцами развязывая ремень, расстегивая штаны. Он закинул голову, стон застрял в горле, когда ее пальцы обхватили его, горячие и влажные от пота. Она вела его, направляла, и он, поддаваясь, уступил, позволив ей оседлать его, сдерживая крик, когда ее тяжелое, влажное тепло обняло его, поглотило, заставив забыть о боли, о ранах, о долге. Он впивался руками в ее полные бедра, в ее тугой, мягкий стан, помогая ей, подчиняясь ее ритму, ее тяжкому, прерывистому дыханию в ухо. Это была не нежность, а яростное, животное соединение, похоть, смешанная с болью и гневом, выплеск всего, что копилось месяцами.
И в тот миг, когда разум уже готов был погрузиться в теплый, густой туман желания, он увидел ее. Адею. Не здесь, а там, в их холодной опочивальне. Ее лицо, исхудавшее от слез. Глаза, пустые и бездонные, как колодцы. Ее горе. Ее абсолютное, всепоглощающее отчаяние. И он… он собирался предать это горе? Предать ее? И с кем? С ее сестрой!
Словно ледяная волна накрыла его с головой. Он резко отстранился, выходя из нее так грубо, что Лаура едва не упала с бревна, ее глаза расширились от шока и обиды.
– Нет, – его голос прозвучал хрипло и чуждо. – Не могу. Я не могу.
Он поднялся, отступая, беспомощно пытаясь застегнуть дрожащими пальцами разорванную застежку на рубахе. Боль в ребрах вернулась, острая и живая, но она была ничто по сравнению с гнетущей тяжестью стыда и разрывающей внутренности пустотой.
Лаура сидела на бревне, с неприкрытой обидой и яростью затягивая шнуровку лифа. Растрепанные волосы скрывали ее лицо, но он видел, как мелко дрожат ее плечи.
– Трус, – прошипела она, и в этом слове был концентрат всей ее отвергнутой страсти. – Ты все так же боишься ее, как и она тебя.
Раймонд не ответил. Он уже повернулся и, шатаясь, почти бежал по тропинке прочь – от этого места, от этого сладкого, удушливого запаха ее тела, от этого жгучего стыда и невыносимого желания, которое теперь рвало его изнутри на части.
Он не мог. Но, как он хотел.
ПЕРВАЯ КРОВЬ ЩИТА
Влажный, промозглый ветер с южных равнин гулял среди черных, обугленных руин Элимии. Он не свистел, а стонал, забираясь в щиты, брошенные у палаток, и в душу каждого, кто помнил тепло. Ранняя антартийская весна была обманчива: снег сошел, обнажив грязь и пепелища, но холод, впитанный камнями за долгую зиму, все еще цепко держал землю. Мир здесь состоял из серого неба, черных руин и хлюпающей под ногами грязи.
Ханар Эпперли стоял на краю когда – то великого города, у подножия холма, где теперь располагался его лагерь. Его взгляд, холодный и тяжелый, блуждал по остовам башен, сломанных не им, но временем и забвением. Именно он, Ханар, сорвал с этого места древние чары, эту самую Завесу, что веками скрывала Элимию от мира. Он выкорчевал тайну, питавшую ее, и теперь от тайны остались лишь призраки да пепел.
Его размышления прервало беззвучное появление. Два трайтера – разведчика замерли в нескольких шагах, их железные латы были влажны от мороси, в пустых глазницах – ни искры жизни. Они просто стояли, ожидая.
Ханар не шелохнулся. Он знал, что делать. Не было нужды в прикосновениях. Он просто позволил своему сознанию коснуться их безмолвного присутствия, настроиться на тусклое эхо, что еще теплилось в этих обращенных камнях. Он закрыл глаза на мгновение, отсекая внешний мир.
И тут его сознание накрыло.
Это был не взгляд. Это был поток. Бесцветные, лишенные эмоций обрывки памяти, сохраненные, как отпечатки на камне. Он чувствовал под тяжелыми ногами хруст гравия на тропе. Видел узкий мост через бурный поток. Видел деревянную башню, уродливо встроенную в старые руины, а на ней – фигуры в потрепанных кожах. Слышал приглушенные звуки: хриплый смех, лай собаки, приглушенный плач. Запах ветра нес дым, горелое мясо и вонь немытых тел.
И тогда, словно вспышка, в этом потоке мелькнуло нечто чужеродное, личное. Не нынешнее, а старое, из того времени, когда этот камень еще был плотью.
…Жаркое солнце Виалосламских Степей, палящее в спину. Шум пирушки накануне битвы, хмельной смех. И тут же – другое: лицо девушки, худое, испуганное, вся в крови и пыли…
Связь оборвалась. Ханар резко открыл глаза, сделав шаг назад, будто отшатнувшись от невидимой стены. Он втянул в легкие холодный воздух, пытаясь прогнать призрак. Эти обрывки чужой жизни, этой «искры», которую он сам же и погасил, вызывали в нем странное, смутное беспокойство, почти стыд. Он грубо отогнал это чувство. Слабость.
– Переправу у старых руин контролируют хелфортцы, – его голос прозвучал хрипло, он прочистил горло. – Человек двадцать. Оборудовали заставу. Чувствуют себя хозяевами.
Из – за спины Ханара раздался язвительный, сухой голос. Исиндомид, опираясь на посох, смотрел на него своими мутными глазами.
– Забавная мышь, вставшая на пути льва. Порази их своим «Щитом», Ханар, и покончим с этим фарсом. Наши истинные цели ждут. Авеста и Сфера Богини – Матери не будут ждать вечно, пока ты играешь в благородного защитника.
Ханар медленно повернулся к нему. Его фигура, могучая и широкая в плечах, заслонила тщедушного колдуна. Лысая голова, покрытая старыми шрамами, и густая, темная борода, прорезанная сединой, делали его похожим на свирепого идола. Истинный воин, выкованный в десятках походов.
– Мой путь – мой выбор, старик. Твое слово – не закон. Молчи и жди.