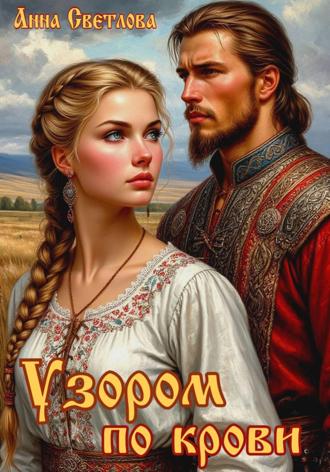
Полная версия
Узором по крови
– Человек Барсбека будет ждать тебя следующей ночью у кривой осины на опушке, – произнёс Олбег, как только холоп скрылся за дверью.
Он замолчал, и в тишине я слышал лишь потрескивание угольев в очаге да далёкий лай собак за стенами двора. Его глаза, тёмные, как омуты в лесных болотах, следили за каждым моим движением. Я чувствовал: он наслаждался моим нетерпением, моей зависимостью от его вестей.
Я налил себе мёда, медленно поднёс чашу к губам. Сделал глоток, чувствуя, как сладкая жидкость обжигает горло, даруя обманчивое тепло.
– И это всё? – процедил я сквозь зубы. Перстень с тёмным камнем впился в палец. – Для этого ты потревожил меня среди ночи? Для вести, которую мог передать и утром?
Олбег медленно покачал головой.
– Не всё, боярин, – губы его растянулись в улыбке, обнажая зубы, острые, как у хищника. – Человек Барсбека привезёт обещанное золото… и весть от самого хана Кончака.
Сердце моё дрогнуло, словно спотыкаясь на бегу. Кончак… Имя, которое заставляло бледнеть даже бывалых воинов. Имя, от которого стыла кровь и немели пальцы.
Я поднял взгляд на Олбега, стараясь, чтобы мой голос звучал твёрдо, как подобает боярину древнего рода.
– Что хану понадобилось от меня? Разве я делаю недостаточно? – спросил я.
– То мне не ведомо, боярин. Мне велено передать тебе весть, а ты уже сам решай, что с ней делать, – ответил Олбег, поднимаясь с лавки. – Но только велели ещё донести до тебя: у Барсбека повсюду глаза и уши.
Он направился к двери, но остановился на пороге и обернулся.
– Даже в твоих покоях, боярин. Даже среди тех, кому ты доверяешь свою спину в бою и свои тайны в ночи.
Глава 11.
Забава
Всеслав покинул мои покои. За ним медленно закрылась дверь. Я долго смотрела в пустоту, туда, где только что стоял брат, и ощущала, как в груди разрастается горечь.
«Такова судьба княжеских дочерей и сыновей – жертвовать сердцем ради земли отцов», – сказал он, глядя поверх моей головы.
За стеной послышались тихие всхлипывания. Открыв тяжёлую дубовую дверь в соседнюю горницу, я замерла на пороге. В груди кольнуло, будто занозу загнали под рёбра. Милава сидела у окна на резной лавке, закрыв лицо руками. Её плечи вздрагивали от рыданий. Лучи заходящего солнца пробивались сквозь мутную слюдяную оконницу и окрашивали её фигуру в золотисто-розовый цвет, делая похожей на икону скорбящей великомученицы.
Услышав скрип двери, Милава подняла голову. Я смотрела на её заплаканное лицо, и сердце моё сжималось от боли. Русые волосы, обычно заплетённые в тугую косу, растрепались. Глаза покраснели от слёз и казались огромными на побледневшем лице. А руки, обычно такие ловкие и умелые при вышивании или сборе трав, беспомощно комкали край сарафана.
Я сделала шаг. Половицы под ногами чуть скрипнули.
– Он… он сказал, что я пойму… что должна понять, – всхлипывала Милава, захлёбываясь на каждом слове.
Я подошла и опустилась рядом. Лавка под нами вздохнула старым деревом. Обняла подругу за худенькие плечи. От неё пахло травами – ромашкой и чабрецом, которые она всегда добавляла в воду для умывания.
Я не знала, что ей сказать, поэтому просто молчала, прижимая к себе. Иногда тишина говорит больше слов, особенно когда слова бессильны против горя.
За стеной глухо ударил колокол на сторожевой башне – три удара, знак смены стражи.
– Я… я думала, что люба ему, – выговорила Милава, вытирая щёки тыльной стороной ладони. – Он же сам говорил…
Я взяла её лицо в ладони – так, как когда-то делала матушка, когда хотела, чтобы я поверила её словам.
– Уверена, что люба, – сказала я, глядя в глаза подруге. – Я знаю своего брата лучше, чем кто-либо. Видела, как он смотрит на тебя. Замечала, как светлеет его лицо, будто в горницу внесли сотню свечей. Но сейчас он не просто Всеслав – он будущий князь. Его рвут на части – отец, бояре, слухи о половцах, которые как туча – глухая и тёмная, идут с востока.
Милава подняла на меня взгляд, полный такого отчаяния, что казалось – загляни в её глаза чуть дольше, и сама утонешь в этой бездне горя.
Я вздохнула, чувствуя, как внутри поднимается глухое раздражение, подобное грому далёкой грозы. Брат всегда был упрямым, но сейчас его упрямство могло сломать жизнь не только ему, но и Милаве.
– Послушай, – я сжала ладони подруги в своих. Они были ледяными, будто она держала их в снегу. – Ты люба ему. Просто сейчас он пытается жить не сердцем, а долгом. Он прежде всего будущий князь, а не просто мужчина. На нём, как и на отце, лежит ответственность за всех нас – от последнего смерда до боярина.
– Я знаю, – прошептала Милава. – Но от этого мне не легче. Сердце ведь не колода, не заставишь не болеть…
За окном начинало темнеть. Последние лучи солнца пробивались сквозь полупрозрачную слюду, рисуя на деревянном полу, натёртом до блеска, причудливые узоры – словно невидимая мастерица ткала золотой ковёр. Где-то во дворе залаяли собаки, учуяв чужака.
Я натянуто улыбнулась, пытаясь отвлечь Милаву от тяжёлых мыслей.
– Помнишь, как мы в детстве лазили на крепостную стену? – спросила я, стараясь, чтобы голос звучал непринуждённо, почти насмешливо. – Ты тогда так боялась высоты, вцеплялась в выступы, будто белка, но всё равно лезла за мной.
Милава всхлипнула, но в уголках её губ промелькнула робкая улыбка, а возле глаз появились едва заметные морщинки.
– Ты сказала, что там растёт волшебный цветок, который исполняет желания, – прошептала она, неловко утирая слезу. – Вот я и полезла.
– А когда мы добрались до верха, там ничего не было, – я усмехнулась, чувствуя, как в груди шевельнулось тёплое воспоминание. – Только ветер и птицы.
– И ты тогда сказала, что цветок улетел, потому что испугался ворон, – Милава тоже засмеялась, и её смех был как весенний ручеёк: робкий, но живой. – Я и правда поверила! До самого Петрова дня в окне высматривала, не вернётся ли тот цветок.
– Конечно, поверила. Ты всегда мне верила, – я сжала её руки, чувствуя, как кожа под моими пальцами начинает теплеть. – Так и сейчас поверь. Всё образуется. Пусть не сразу, но обязательно выправится.
Милава подняла на меня взгляд, в котором надежда боролась со страхом. Её зрачки расширились, делая голубые глаза почти чёрными, как омуты.
– А если нет? – прошептала она, и её голос дрогнул, словно тонкая ледяная корочка под ногой.
Я выпрямилась, будто внутри меня поднялся ветер.
– Тогда мы что-нибудь придумаем, – сказала твёрдо.
Мы сидели у окна, наблюдая, как день уступает место ночи. Тени удлинялись, ползли по стенам горницы, цепляясь за вышитые рушники с красными петухами-оберегами. Каждый стежок на них был заговорён старой Пелагеей от лихого глаза и нечистой силы. Из печи, протопленной с утра, ещё тянуло живым теплом. В углу потрескивала лучина в железном светце, отбрасывая на бревенчатые стены причудливые тени.
Чёрный Яр засыпал – слышались перекличка дружинников, сменяющих караул на стенах, хриплый лай собак у конюшен, скрип колодезного ворота, когда последние работники набирали воду на ночь. Из дальнего угла терема доносилось монотонное пение Пелагеи.
– Что будет с крепостью? – тихо спросила Милава, прислушиваясь к этим звукам, словно пыталась запомнить их навсегда.
Я невольно коснулась крестика на шее.
– Полукровка говорил страшные вещи об орде Кончака, – ответила я, вспомнив рассказы пришлого человека с раскосыми глазами. – Говорил, что их тьма, как саранчи в засушливое лето, что они не знают пощады ни к старикам, ни к младенцам. Что кровь течёт за ними рекой, а пепел от сожжённых деревень застилает небо чёрной пеленой.
Я замолчала, глядя, как последний луч солнца скользит по резному наличнику, словно прощаясь до утра. Сколько закатов видел он? Сколько рассветов встретил?
– Чёрный Яр стоял здесь ещё до рождения моего отца, – добавила я чуть погодя, проводя рукой по шершавой поверхности дубовой лавки, отполированной поколениями рук до блеска. – Выдержит и сейчас. Его стены видели и печенегов, и хазар. Переживут и половцев.
Но в сердце моём скребли когтями сомнения. Я вспомнила лицо отца, когда он вернулся после разговора с Маломирой. Осунувшийся, с запавшими глазами, словно за один вечер постарел на десять лет.
– А если нет? – Милава вцепилась в мою руку. – Если половцы прорвутся в крепость?
В её глазах плескался страх – тёмный, глубокий, как омут. Я знала этот страх – он жил и во мне, свернувшись клубком где-то под сердцем, как змея в норе.
Я посмотрела на подругу, стараясь, чтобы мой голос звучал увереннее, чем я себя чувствовала. Каким был голос отца перед битвой – спокойным и твёрдым.
– Тогда мы будем сражаться. Каждый, кто может держать в руках оружие. От мала до велика. Я сама встану на стену с луком, и ты знаешь, что я не промахнусь.
«И умру там, если придётся», – подумала я, но не сказала вслух. Лучше смерть, чем полон у степняков. Я слышала рассказы о том, что делают половцы с пленными женщинами. Лучше уж броситься со стены крепости вниз головой.
Милава смотрела на меня широко раскрытыми глазами, в которых отражалось пламя свечи, делая их похожими на два янтарных камня с застывшими внутри искрами.
– Ты всегда была храброй, Забава, – улыбнулась она, и в её улыбке мелькнуло что-то от прежней, беззаботной Милавы, которая плела венки на Ивана Купалу и бросала их в реку, гадая на суженого. – Помнишь, как ты заступилась за меня перед Всеславом и его дружками?
Я рассмеялась, вспоминая, как налетела на троих мальчишек, дёргавших Милаву за косу возле кузницы. Мне было шесть, ей – семь, но я уже тогда не боялась вступить в бой за тех, кто дорог моему сердцу.
– Ещё бы не помнить! – я потёрла костяшки пальцев, словно они всё ещё болели от того давнего боя. – Брат потом неделю дулся на меня за разбитый нос. Всё грозился пожаловаться отцу.
– Зато больше никто не смел обижать меня, – Милава прижалась ко мне, как в детстве, когда мы прятались от грозы под тяжёлыми меховыми одеялами. – Знаешь, иногда я жалею, что мы выросли. Тогда всё было проще. Самой страшной бедой был разбитый нос или порванный сарафан.
Я вздохнула, глядя на свои руки – уже не детские, с длинными пальцами и аккуратными ногтями, но с мозолями от лука и рукояти ножа, который я всегда носила в кожаных ножнах у пояса. Вопреки причитаниям Пелагеи о том, что «негоже дочери князя носить оружие, яко ратному мужу».
– Да, проще, – согласилась я, наблюдая, как тени от лучины пляшут на стенах. – Но мы не можем оставаться детьми навсегда. Как не может река течь вспять или солнце остановиться в зените. Всё течёт, всё меняется, как сказывал отец Феофан.
Я подошла к окну, но в тот же миг кровь застыла в жилах. Гостомысл стоял во дворе напротив моих окон, неподвижный, как деревянный идол, и его глаза впивались в меня, как когти хищника, а губы едва заметно шевелились, будто он что-то беззвучно говорил. Я отпрянула, спиной ударилась о резные ставни. В ушах застучало: «Что он здесь делает? Неужели следит за мной?»
Глава 12.
Забава
Неожиданно мне вспомнился утренний разговор с боярином Гостомыслом. Его взгляд, острый и жадный, словно у ястреба, высматривающего добычу, до сих пор вызывал дрожь, будто я окунулась в прорубь в крещенские морозы. Он смотрел на меня не как на княжескую дочь, а как на лакомый кусок земли, который можно присоединить к своим наделам. Как на молодую кобылицу, которую осматривают со всех сторон перед покупкой.
– Красивая ты стала, Забава Всеволодовна. Совсем взрослая. Пора бы о замужестве подумать. Любой боярин почтёт за честь взять тебя в жёны, – сказал он пару седмиц назад, застав меня одну в яблоневом саду.
Его слова лились медленно, словно густой мёд с ложки, но в этой сладости чувствовался горький привкус полыни. Голос звучал вкрадчиво, почти ласково, однако каждое слово ложилось на душу тяжёлым камнем. Я невольно отступила на шаг, спиной ощутив шершавую кору старой яблони, но Гостомысл тут же сократил расстояние между нами.
Когда он приблизился, меня окутало его зловонное дыхание – смесь прокисшего вина, гнилых зубов и конского пота. Я прикрыла лицо рукавом, стараясь не показывать отвращения, но он заметил мой жест и хищно усмехнулся, как волк, загнавший в угол беззащитную овцу.
– Что с тобой? – Милава заметила, как я напряглась, будто натянутая тетива лука перед выстрелом. Её руки замерли над моими волосами, и в зеркале из полированной меди я увидела, как побледнело моё лицо.
– Гостомысл, – одно имя вызвало горечь во рту, как отвар золототысячника. – Ты же видела его подарок сегодня утром. Украшение для волос в виде птицы.
– Боишься его? – Милава нахмурилась, её тёмные брови сошлись на переносице.
– Он смотрит на меня так, что мурашки бегут по коже, – я подошла к резному сундуку, окованному медными полосами, которые поблёскивали в свете лучин. Достала гребень из жёлтой кости, украшенный затейливой резьбой. – Словно я уже принадлежу ему. Словно он считает меня своей добычей.
Милава взяла гребень и начала расчёсывать мои волосы – медленно, осторожно, как делала с детства. Её прикосновения успокаивали, как колыбельная нянюшки.
– Лиходей он, Забавушка. Чистый аспид, – тихо промолвила она. – Я слышала, что Гостомысл держит в кулаке половину дружины. Даже Всеслав не осмеливается перечить ему.
Милава придвинулась ближе, и её голос стал едва слышным.
– Говорят, тех воинов, что ему верно служат, он задабривает – дарит булатные мечи из дамасской стали, что режут железо, словно масло, и заморские вина, от которых кружится голова. А вот тех, кто осмелится ослушаться… – она содрогнулась и перекрестилась. – Те либо бесследно исчезают в тёмную ночь, либо находят свою смерть при загадочных обстоятельствах.
Голос её стал едва различимым шёпотом:
– А ещё… Господи, прости меня за эти слова… Говорят, он по ночам, когда луна скрывается за тучами, призывает нечисть.
Гребень скользил по моим волосам, и с каждым движением напряжение немного отпускало. В горнице пахло ладаном и сушёными травами, которые нянюшка развешивала пучками под потолком. Этот запах напоминал о детстве, о безопасности, о временах, когда самой большой бедой была порванная рубаха или разбитый горшок.
– Знаю. Поэтому и боюсь, что батюшка может… – я недоговорила, но Милава поняла, как всегда понимала меня с полуслова, с полувзгляда.
– Выдать тебя за него? – Её руки на мгновение замерли. – Нет, князь не сделает этого. Он знает, какой Гостомысл на самом деле.
– А какой он? – Я повернулась к ней так резко, что волосы хлестнули по спине. В зеркале отразились мои глаза – широко распахнутые, полные страха. – Ты что-то знаешь? Что-то, чего не знаю я?
Милава опустила глаза, её пальцы нервно сжали гребень. Я видела, как она борется с собой: сказать или промолчать.
– Я мало что знаю. Это всё слухи, – наконец прошептала она, оглядываясь на дверь, словно боялась, что кто-то подслушает. – Говорят, его первая жена не от болезни умерла. И вторая тоже. Бабы на торгу болтают, что он поил их отварами, от которых кровь сворачивается в жилах, а сердце останавливается. Моя матушка видела, как Гостомысл покупал у заезжего торговца какие-то корешки. Торговец тот был из дальних земель, где люди знают толк в травах, от которых смерть приходит тихо, как сон.
Холодок пробежал по моей спине, словно кто-то провёл по ней ледяным пальцем. Я слышала, что у Гостомысла было две жены. Обе молодые, красивые, и обе умерли, не прожив с ним и года. Но никогда не слышала намёков на то, что их смерть могла быть неестественной. Теперь же, вспоминая его взгляд, его улыбку, которая никогда не касалась глаз, я понимала: Милава могла быть права.
– Богородица, – прошептала я, крестясь. – Неужели он убийца?
– Люди разное говорят, – Милава продолжила расчёсывать мои волосы, но теперь её движения стали более резкими, как у человека, который спешит закончить неприятное дело. Гребень из кости скрипел в её пальцах. – Моя мать знала травницу, которая лечила вторую жену Гостомысла. Она говорила, что болезнь у той была странной. Не похожей на лихорадку. Кожа пожелтела как осенний лист, глаза стали мутными, словно затянутые паутиной, а из носа и ушей сочилась кровь – чёрная, густая, как дёготь.
Я вздрогнула так резко, что чуть не опрокинула глиняный кувшин с водой, стоящий на столе. Вспомнила, как Гостомысл смотрел на меня сегодня утром, когда преподносил дар. В его глазах была жажда обладания, словно я была не человеком, а диковинной птицей в золотой клетке, которую он хотел повесить в своей горнице, чтобы все видели его богатство и власть.
– Как думаешь, он знает о половцах? – Милава отложила гребень, украшенный перламутровыми вставками и серебряными нитями, и начала заплетать мне косу. Её пальцы двигались быстро и уверенно, как у мастерицы, что всю жизнь плетёт кружева.
– Конечно, знает. Он был на совете у батюшки, – я почувствовала, как злость поднимается внутри, горячая и едкая, словно кипящий мёд. – Иногда мне кажется, что он знает больше, чем говорит. Что за его улыбками скрываются такие тайны, от которых кровь застынет в жилах.
За окном полностью стемнело, и только далёкие звёзды мерцали в вышине, как серебряные гривны, рассыпанные по чёрному бархату небес. В свете лучин, что чадили в железных подставках, лицо Милавы казалось особенно бледным, а глаза – огромными и испуганными.
– Забава, – она закончила плести косу и повязала её алой лентой цвета спелой рябины, – обещай, что будешь осторожна с Гостомыслом. Не пей ничего из его рук, не принимай даров. Даже хлеб-соль от него может оказаться отравой.
Я взяла её за руки – тёплые, с мозолями от иглы:
– Обещаю. И ты тоже будь осторожна. Если Всеслав действительно решит жениться на дочери какого-нибудь князя, чтобы скрепить союз против половцев…
– Я понимаю, – Милава грустно улыбнулась. В её словах слышалась покорность судьбе, горькая, как полынь. – Я всего лишь дочь павшего воеводы. Мне не место рядом с княжичем. Я знала это всегда, просто… просто сердце не конь, узды на него не накинешь, как говорит старая Пелагея.
– Не говори так! – я крепче сжала её руки, чувствуя, как бьётся жилка на запястье. – Ты лучше всех княжеских дочек с их расшитыми жемчугом сарафанами и надменными взглядами. Всеслав знает это. Я видела, как он смотрит на тебя, когда думает, что никого рядом нет. Взгляд его становится мягким.
– Сейчас крепость важнее, – закончила она за меня, и её голос звучал твёрдо, как у человека, принявшего решение и готового нести его, словно тяжёлый крест. – Я понимаю, правда. Чёрный Яр должен выстоять. Ради всех нас.
В дверь постучали – три быстрых удара. Мы обе вздрогнули, словно нас поймали на воровстве.
– Забавушка, дитятко, – раздался голос старой няньки, – пора почивать. Утро вечера мудренее, как говаривала ваша матушка, царствие ей небесное. Ночь – время для тёмных дел и недобрых помыслов.
– Действительно, пора, – я встала, расправляя складки на сарафане из тонкого сукна.
Милава кивнула, но в её глазах я видела тревогу. Она боялась – не за себя, за Всеслава, за меня, за всех нас. И я не могла её винить. Тревога висела над Чёрным Яром, как грозовая туча перед бурей, что несёт с собой град и молнии.
Когда она обняла меня на прощание, я почувствовала, как что-то твёрдое прижалось к моей груди сквозь тонкую ткань рубахи. Милава отстранилась и вложила в мою ладонь маленький кожаный мешочек, пахнущий травами и дымом.
– Носи его всегда при себе, – прошептала она, касаясь губами моего уха. – Этот оберег защитит от дурного глаза и злого умысла.
Я сжала подарок в кулаке, пальцами ощущая, как внутри перекатываются сушёные травы и что-то ещё – твёрдое, угловатое, похожее на осколок речной гальки.
– Спасибо, – я поцеловала Милаву в щёку, ощущая солоноватый привкус слёз, что она пыталась скрыть. – Завтра увидимся.
– Как всегда, – кивнула она.
Когда дверь за ней закрылась с глухим стуком, я подошла к окну. Створки скрипнули на железных петлях, и в лицо ударил холодный ночной воздух, пахнущий дымом очагов. Мимо меня с громким, почти человеческим криком пролетела ночная птица.
Я резко отпрянула от окна и опрокинула медный светильник. Масло разлилось по деревянному полу золотистой лужей. Сердце билось так громко, что, казалось, его слышно во всей крепости.
Разве птицы летают так низко?
Я крепче сжала оберег Милавы, чувствуя, как тёплые травы внутри мешочка словно отвечают на мой страх. Он показался мне единственной защитой в этом мире, где даже тени могли ожить.
Глава 13.
Переяр
Я тонул в огненном мареве, словно в смоляной реке, что течёт между миром живых и мёртвых. Жар пожирал меня изнутри, а боль расползалась по телу, как ядовитые корни болиголова. В этом кошмарном полусне ко мне приходили тени – родные лица, искажённые пламенем и горем.
Мать склонялась надо мной, её волосы развевались, как дым над пожарищем. Глаза – цвета осеннего неба перед грозой – смотрели с такой печалью, что сердце готово было разорваться.
– Сынок, – шептала она, и голос её звучал как треск горящих брёвен, – что же ты наделал? Душа твоя теперь ни своим, ни чужим не принадлежит.
Слёзы стекали с её лица на мои ладони, каждая капля обжигала сильнее расплавленного металла. Слова застревали в горле, словно кто-то стягивал его петлёй, не давая вырваться ни крику, ни мольбе о прощении.
Рядом возникла бабка – сгорбленная, с лицом, изрезанным морщинами, как старая кора.
– Не уберёг, – шипела она, и кожа на её лице начинала чернеть, трескаться, обнажая белую кость. – Где ты был, когда Заречье пылало? Где был, когда детей резали, как ягнят?
Запах гари и крови ударил в ноздри так сильно, что захотелось задохнуться. Я слышал далёкие крики, треск рушащихся изб, плач младенцев. Весь мир горел, а я… я лежал беспомощный, как подрубленное дерево.
Из огненной мглы выступил отец. Шрам над бровью побелел, глаза сверкали, как угли. Он смотрел на меня с такой ненавистью, что кровь в жилах стыла.
– Предатель, – процедил отец сквозь стиснутые зубы. – Кровь свою продал. Не сын ты мне больше!
Он поднял руку, и я увидел топор – тот самый, которым рубил дрова в детстве. Лезвие блеснуло, занесённое для удара…
Я заметался на жёстком ложе, как рыба, выброшенная на берег. Невидимые путы сковывали руки и ноги крепче железных оков. Хотел кричать – не мог, пытался бежать – не было сил пошевелиться.
И вдруг прохладные ладони коснулись моего лба. Чьи-то пальцы, пахнущие травами и дымом, смыли жар, как родниковая вода смывает пыль с камня.
– Переяр, – позвал низкий женский голос. – Вернись. Рано тебе в тот мир уходить. Путь твой ещё не пройден до конца.
Я разлепил веки – тяжёлые, словно налитые свинцом, – и увидел склонившуюся надо мной женщину. Её чёрные, как воронье крыло волосы, были заплетены в тугие косы. В них были вплетены амулеты – костяные, деревянные, медные, позеленевшие от времени. При каждом движении они тихо позвякивали, как колокольчики на шее заблудшей коровы.
Лицо её темнело смуглой кожей, мелкие морщины расползались паутиной от уголков губ к вискам. Но глаза горели молодым пламенем – разноцветные, чарующие: левый карий, словно янтарь на солнце, манил теплом и обещал утешение, правый – зелёный, как омут в лесной чаще – завораживал, опутывал чарами. Кто она? Знахарка. Ведунья.
– Вернулся, – удовлетворённо кивнула она, заметив, что я очнулся. – Хорошо. Значит, сильный дух в тебе. Не зря я три ночи над тобой просидела.
Я попытался заговорить, но горло пересохло. Женщина поднесла к губам глиняную чашку с тёплым отваром. Пахло мятой, зверобоем и чем-то ещё – горьким и целебным.
– Пей, – велела она. – Силы набирайся.
– Где я? – прохрипел я, каждое слово царапало горло, словно проглоченные угольки.
– В Чёрном Яру, где же ещё? – Усмехнулась незнакомка. Она снова поднесла к моим губам чашу.
– Пей. Это вытянет жар из твоей крови.
Я послушно выпил, морщась от горечи, что разливалась по языку металлическим привкусом. Отвар обжигал горло, но почти сразу в голове прояснилось.
«Живой. Я всё ещё живой».
Огляделся, пытаясь понять, в какую западню меня занесло. Маленькая комната с низким потолком, закопчённым от очага, где тлели угли, отбрасывающие пляшущие тени на стены. Узкое окно, затянутое полупрозрачным бычьим пузырём, сквозь который пробивался тусклый свет – то ли рассвет, то ли закат. Пучки трав, развешанные по стенам, источали сильный дурманящий запах. На полках теснились глиняные горшочки, банки с мутными настоями, связки корней, похожие на высохшие пальцы.
«Ведьмин дом. Попал в самое логово», – мелькнула мысль.
– Кто ты? – спросил я, чувствуя, как сердце стучит всё ровнее, но тревога не отпускает.
– Маломира, – ответила женщина, убирая чашу и вытирая мой лоб влажной тряпицей, от которой пахло мятой. Её пальцы были удивительно прохладными. – Знахарка здешняя. Князь послал за мной, как только ты в крепости появился. Три дня я вытаскивала тебя с того света, сын двух кровей. Рана твоя гнилью пошла, еле успела. Ещё бы ночь – и ушёл бы ты к предкам своим: и нашим, и степным.









