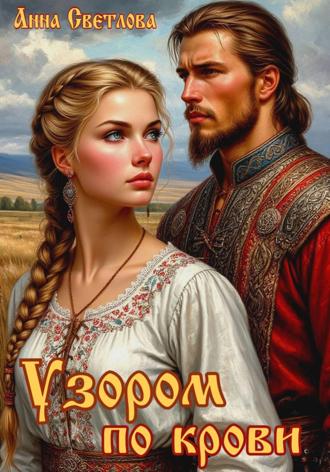
Полная версия
Узором по крови
– Будет тебе, Ждан, – оборвал его седоусый, хотя в глазах плясали искры веселья. – Князь сам решит, какое омовение ему устроить – в колодце али в крови его же.
Я молчал, глотая обиду вместе с пылью. Пусть потешаются. Как говаривал отец: «Терпение степного волка вознаграждается сытой охотой».
Меня повели через двор, где жизнь замерла, будто перед грозой. Кузнец у горна перестал бить молотом, обернувшись на звук шагов. Женщины застыли с мокрым бельём в руках, прижимая к себе детей. Старики у ворот прервали беседу, провожая меня взглядами, полными недоверия и страха.
Я шёл, выпрямив спину, хотя каждый шаг отдавался в ране огненной вспышкой боли. Голова раскалывалась, будто внутри били в набат. Каждый вдох обжигал лёгкие, как будто я вдыхал не воздух, а раскалённые угли. Даже ресницы болели.
Пот заливал глаза, но я не смел его вытереть – руки держал на виду, подальше от оружия.
«Матушка, – думал я, глядя на настороженные лица русичей, – твой народ встречает меня, как врага. А отцовский народ охотится на меня, как на дикого зверя. Где моё место в этом мире, разорванном надвое?»
Но ответа я не услышал. Только ветер свистел в ушах, да сердце отсчитывало удары, которых, возможно, осталось не так уж много.
Княжеский терем вырос передо мной. Он возвышался над крепостью, как могучий дуб над мелким подлеском – двухэтажный, с искусной резьбой на наличниках и высоким рубленым крыльцом. Меня втолкнули внутрь, в прохладные сени, где воздух густо пах дымом, сушёными травами и медовухой. Голова кружилась, рана на плече пульсировала в такт сердцу, выжигая огнём каждый вдох.
Гридница встретила полумраком и настороженной тишиной. Вдоль стен тянулись тяжёлые дубовые лавки, отполированные сотнями воинских задов, а в центре громоздился стол, за которым могла бы пировать целая дружина. У дальней стены на возвышении стояло тяжёлое кресло с медвежьими головами на подлокотниках. В нём сидел немолодой мужчина в синем кафтане, расшитом серебряными нитями. Его русые волосы и борода, тронутые сединой, обрамляли лицо, изрезанное морщинами, как кора старого дерева. Но глаза… глаза смотрели остро и цепко, будто у хищной птицы, высматривающей добычу. Сказывали, что взглядом своим князь мог заставить даже медведя пятиться задом, как красна девица от назойливого свата.
– Князь Всеволод! – Седоусый воин склонил голову, не сводя с меня подозрительного взгляда. – Привели к тебе чужака. Сказывает, будто он Переяр, сын боярыни Елены Зарецкой из Заречья. Хотя по обличью – что половец!
Князь подался вперёд, его взгляд полоснул меня, как кинжал.
– Из Заречья, говоришь? – В его голосе звенела сталь. – Того самого, что половцы спалили дотла?
Я кивнул, чувствуя во рту горечь. Перед глазами вспыхнули картины пожарища – чёрные остовы изб, обугленные тела, вороны, кружащие над пепелищем.
– Да, княже, – выдавил я, борясь с подступающей тошнотой. – Моя мать была оттуда родом. Двадцать пять зим назад её увели в полон. Позже она стала женой Тугара, брата хана Кончака.
По гриднице пронёсся шёпот, колючий и злой, как осенний ветер. Я видел, как напряглись воины, как их пальцы легли на рукояти мечей, готовые в любой миг выхватить сталь.
– И зачем ты заявился сюда, Переяр, сын Тугара? – процедил князь, сузив глаза до щёлочек.
Я расправил плечи, хотя каждое движение отзывалось в ране огненной вспышкой боли. Пот заливал глаза, рубаха прилипла к спине, но я стоял прямо, глядя князю в лицо.
– Я отрёкся от рода своего отца, – ответил я, не отводя взгляда. – Две луны назад хан Кончак приказал сжечь Заречье. Я просил его не делать этого. Ведь там живёт родня моей матери. Моя бабка, дядья, двоюродные братья и их дети… Все они погибли. Я не смог предотвратить бойню и помочь.
Рана на плече пульсировала, будто в неё впился раскалённый гвоздь. Каждый удар сердца заставлял его входить глубже, разрывая плоть.
– И ты думаешь, что мы тебе поверим? – Звонкий женский голос хлестнул, как плеть.
Я резко обернулся и увидел её – высокую девушку в тёмно-синем сарафане. Толстая русая коса, перевитая алыми и синими лентами, спускалась до пояса. Но глаза… её глаза поразили меня больше всего – зелёные, как молодая листва, яркие и пронзительные. В них полыхал огонь, не уступающий тому, что жёг мою душу.
– Забава, – с укором произнёс князь, сдвинув брови. – Я не давал тебе слова.
– Прости, батюшка, – ответила она, не отрывая от меня взгляда, полного такого презрения, что им можно было бы выжечь клеймо на коже. – Но я должна была увидеть этого… гостя. – Она выплюнула последнее слово как отраву. – Племянник хана Кончака, того самого, чьи воины вырезали наши деревни и угнали людей. И ты веришь, что он пришёл с миром? Не с ножом ли за голенищем?
Один из дружинников хмыкнул: «Ишь, княжна-то наша, что кипяток – не успеешь оглянуться, а уж обварит!» Кровь бросилась мне в лицо – то ли от лихорадки, то ли от её слов. Перед глазами поплыли тёмные пятна, но я заставил себя стоять прямо.
– Я не выбирал себе отца, – сказал я. Каждое слово царапало пересохшее горло. – Как и ты – своего. Но я выбрал свой путь. И этот путь привёл меня сюда.
Княжна подлетела ко мне, будто степной ветер – резкий и неудержимый. Её зелёные глаза полыхали яростью. Кожа на моём лице натянулась от напряжения – я чувствовал её дыхание, горячее и прерывистое.
– Чтобы наушничать? – прошипела она, остановившись в шаге от меня.
Запах мёда и луговых трав от её волос ударил в ноздри, вызывая странную тоску. Запах дома, которого у меня никогда не было. Аромат земли, по которому тосковала моя мать до последнего вздоха.
– Чтобы выведать наши силы и слабости? – Её голос звенел, как натянутая тетива. – Чтобы открыть ворота своим братьям-половцам, когда мы будем спать?
В голосе дрожала едва сдерживаемая ярость, но за ней я различил нечто большее – боль. Боль потерь и страх новых утрат. Я знал этот взгляд – замечао его в зеркале воды каждое утро с тех пор, как увидел пепелище Заречья.
– Забава! – Голос князя загремел как гром, отражаясь от стен гридницы и ударяя в уши. – Довольно!
– Я пришёл, чтобы предупредить, – сказал я тихо, удерживая лицо неподвижным, хотя внутри всё горело огнём. Язык казался распухшим, каждое слово давалось с трудом. – Хан Кончак собирает силы для нового набега. Он жаждет крови, хочет отомстить за прошлогоднее поражение от князя Владимира Глебовича. И первой на его пути стоит ваша крепость.
В гриднице стало тихо, как перед грозой. Я видел, как расширились глаза Забавы, как дрогнули её губы, как между бровей залегла тревожная складка. Князь медленно поднялся с кресла, его рука легла на рукоять меча – не угрожая, но готовясь.
Я почувствовал, как силы покидают меня. Перед глазами поплыли чёрные пятна, словно вороны, кружащие над полем битвы. Ноги стали ватными, будто я брёл по колено в речной тине. Я пошатнулся, пытаясь устоять, но тело предало меня.
«Не сейчас, – взмолился я про себя. – Только не сейчас…»
Но лихорадка, терзавшая меня всю дорогу от степи до крепости, наконец взяла своё. Я ощутил, как подгибаются колени, как пол гридницы стремительно приближается к моему лицу.
Последнее, что увидел перед тем, как рухнуть, – испуганные глаза Забавы, в которых растаяла ненависть, уступив место чему-то, похожему на сострадание. Её руки, мгновение назад сжатые в кулаки, теперь тянулись ко мне, словно пытаясь удержать от падения.
«Матушка, – подумал я, проваливаясь в темноту, – я выполнил твою последнюю просьбу. Я вернулся на твою землю. Но примет ли она меня?»
А потом мир исчез, растворился в боли и жаре, как тает снег под весенним солнцем.
Глава 8.
Забава
Терем встретил гнетущей тишиной, которую нарушали лишь потрескивание смоляных лучин в настенных светцах да робкий шорох мышей за стеной. Я шла следом за Всеславом, чувствуя, как гнев клокочет внутри, словно вода в медном котле, поставленном на жаркий огонь. Брат молчал, но его широкие плечи под парчовым кафтаном были напряжены, а поступь – тяжела и размеренна, будто каждый шаг стоил ему немалых усилий. Словно нёс он на себе не только драгоценный пояс с серебряными бляхами, но и бремя всего княжества.
Когда дверь моей светлицы затворилась за нами с глухим стуком, я не выдержала:
– Ты ему веришь? Этому… басурманину? – Слова вырвались быстрее, чем я успела обуздать свой язык.
Всеслав обернулся, кольца на его пальцах тускло блеснули. В дрожащем свете лучины его лицо казалось высеченным из белого камня. Такое же твёрдое и неподвижное, как лики святых на фресках в княжеской молельне.
– Я верю своим глазам, Забавушка. Ты видела его рану? Такую не наносят себе, чтобы снискать расположение чужого князя. Стрела прошла на палец от сердца.
– Может, его соплеменники ранили, чтобы мы поверили! – Я сжала кулаки. Янтарные бусы на моей груди заколыхались от резкого движения. – Или ты забыл, что сделали половцы с Серебряными Ручьями? С нашей матушкой? Сколько людей угнали в полон? Сколько дев осквернили? Сколько младенцев насадили на копья?
Брат опустился на дубовую лавку и потёр виски. Огонь в очаге бросал на его лицо причудливые тени, делая старше и суровее. Над головой его висел дедовский щит и меч в потемневших от времени ножнах.
– Не забыл, – тихо ответил он. – Каждую ночь вижу пепелища во сне. Но этот полукровка… В его словах я не чую подвоха.
Я фыркнула, отворачиваясь к узкому оконцу. За резным наличником, украшенным затейливой резьбой, сгущались сумерки, окрашивая небо в цвет раздавленной черники. Где-то вдалеке ухнул филин – недобрый знак. Я невольно коснулась образка на шее.
– Твоё сердце слишком мягкое, братец, – проговорила я, прижав ладонь к холодному стеклу слюдяного оконца, за которым виднелись смутные очертания сторожевой вышки. – Ты всем готов верить. Сперва этому полукровке с его сладкими речами, теперь вот решил жениться на дочери князя Мстислава, которую и в глаза не видел!
Всеслав поднялся и подошёл ко мне. Половицы скрипнули под сапогами из тиснёной кожи. От него пахло полынью и дымом костров. Его отражение в тусклой слюде казалось размытым, нечётким.
– Ты думаешь, мне легко? – Голос брата дрогнул. – Думаешь, я не знаю, что Милава каждый вечер ходит в церковь, зажигает свечи перед образом Богородицы и молится обо мне? Считаешь, не слышу, как она поёт у реки, когда думает, что никто не видит? Душа моя рвётся к ней! – Он стиснул кулаки. – Но я сын князя Черноярского. И должен заботиться о людях, что доверили нашему батюшке свои жизни, что кланяются до земли, когда он проезжает мимо. Союз с Мстиславом даст нам дружину в три сотни мечей. Триста мечей против половецких сабель! – он с такой силой ударил кулаком по стене, что с потолка посыпалась труха, а висевший рядом щит качнулся, издав протяжный стон. – Что мне должно быть дороже – моё сердце или жизни наших людей? Ответь мне, сестрица!
Я молчала, глядя, как по его щеке скатывается одинокая слеза, блеснувшая в свете лучины, подобно росе на клинке. Он быстро смахнул её тыльной стороной ладони, словно стыдясь своей минутной слабости, недостойной потомка Святослава.
– Всеслав, – тихо произнесла я, теребя кисть пояса, расшитого серебряной нитью, – а как же Милава?
– Милава поймёт, – отрезал он, но в голосе его уже не было былой уверенности. – Должна понять. Такова судьба княжеских дочерей и сыновей – жертвовать сердцем ради земли и людей.
За резной дверью послышался шорох, будто мышь пробежала по сухим листьям, а после – быстрые удаляющиеся шаги. Мы с братом переглянулись, и сердце моё сжалось от недоброго предчувствия. Я метнулась к двери, распахнула тяжёлые створки – в полутьме коридора, освещённого лишь редкими светцами, мелькнул подол сарафана и лента в русой косе.
– Милава! – воскликнула я, но в ответ лишь эхо отразилось от стен, расписанных охрой и киноварью.
Всеслав побледнел, шагнул было к двери, но я удержала его за рукав парчового кафтана.
– Не надо, – сказала я, покачав головой. – Сейчас ей нужно побыть одной со своим горем.
Брат опустился на лавку, закрыв лицо руками. Плечи его поникли, словно на них разом обрушилась тяжесть всего княжества.
– Я не хотел, чтоб она узнала так, – глухо проговорил он. – Думал сам рассказать ей.
Я села рядом, обняла Всеслава за плечи. От его кафтана пахло дымом костров, конским потом, полынью и речной тиной – запахи нашей земли, которую он поклялся защищать любой ценой, даже ценой собственного счастья.
– Знаю, братец, – прошептала я, чувствуя, как горло сжимается от жалости. – Знаю, что сердце твоё разрывается надвое.
За узким оконцем совсем стемнело. Ветер усилился, бросая в слюдяные оконца пригоршни дождя. Где-то на стене перекликались дозорные. Их голоса казались тревожными, напряжёнными.
– Ты думаешь, что этот полукровка говорит правду? – тихо спросила я, теребя янтарные бусы на груди. – Думаешь, что хан Кончак действительно скоро будет здесь?
Всеслав поднял голову. В его глазах отражалось пламя очага, делая взгляд почти нечеловеческим, как у волколака из старых сказаний.
– Я уверен, – произнёс он, сжимая кулаки. – И нам нужны союзники, сестрица, – голос его дрогнул. – Каждый меч. Каждая пара глаз, что может высмотреть врага в степи. Каждая рука, способная натянуть тетиву. Иначе Чёрный Яр станет пепелищем, как Серебряные Ручьи, и наши люди пойдут в полон, а младенцев…
Он не договорил, но я знала, что он представлял: младенцы на половецких копьях, как гроздья кровавых ягод, и кровь, стекающая по древкам на жухлую траву.
Я вздохнула, чувствуя, как внутри борются недоверие к чужаку и страх перед новым набегом.
– Я всё равно буду следить за ним, – упрямо сказала я. Пальцы мои коснулись ножа, спрятанного в складках сарафана. – Один неверный шаг – и клянусь Богом, я сама всажу ему нож между рёбер, как вколачивают осиновый кол в грудь упыря.
Всеслав слабо улыбнулся, потрепал меня по волосам, как в детстве, когда мы бегали по берегу реки, не зная ещё, что такое княжеский долг и бремя власти.
– Знаю, сестрица, – тихо сказал он. – Потому и спокоен. Мне нужны рядом острый глаз и верная рука.
За стенами терема завыл ветер, словно стая волков на погосте. Ночь обещала быть долгой и тревожной.
Глава 9.
Гостомысл
Свеча оплывала медленно, словно нехотя отдавая свой воск ночи. Тени плясали по стенам горницы, искажая очертания развешанного оружия. Я смотрел на дрожащее пламя и крутил в руках украшение для волос из резной кости: летящую птицу с крыльями, отделанную тонкими пластинами серебра. То самое, что Забава вернула давеча, даже не взглянув на работу заморского мастера.
«Это очень дорогой подарок, Гостомысл», – вспомнил я её слова. Она брезгливо протянула украшение, будто оно жгло ей кожу. Голос был холоден, а глаза смотрели мимо, словно я был недостоин даже её взгляда. Помню, как дрогнули тонкие пальцы, когда наши руки на миг соприкоснулись, и как отпрянула она, будто почувствовала змею.
Квас в чаше горчил, отдавая прошлогодними травами. Я отхлебнул ещё, морщась от терпкого привкуса, чувствуя, как вязкая жидкость обволакивает горло подобно речному илу. Злость разгоралась в груди, как угли в горне кузнеца, раздуваемые мехами обиды.
Ветер завывал в дымоходе, вопил на разные голоса: то как волк, почуявший добычу, то как раненый зверь, то как дитя, потерявшее мать. Будто сама природа решила наказать Чёрный Яр за грехи его обитателей. Сквозь щели в ставнях тянуло сыростью, от которой не спасала даже шерстяная накидка, наброшенная на плечи, – подарок матушки, что уже третью зиму лежит в сырой земле за частоколом.
В такую ночь даже звери прячутся в своих убежищах, жмутся в норах, спасаясь от непогоды. А я сижу один в горнице, освещённой единственной свечой, и думаю о той, что отвергла сегодня мой дар при всём дворе, при дружинниках и смердах, при купцах заморских и гостях из дальних весей.
Я швырнул украшение на стол. Резная птица глухо стукнулась о дубовую столешницу, исчерченную годами пиров, испещрённую следами от ножей и пролитого вина. Птица упала на бок, словно подстреленная, и замерла, глядя на меня пустыми глазницами, в которых, казалось, застыл немой укор.
Три года прошло с тех пор, как я впервые увидел Забаву на весеннем игрище – тонкую, как молодая берёзка, с русой косой до пояса, тяжёлой и блестящей, как спелая рожь на солнце, и глазами цвета молодой травы. Помню, как она водила хоровод, и венок из первоцветов съехал ей на бровь, а она смеялась, запрокинув голову, и солнце золотило её шею. Три года я добивался её внимания, осыпал дарами. Шептал на ухо сладкие речи на пирах, когда хмельной мёд развязывал язык. А она смотрела сквозь меня, будто я был призраком, бесплотной тенью, недостойной её внимания.
– Княжья дочка, – процедил я сквозь зубы, с силой сжимая резную рукоять чаши и наливая ещё кваса из глиняного жбана. – Гордячка! Думаешь, век князю Всеволоду на престоле сидеть? Думаешь, твой братец-воин неуязвим для стрел и мечей? Сколько уже полегло таких храбрецов в походах на степняков?!
Чаша в моей руке дрогнула, тёмные капли упали на вышитую рубаху, расплываясь на белом льне, как кровь на снегу. Я выругался, оттирая пятно рукавом, но только размазал его сильнее, превратив в уродливое бурое пятно. Как и всё в моей жизни – чем больше стараюсь, тем хуже выходит. Сколько ни точи нож, а он всё равно соскользнёт и порежет руку.
В углу горницы затрещало полено в очаге, выбросив сноп золотых искр, похожих на рой светлячков. Одна упала на медвежью шкуру, растянутую перед очагом – трофей прошлогодней охоты, когда я завалил матёрого зверя, спасая Забаву, но даже этот подвиг не впечатлил княжну. Я затоптал искру сапогом, чувствуя, как внутри разгорается огонь куда более опасный – огонь обиды и жажды мести, что пожирает душу быстрее, чем пламя – сухую солому.
Я поднялся, резко отодвинув тяжёлую дубовую скамью – она заскрипела, словно старая кляча под седоком. Половицы застонали под моими шагами, будто жаловались на судьбу. Горница, освещённая лишь умирающим пламенем свечи, казалась логовом зверя – моим логовом.
На стенах висели шкуры, добытые в долгих охотах, оружие, потемневшее от времени и крови, щит с родовым знаком – горностаем, кусающим собственный хвост. Дед, помнится, сидя у огня, говаривал, что это символ вечности рода, непрерывности жизни. А мне всегда мнилось иное – что зверёк сходит с ума от голода, от отчаяния, от безысходности. Как и я – от голода по власти, по признанию, по княжне… Особенно по ней.
– Забава, – прошептал я, и имя её обожгло губы, как раскалённое железо, которым клеймят скот на ярмарках. Словно само имя было заговорённым, несло в себе силу, способную и ранить, и исцелять. – Ты будешь моей, хочешь того или нет.
Слова мои упали в тишину горницы тяжёлыми камнями. Тени в углах, казалось, сгустились, прислушиваясь к клятве. Огонь в очаге вспыхнул ярче, будто подтверждая мою решимость.
Я сорвал с крюка тяжёлый плащ, подбитый волчьим мехом. Мех ещё хранил запах зверя. Дверь распахнулась от моего толчка, ударилась о стену, едва не сорвавшись с петель. Ночной воздух ударил в лицо холодом, словно пощёчина. Я глубоко вдохнул, чувствуя, как стылый воздух обжигает лёгкие. Небо над Чёрным Яром раскинулось бездонной чашей, и звёзды висели низко, как спелые яблоки на ветвях в дедовском саду – протяни руку и сорви.
Двор спал, лишь где-то в дальнем углу тихо заржала лошадь. Я двинулся к княжескому терему, чьи резные очертания темнели на фоне ночного неба, как вырезанные из чёрной бумаги. Терем казался неприступной крепостью, но разве есть крепости, которые не пали бы под натиском решительного воина?
Я остановился в тени старого вяза, чьи ветви, искривлённые временем и ветрами, напоминали руки утопленника, и поднял голову, посмотрев на окна. Где-то там, за резными ставнями, расписанными алыми цветами и синими птицами, Забава готовилась ко сну, расплетала косу, смывала с лица дневную пыль. Я представил её тонкие пальцы, распускающие алую ленту в волосах, и кровь застучала в висках, как боевые барабаны перед сражением.
Внезапно тень в одном из окон дрогнула, и я увидел силуэт княжны, очерченный мягким светом лучины. Она стояла у окна, тонкая и прямая, как молодая берёза на опушке леса. Я замер, боясь пошевелиться, словно охотник, выследивший редкую дичь. Наши взгляды встретились через темноту двора.
Я почувствовал, как она вздрогнула, узнав меня, и отпрянула от окна, словно увидела не человека, а оборотня. Ставня захлопнулась с глухим стуком, отрезая её от моего взгляда, но было поздно – я уже видел страх в её глазах, и это наполнило меня странным удовлетворением.
Улыбка тронула мои губы. Пусть боится. Страх – это начало подчинения. А подчинение – это почти любовь. Поначалу мне хватит и этого.
Глава 10.
Гостомысл
Ветер яростно терзал ставни, пробираясь сквозь щели протяжным воем. Вдалеке раздался зловещий крик филина: старики шептались, что это предвещает беду. Но суеверия никогда не имели власти надо мной. Я доверял лишь холодной стали клинка и крепости собственного кулака.
Воздух в доме был густым от дыма и воска. Я прошёл через горницу и остановился перед сундуком, окованным почерневшим железом. Замок на нём был тяжёлый, с секретом. Ключ от него я всегда носил на потёртом кожаном шнуре у самого сердца. Я повернул ключ и замок отозвался отчётливым щелчком.
Крышка поднялась со стоном, будто сундук не хотел расставаться со своими тайнами. Внутри, завёрнутый в вощёный холст, пропитанный горькими травами, лежал свиток. Карта земель Дикого Поля, где, по словам того полукровки, Кончак точит сабли да копит орду.
Переяр… Человек без рода, без племени. Чёрные глаза как у степняка, а волосы – светлые, словно у русича. Будто сама природа не решила, кем ему быть – русичем или половцем.
Я развернул пожелтевший пергамент. Пальцем водил по выцветшим линиям – реки, холмы, тропы, становища, известные лишь немногим. В дрожащем огне свечи карта казалась живой, словно дышала, открывая мне свои тайны. Вот излучина реки в низине, скрытая от чужих глаз, где собирали силы половецкие воины. Я улыбнулся, представляя, как дружина Всеслава, брата Забавы, выступит им навстречу, не подозревая о засаде. Кривые сабли сверкнут – и русичи падут. Земля напьётся их крови, а весть о гибели княжича дойдёт до Чёрного Яра.
И тогда…
Тогда я приду к Забаве – утешитель, защитник, единственная надежда. И она не посмеет отвергнуть меня, когда враг будет стоять у ворот, а я – единственный, кто знает, как спасти её от смерти или полона.
Свернул карту, бережно завернул в ткань, спрятал обратно в сундук. Замок щёлкнул, запирая мою тайну, мой путь к власти и к сердцу гордой княжны. Скоро рассвет, а с ним – новый день, новый шаг к моей цели.
Свеча оплыла, воск капал на медный подсвечник как слёзы.
– За тебя, Забава… – прошептал я, глядя, как дрожит пламя. – За нашу судьбу, которую ты ещё не видишь, но которая уже начертана.
Квас обжёг горло, но я улыбнулся, предвкушая сладость грядущей победы.
В дверь постучали – три коротких удара, условный знак. Я напрягся, рука сама потянулась к ножу на поясе.
– Кто? – спросил я, не двигаясь с места, лишь придвинув к себе подсвечник с оплывшей свечой.
– Это я, господин, – за тяжёлой, резной дверью раздался приглушённый голос холопа Путяты. – Олбег просит встречи. Говорит, срочное дело.
Я выругался про себя, чувствуя, как желчь подступает к горлу. Олбег… С каждым разом он становится всё наглее. Является без приглашения, требует встречи ночью, будто равный мне по крови и положению. Но отказать ему я не могу – слишком много знает этот человек о моих делах с ордынцами, слишком опасен.
Я провёл ладонью по лицу, стирая усталость, и ощутил шрам на щеке – память о встрече с медведем.
– Впусти, – бросил я, отходя к дубовому столу. – И принеси мёду. Да не того, что челяди подаёшь, а лучшего липового, из дальнего погреба.
Половицы тихо застонали под моими ногами, словно жалуясь на тяжесть дум, что я нёс на плечах. Дверь отворилась с протяжным скрипом, впуская Олбега вместе с ночной сыростью. Его чёрные глаза блеснули в полумраке, как у хищника, учуявшего добычу. Тонкие губы, обрамлённые узкой бородкой, кривились в едва заметной усмешке.
– Боярин, – поклонился он, но в поклоне том было больше насмешки, чем почтения. – Прости за поздний час, но вести не ждут рассвета.
Я смерил его взглядом, от которого обычно немели языки у дерзких. Но Олбег лишь чуть прищурился, словно наслаждаясь моим раздражением.
– Какие вести? – Я резко указал ему на лавку у стены. Сам остался стоять, возвышаясь над гостем, чтобы тот помнил своё место. – Говори быстрее, я не люблю долгих речей, особенно от тех, кто приходит незваным.
Путята бесшумно внёс кувшин с мёдом и две чаши, поставил на стол и так же тихо исчез.









