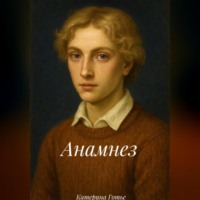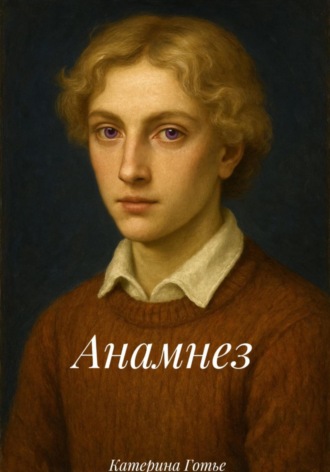
Полная версия
Анамнез
– Ну, может быть, мне, – весело бросил Лори, явно довольный собой. – Не все, что ты видишь на поверхности, может дать полную картину. Ты мог оказаться прав: Луи мог работать здесь лишь для того, чтобы каждое утро встречаться со своей возлюбленной, с которой ему не суждено быть вместе, или отрабатывать своё обучение в академии… Да, это было бы возможно. И ты был бы прав, если бы все то, что ты понял, окинув Луи единым взглядом, было истинно. Но ты забываешь, что каждый человек носит в себе океан. А ты – лишь одинокий моряк, который вздумал измерить его глубину удочкой. И ты заранее обречен на поражение.
Впоследствии именно слова Флоризеля повлияли Виктора в большей степени. Пройдут года, он повстречает многих людей – людей, которых встретит в булочной, с кем столкнется в очереди за красками, к кому обратится за помощью, – и всех их, многоликих и живых, он больше не будет пытаться постичь, превратить в математическую формулу.
«Каждый человек носит в себе океан. А ты – лишь одинокий моряк, который вздумал измерить его глубину удочкой. И ты заранее обречен на поражение…»
Эти слова разобьют непроницаемую стену логики, которая защищала его все эти годы. Но не сейчас, а значительно позже. Тогда, когда он научится слышать себя. В тот день, когда он действительно начнет жить, эти слова станут для него сладчайшей музыкой.
– Из-за какого-то глупого спора он сейчас вынужден совмещать учебу с написанием
диссертации? Разве может человек в здравом уме пожертвовать своим здоровьем, чтобы что-то кому-то доказать? Уму непостижимо! Ему бы писать свою работу, давать отдых мозгу, а он тратит свои силы на какую-то ерунду. Разве есть что-то важнее собственной цели?
– Репутация, друг мой. Ничто так не важно в этих стенах, как репутация. Здесь мы все – завтрашние гении, известнейшие люди своей эпохи, но даже среди общества величайших есть иерархия. И даже гении подчиняются одному правилу: сильный пожирает слабого. Вот в чем сокрыта человеческая суть, Виктор. Страх. Страх и репутация – самые надежные рычаги давления, – Флоризель с сожалением посмотрел в сторону Луи, и лишь на одно краткое мгновение его хищные глаза наполнились болью. – Тебе многое еще предстоит узнать о людях. Но важнее всего то, что они непостижимы. Как бы нам не хотелось обратного. Поверь, я тоже когда-то думал, что знаю своих родных, друзей, преподавателей, но представляешь, что я выяснил? Я не знаю даже самого себя. В этом и есть главная проблема человечества: не зная себя, мы стремимся вогнать в рамки других.
Виктор вдруг почувствовал себя неуютно в собственной одежде. Мягкая до сей поры шерсть впилась в кожу, словно розовые шипы, и терзала её, принося немыслимые страдания. Это было началом разрушения его кокона, но тогда Виктор даже не подозревал об этом. Когда все начнется, ужасающий рок уже будет не остановить. Все самое великое начинается с малого, и это малое – цветы, растущие на пепелище катастрофы.
Обычно людская философская болтовня утомляла Виктора и вгоняла в скуку, но в этот раз что-то внутри него замерло и прислушалось. Впервые ему захотелось размышлять над значением возвышенных слов и странных метафор. Насколько Лори отталкивал его, настораживал, настолько же действовал умиротворяюще, как валерьянка, дурманящая разум кота.
– Никогда я еще не слышал подобных слов от своего ровесника, – покачал головой Виктор. – Дай угадаю, ты учишься на философском факультете?
Болтать с незнакомцами с такой откровенностью не было привычкой Виктора, но с некоторыми людьми нас сводит один лишь взгляд. Один взгляд, который навеки связывает тебя с этим человеком, и ты понимаешь, что не прошло и минуты, а он уже огромная часть тебя. Он должен был появиться, должен был сдвинуть историю с мертвой точки, должен был принести боль, сломать, вдребезги разбить старые убеждения и, наконец, влить в искалеченное тело новые знания. Такие люди заново создают нас, словно неземные творцы, дарующие знания через разрушения. Они принадлежат к особой касте – творцы, кукловоды, люди, о которых мы вспоминаем с содроганием, но воспоминания о них же бережем пуще всего. И он точно принадлежал к ним: Виктор чувствовал, как этот нарядный Шут, сидящий перед ним в белых шелковых перчатках, уже неотступно следует за ним, как тень, стремясь не причинить зло или добро, а стать катализатором – сорвать тонкую молодую кожу с едва зажившей раны, чтобы снова пустить кровь и заставить действовать.
В литературе и устном творчестве имя им – трикстеры, но разве может обычный человек быть воплощением легендарного архетипа?
– Я юрист, хожу под знаменами миссис Кобальд уже пятый год, – его глаза блеснули, огляделись, выискивая опасность, и остановились на лице Виктора. Именно такой, наверное, и должен быть взгляд у талантливого юриста: жесткий, холодный, расчетливый и вместе с тем манящий, чарующий и способный внушить все что угодно.
Виктор рассмеялся, спрятав улыбку в сгибе локтя. Дождь слезами стекал по стеклу, капля наползала на каплю и превращалась в быструю струю, которая оставляла за собой призрачный след. В кафетерии было тепло – может быть, так казалось из-за света теплых настенных ламп, – но от окон тянуло сыростью и мокрым камнем.
– Я бы сказал, что ты актер или философ, но никак не юрист. Я представлял вас более…серьезными? – его снова посетила улыбка, которую он не смог спрятать. – Одетыми в строгие черные костюмы и с вечно недовольными лицами?
Такими были юристы, которых он видел дома – друзья отца, немолодые гладковыбритые мужчины и женщины с туго стянутыми в хвост волосами и тяжелыми как все семь смертных грехов папками, которые они любили со всех силы кидать на стол. Они были воплощением всех стереотипов, навеянных кино и литературой. Этакие серые кардиналы в пальто от Ив Сен-Лорана. Флоризель откинулся на спинку стула и расхохотался от души. Его звонкий, тонкий смех привлек внимание нескольких студенток, вошедших в кафетерий, но в их глазах не было и намека на удивление или презрение – они благоговейно взглянули на него и тут же опустили головы, зашептав что-то друг другу. Казалось, они были очарованы. И Виктор не винил их за это – устоять перед магнетическим обаянием Флоризеля было почти невозможно.
– Так и есть! Ты сейчас описал половину моей группы. Почему половину? Вторая тоже носит эти ужасные черные костюмы, просто их лица выражают скорее не недовольство, а обычное занудство. Знаешь, мне порою так скучно с ними, – он совсем по-детски уперся локтями в стол и сложил голову на руки. В своем необычном наряде он походил на бледного мима, который отбился от своего цирка и случайно забрел в академию.
– Но я ничего не могу поделать, да и не собираюсь. Не зря говорят, что алмаз сияет намного ярче среди обычных камней. Они все любят меня до дрожи, так что иногда развлечением мне служит потеха над их почти рабским обожанием. Юриспруденция и законы – вещь слишком четко очерченная, с явными понятиями добра и зла, морального и аморального. И они все такие же: либо черные, либо белые. И хоть бы один был красный…
– Должно быть, они и правда тебя обожают. Ты для них как символ свободы в несвободном обществе.
– О, я не совсем правильно выразился. Они скорее ненавидят меня, но так сильно, что не могут перестать ловить каждое мое слово и исполнять каждый приказ. Им хочется стать мной, но они так увязли в собственных границах дозволенного, втиснулись в такие тугие стереотипы, что, кажется, никогда уже не смогут нормально вздохнуть. Дай им только шанс, они вновь затянутся в корсеты и вернут монархию. Оттого у них и лица землисто-серые.
– Оттого, что они не могут вздохнуть? – Флоризель нравился Виктору все больше и больше. Слишком много очарования было в нем, слишком много соблазнительного было в тех словах, которые он позволял себе говорить.
Флоризель мягко улыбнулся, поджав губы, и кивнул головой. Снова все у него вышло театрально, но теперь его движения не казались высокомерными: он проникся к собеседнику симпатией и больше не испытывал нужды в коконе из острых углов. Он тоже пытался понять Виктора: бесцветного, как мотылек в коллекции прекрасных радужных бабочек, но в то же время загадочного и тихого, как сфинкс. И Лори хотелось постичь его философию.
– Или их душат слишком тугие воротники.
– Или их душит ненависть к себе…
– Или сама Фемида по ночам сосет из них всю жизненную энергию. Склоняюсь к этому варианту, – многозначительно сказал Флоризель, оттянув воротник рубашки и оголяя шею. – Может быть, она и до меня скоро доберется… Вся эта система, которой я пока могу сопротивляться и которая уже задушила их.
Эти слова, сказанные веселым, почти саркастичным голосом, были полны боли. Конечно, он не мог не бояться, что огромная, властная система, сломавшая стольких личностей, когда-нибудь задавит и его. Но это было просто невозможно. Ничто и никто, сколь бы страшен и авторитетен он не был, не сможет сломить его волю. Флоризель весь состоял из протеста – один лишь только яркий цвет его волос противостоял серости и обыденности. Рождаясь, он уже протестовал. И теперь, живя, он продолжал отрицать все рамки и правила. Подобно сорняку он сможет прорасти где угодно, даже если его корни будут вырваны из земли, а листья втоптаны в грязь.
Флоризель был слишком велик для этого мира, и скорее мир падет к его ногам, чем он преклонит колени.
Сама Смерть изменит правилам и склонится перед таким сильным Духом.
– Нет, ты слишком силен. Ты скорее залезешь в петлю, чем позволишь кому-то управлять собой. Сказав это, Виктор пожалел о своих словах. Что-то в белом лице Флоризеля дрогнуло, сжалось, изменилось, как отражение в темном зеркале. Он кинул полный отчаяния взгляд на перчатки, будто внезапно увидел на своих руках ржавые кандалы. Губы его чуть заметно дрогнули.
– Воля и неволя: о них могут размышлять лишь птицы, сидящие в клетке. Кто мы такие, чтобы неволить друг друга. Веселье – вот единственный способ противостоять этой ужасающей бездне,
– Флоризель уже пришел в себя – призраки, окружившие его, растаяли в воздухе.
– И все же со своей харизмой ты мог бы многого добиться на актерском поприще. Более того, твоему языку и острословию могут позавидовать многие писатели. Так почему юриспруденция? Почему рамки, Флоризель?
Кофе был давно допит, остатки бульона остыли, но дождь все не прекращался. Он, словно обреченный на казнь невиновный, стучал в окна, бился о каменные стены в припадке исступления и никак не мог испытать долгожданное забвение.
Флоризель снова помрачнел. Его лицо было подобно полотну, на которое художник наносил резкие, четкие линии, стирал, а затем рисовал снова. В каждую секунду выражение его глаз, губ и бровей менялось – он был нарисован умелым художником, который не смог запечатлеть ту неземную улыбку Джоконды и продолжал неустанно переписывать её снова и снова…
– Лори, зови меня Лори, – он задумчиво постучал пальцами по столу и лишь потом ответил: – К сожалению, с рождения на мне висят некие обязательства, от которых я не могу отказаться. Это крест, с которым я должен взойти на Голгофу…
Лицо Лори не выражало ничего и разом выражало все эмоции, доступные человеку. Виктор мог бы сказать, как изменился взгляд, положение бровей и изгиб губ, но не мог даже предположить, что за эмоция оставила такой отпечаток на тонких чертах. Такое случалось и раньше: он вдруг ощущал, что, при сохранении острого зрения и ясности рассудка, просто перестает видеть в лицах людей какой-либо смысл. В такие моменты Виктор сравнивал себя со слепцом, недавно потерявшим зрение, который по привычке продолжает смотреть в небо.
И все же он понимал, что нужно что-нибудь сказать, чтобы заполнить неприятную паузу. Однако ему не пришлось – Лори встал, хлопнув руками по столу.
– Ладно, мы не философы. Наш удел – жить и наслаждаться каждым мгновением. О смысле жизни пусть подумают за нас другие. Пойдем-ка со мной, я все же обещал тебе экскурсию.
Виктор, как завороженный, последовал приказу этой руки в белой перчатке, не помня себя и той силы, что подняла его на ноги.
Кажется, Лори совершенно не волновало расписание академии. Он либо был освобожден на сегодня, чтобы сопровождать Виктора в первый день, либо просто наплевал на собственные пары и самозабвенно бродил по коридорам, предаваясь любимым занятиям: беседе и веселью. Его лаковые туфли ступали по мягким персидским коврам коридоров, стучали по холодным полам пустующих аудиторий, в которых заметки, оставленные на досках чьей-то призрачной рукой, создавали эффект присутствия чего-то мистического. Его руки касались старинных, пахнущих ржавчиной доспехов, пыльных гобеленов, поправляли висящие криво картины, ласково обводили окружность зеркал и гладили покрытые лаком перила. Он словно пытался ощутить все, впитать фактуру, цвет, насладиться красотой, используя все органы чувств. Чуткий нос Лори улавливал тонкие ароматы: он провел Виктора в библиотеку, огромные окна которой выходили во внутренний сад, умытый дождем, и рассказал, как пахнут книги, сотни лет обитающие во власти влажности и древесных ароматов.
Вместе они даже пробрались на кухню, прячась за длинными столами. Они сидели на корточках, прижавшись друг к другу, пока повар – смешной коротышка в белом колпаке, который был едва ли не больше его самого – не ушел. Тогда они достали с полок глиняные горшочки, накрытые крышками, и запустили руки и носы в ароматные специи, рассыпчатые крупы и засушенные корочки апельсина. Лори объяснил ему, что на основе засушенных фруктов можно сделать великолепный чай.
– Лучше, чем тебе приготовил бы сам китайский Мандарин! – воскликнул он, наливая Виктору в чашку янтарное золото. И на вкус это и правда было золото: солнечные лучи далекой Италии, откуда привезли мандарины, сочная, омытая дождем зелень, яркая кислота спелых яблок и медовый аромат – все это смешивалось в чайнике деревянной ложкой с длинной ручкой. Так алхимики, должно быть, создавали своё легендарное золото.
Забывшись, Виктор опьянел от красоты и легкости. Как маленький ребенок, он восторженно озирался по сторонам, ощупывал все руками, стремясь познать новый для себя мир. Заразительная веселость Лори обнимала его, как материнские руки, и все казалось Виктору чудесным калейдоскопом сна. И этот сон не думал заканчиваться. Карта, которую Виктор тщательно строил в своей голове, больше не была идеально начерченным архитектурным планом: с каждым новым коридором и новой комнатой она пополнялась запахами, заметками Лори о своих годах здесь, о неудачах, успехах и страхе, испытываемом в аудиториях.
Она теперь напоминала огромный тканый ковер – каждая из составляющих его цветных нитей имела смысл, как и все улыбки, трещины на окнах, глубокие старинные кресла в библиотеках, витражи и Главная лестница.
Главную лестницу Виктор полюбил больше всего. Именно на ней, счастливые и уставшие, они сидели, прижавшись к перилам. Виктор просунул голову между деревянными балками и смотрел вниз – на студентов и профессоров, спешащих по важным делам. Но здесь, на первой ступени главной лестницы, берущей свое начало – или имеющей конец – на третьем этаже, он был выше всех земных тревог. Ему была чужда суетность: он познал красоту и сейчас, наполненный ею, чувствовал каждой клеточкой своего тела легкость.
Третий этаж был пуст, лишь толстый слой пыли хранил отпечатки двух пар ног – его и Лори.
Они поднялись сюда час назад, после того как побывали в каждом закутке академии, и долго мерили шагами длинный коридор, пустоту которого заполняло одно лишь грязное окно, увитое паутиной так же густо, как платье невесты – кружевом. Оно слепо смотрело куда-то вдаль, но за толстым слоем пыли не было видно ничего, кроме едва заметных очертаний гор. Из-за этого складывалось ощущение, что они очутились в пространстве, которое находится в безвременье: все, что их окружало – одни лишь странные шорохи и вздохи, пыль и шелест сотен паучьих лапок, плетущих сеть в своем паучьем королевстве на вершине мира. В середине коридора располагались белые двери, с которых комьями обгоревшей плоти слезала штукатурка. Они казались такими старыми, что могли бы стоять здесь еще до того, как построили саму Академию. Они были заперты, так что шепот, который слышался Виктору по ту сторону, мог издавать лишь ветер, но ему все равно казалось, что он слышит исповедь неприкаянной души.
Не удержавшись, Виктор спросил своего провожатого об этих дверях, но в ответ получил лишь загадочную улыбку, предвещающую появление некой тайны.
Сев на лестнице, они замолчали: Виктор не хотел прерывать тишину и молча прислонился головой к прохладному дереву, оставляя секрет запертых дверей на будущее. В самом деле, нельзя же за один день познать весь мир. Даже великие философы не смогли познать его за целые века, что говорить о них – обычных студентах, мир для которых начинается и заканчивается академическими стенами. Ведь что может существовать за их пределами? Неужели все это могло когда-то закончиться? Вечно юные и вечно счастливые студенты – такими они считали себя, но выпуск, словно голодный тигр, тихо подкрадывался к ним сзади и окрашивал их сны в тревожные тона. Они были испуганны, как младенцы, только вышедшие из материнской утробы, и им хотелось так же пронзительно кричать от ужаса. Ведь кровь на резиновых перчатках акушеров вовсе не была обещанным им миром добра и всепрощения. Это был суровый мир, главенство над которым делили Жизнь и Смерть.
– Разве тебе не нужно на занятия? – прервал тишину Виктор, вытягивая уставшие от ходьбы ноги.
Лори махнул рукой – его больше интересовал витраж, украшающий маленькое круглое окно под самым потолком. Архангел с золотистыми волосами, изображенный на нем, распростер над ними руки. Он был весь осыпан белыми цветами, словно языческий идол во время ритуала, а за его спиной простиралось бесконечное светлое пространство небес.
– Сегодня меня освободили, – он улыбался, рассматривая почерневшие от пыли белые перчатки.
– Но даже в любой другой день меня не отчитали бы за прогулы. Они просто не посмеют.
Его улыбка была очаровательно нахальной, самонадеянной, но отчего-то такой невинной, что его лицо приобретало ореол святости.
– Чем я частенько пользуюсь, – он откинулся назад, его длинные волосы упали на пол, наверняка собрав кучу пыли.
– Но почему? Разве это не странно? Насколько я могу судить из твоих рассказов, Антигона Кобальд очень строгий куратор. Разве что твой отец какая-нибудь важная фигура. Я прав?
Виктор повернулся к полулежащему на лестнице Лори, который смеялся, подняв палец вверх.
– Фемида, запомни, Виктор. Здесь она никакая не Антигона Кобальд. Хочешь здесь выжить – учи наш язык.
– Он какой-нибудь герцог? – продолжал гадать Виктор. – Меценат, на чьи деньги содержится академия? – Лори качнул головой, но его глаза будто говорили: «Ну же, гадай дальше!»
– Верховный судья?
– Знаешь, пожалуй, что и так, – Лори снова обратил свой взгляд на витражного ангела. Виктор издал восторженный вздох и рассмеялся. Теперь ему стали ясны корни тщеславия и вседозволенности, присущие характеру нового знакомого.
– Я бы на твоем месте так не радовался. Если бы там, на небесах, бог – или кто там всем
заправляет – дал мне право выбора, я бы никогда не выбрал своего отца. Ты только представь, как скучно быть сыном судьи… Знаешь, чем я занимался на летней практике, пока остальные
уехали в другие страны оттачивать изучаемые языки? – он приподнялся на локтях, подняв брови и растянув губы в шепчущей улыбке. – Разбирал бумаги в кабинете собственного отца. Даже у философов практика повеселее: они уезжают то ли в Рим, то ли в Италию и зарываются в древние архивы, стремясь наконец, наверное, докопаться до единой философской мысли, которая бы объясняла все сущее. Да, скучно и пыльно, но они же не сидят все лето в этой унылой дождливой глуши! Над ними сияет итальянское солнце, а кормят их наверняка персиками и абрикосами.
Оттого они, должно быть, все такие розовые и слащавые, как маленькие счастливые поросята.
Под конец этой гневной тирады Виктор больше не мог сдерживать смех: он расхохотался, откинув голову назад и больно ударившись о ступень. Лори, успевший уже принять сидячее положение, тоже засмеялся – весь его гнев разом схлынул, словно никакая эмоция не могла удержаться на его лице дольше минуты. Он был в пыли и непонятной светлой крошке: весь его черный костюм покрылся тонким белым налетом, лаковые туфли больше не блестели, и даже густые рыжие брови побелели.
– А ты бы предпочел ходить в шерстяном сером костюме, носить кожаный саквояж и стричься под горшок? Не могу себе такого даже представить.
– Пожалуй, ты прав, – Лори нахмурил брови, обдумывая сказанное. – Лучше уж быть кабинетной крысой, но только на практике, а не всю свою жизнь. Что же, ты почти доказал мне, что быть сыном моего отца не так и плохо.
Он встал и отряхнулся – тут же вокруг него поднялась такая пылевая завеса, что Виктор не удержался и чихнул.
– Пойдем отсюда, а то у меня начнется аллергия на пыль.
– Не говори, что не знаешь, из чего в основном состоит пыль, – Лори поднял Виктора на ноги и изящным жестом отряхнул пыль с его свитера. – У тебя, кстати, брови белые.
– Да, они всегда такие.
– Правда? А я и не заметил. Думал, ты такой пыльный.
– Так что ты там говорил о составе пыли? – они спускались лестнице, переговариваясь через лестничные пролеты.
– Только и всего, что большая часть пыли – это частички человеческой кожи… – пожал плечами Лори, перепрыгивая через ступень.
– Только подумай, сколько людей должно было умереть наверху, чтобы там образовался такой слой пыли…
Виктор притормозил, пораженный этой мыслью. К сожалению, понимание сарказма и иронии ему было недоступно. Ему были знакомы сухие трактовки этих терминов из научных книг, но применить их на практике он никак не мог.
– Ну, это работает не совсем так… – сказал Лори, но задумчивое и оторопевшее лицо Виктора отбило у него всякое желание объяснять свою мысль. – Забудь об этом.
Виктор снова пошел вниз, наслаждаясь прохладным воздухом и тихим шумом с нижних этажей.
Лори чуть помедлил, задумчиво глядя ему вслед. Его лицо потемнело, вторя глазам, со дна которых внезапно поднялась темнота. Руки в перчатках нервно сцепили пальцы в замок. Его одолевали тревожные мысли, но, как и всегда, вскоре им на смену пришел холодный, тщательно рассчитанный план действий. Тяжело иметь власть, еще тяжелее пользоваться ею с умом.
Экскурсия Лори затянулась на целый день, так что все это время Виктор не появлялся в своей комнате. Для него время, проведенное в веселье и разговорах, пролетело быстро, но для уставших студентов день показался вечностью.
Везде, где они проходили, их фигуры привлекали внимание. В основном все взгляды были обращены на Флоризеля, который рассыпался в приветствиях, махал рукой и даже успевал на ходу отвечать на вопросы своих, как показалось Виктору, сокурсников – юношей с бледными лицами и зачесанными назад волосами. Пару раз он ловил и на себе заинтересованные взгляды и метко брошенные улыбки: он был загадкой, так что неудивительно, что его личность стала предметом интереса многих. Но особенно всех волновало общество, в котором он прогуливался по коридорам. Недоумение некоторых студентов можно было ясно прочитать на их лицах:
«Кто этот юноша, что связывает его с Лори? Вы видели его здесь раньше? И почему Лори с ним?» Конечно, эти удивленные взгляды подмечал только Лори, тогда как Виктор, хоть ему и был приятен интерес, не мог отделаться от ощущения, что он стал целью, в которую целятся одновременно десятки лучников.
Сейчас они шли по коридору, который Виктору был уже хорошо знаком. Ему не было нужды даже сверяться с мысленной картой – это был тот самый холодный коридор с рыцарскими доспехами, который вел в башню.
Лори бодро шагал впереди, и его ярко-огненный хвост летал из стороны в сторону, словно маятник гипнотизера.
– Ты видел усатого мужчину в холле? – на ходу обернулся он к Виктору.
– Прости? – они повернули за угол, и впереди показалась деревянная дверь, за которой скрывалась винтовая лестница.
– Портрет, – терпеливо объяснил он. – Портрет основателя «Лахесиса» – Генриха Лоувуда. Он здесь знаменитость – прямо как домашнее приведение, только он приведение академическое.
Про него ходит много легенд: какие-то выдумка студентов, какие-то были распространены преподавателями, а какие-то – сущая правда. И мало кто знает, что из этого правда, а что – ложь.
Как-нибудь я расскажу тебе несколько историй. Когда будет время.
– И ты точно знаешь, какая из легенд правдива?
– Возможно, – улыбнулся Лори, открывая дверь перед Виктором.
Виктор немного помедлил: ему не хотелось возвращаться в комнату к обычным рутинным делам. Его ожидал вечер в компании шкафов, вешалок и кучи одежды. Не самая завидная участь.
– Мистер Серпентайн де Флоре! – грозный голос волной пронесся по коридору и врезался им в спины. Лори слегка пошатнулся.