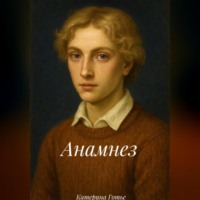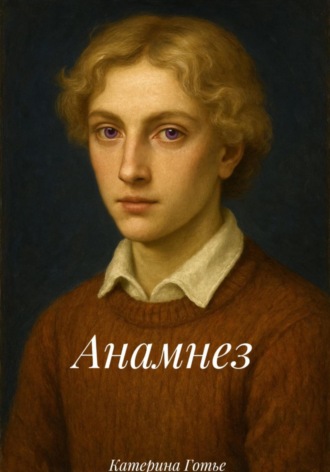
Полная версия
Анамнез
Поэтому, когда Виктор увидел часовню, ему не осталось ничего, кроме как сесть на чемодан, подпереть руками голову и дать себе отдохнуть. Вопреки дождю, слякоти и грязи ему нужна была минута для размышлений. Размышлять он мог долго и, если бы в эту самую минуту отец Коллинз не вышел во двор, мог бы просидеть под дождем час – созерцая природу и ощущая, как капля дождя, затекшая под свитер, тихонько скользит по спине. Грубо выдернутый из размышлений непонятными вопросами и окликами, Виктор позволил грубияну отвести его в какое-то здание. Слава богу, это было место, куда он и держал путь! Академия? Да, точно, он припоминал, что возле академии должна была стоять часовня. Так все и было, но под воздействием усталости и голода он не нашел в себе сил обогнуть здание, за которым и скрывался его конечный пункт назначения.
Как только с него сняли мокрое пальто, в легкие будто снова начал поступать кислород: разум прояснился, гнев ушел, и он больше не мог понять глупых мыслей, посетивших его у часовни.
Виктора окутали тепло, запах горячего хлеба и особенный аромат старины, свойственный только самым престижным учебным заведениям.
Его провели по холодным, но весьма живописным длинным коридорам. Он шел вслед за строгой сухой женщиной, слушал стук её каблуков и поражался той тишине, которая царила вокруг.
Других студентов не было ни видно, ни слышно – лишь он да его чемодан, в котором теснились несколько подрамников, покрытые остатками краски тюбики с маслом и уйма шерстяных свитеров крупной вязки. На каждом из свитеров, как и на чемодане, красовался логотип бренда – маленькая элегантная вышивка, не привлекающая внимание и не хвалящаяся достатком своего владельца.
– Это вход в башню, – седовласая женщина указала ему на неказистую дверь. – Дальше мы поднимемся по лестнице наверх.
Виктор кивнул головой, бодро шагая вслед за ней по лестнице, закручивающейся крутой спиралью. Его рука скользила по шероховатому камню холодной стены, подмечая каждую трещину.
– Здесь вы будете жить. Это комната № 6. Выше находится только заброшенный этаж, ниже – комнаты других студентов.
Женщина – он никак не мог вспомнить её имени – толкнула дверь и прошла внутрь, обведя рукой круглую комнату. Виктор смотрел на её тонкую, волевую фигуру, чувствовал исходящую от неё силу и ему показалось, что она похожа на строгую барыню, держащую своих крепостных крестьян в страхе. Об одной такой женщине он читал однажды в книге по истории, которую нашел на столе отца.
– Здесь уже живет один студент. Вам придется делить с ним комнату. Я попросила застелить вашу кровать: горничная скоро придет и приведет тут все в порядок, – женщина прошла по комнате, бросив презрительный взгляд на разбросанные бумаги и ручки на столе, занятом вторым студентом. – В башне холоднее, чем в основном корпусе, так что советую попросить у горничной дополнительное одеяло и спать в теплой одежде.
Она ходила по комнате резво, словно маршировала, и каждый угол получал свой презрительный оценивающий взгляд. Проведя пальцем по книжной полке, женщина скривила губы и наконец остановилась, убедившись в том, что все мальчишки – грязнули и барахольщики, как она и думала.
– Камин есть в библиотеке главного корпуса и в комнате отдыха. Они находятся на первом этаже в левом и на втором этаже в правом крыле соответственно. Также должна вас предупредить – чтобы избежать неприятных инцидентов, свидетельницей которых я уже бывала, – что сооружать костер из любого воспламеняющегося материала в башне запрещено.
Виктора слегка удивило это правило, но он лишь пожал плечами. Должно быть, все очень умные люди слегка сумасшедшие. Кому, как не безумцу, придет в голову разжигать костер в комнате? Но, видимо, здесь случалось и не такое. В этот момент кузнечик на его плече ожил, щекоча шею своими усиками. Он сказал: «Это правило, Виктор. Это запрет на совершение действия. Ты не должен этого делать. Никогда!».
– Я вас понял, профессор. Никаких костров.
Женщина важно кивнула, её взгляд пробежался по нему сверху до низу. Наверняка пыталась определить по внешности новенького количество проблем, которых он может доставить академии. Но беглый осмотр не дал ей ничего – бледный мальчишка со слишком длинными для их заведения волосами, высокий и худой, как щепка, немного более нервный, чем она ожидала, но ей приходилось справляться и не с такими.
Антигоне Кобальд стоило бы присмотреться внимательнее – может быть, всей позорной дальнейшей истории можно было бы избежать, затоптать её в зачатке, – но она равнодушно прошлась взглядом по юноше, отметив его белый волосяной покров и глаза странного фиолетового цвета, не заметив или нарочно не придав этому никакого значения.
– Располагайтесь. Переоденьтесь в сухую одежду и спускайтесь на первый этаж. По правую сторону от лестницы будет дверь в кафетерий. Я попрошу приготовить для вас горячее.
Профессор Кобальд уже открыла дверь, но вдруг остановилась, бросив через плечо:
– Мы делаем для вас исключение, молодой человек. Только из уважения к ситуации. Наша академия славится не только уровнем преподавания, но и дисциплиной. Мы ценим в студентах внутренний стержень. А также уважение к заведенным порядкам. С завтрашнего дня вы начнете обучение. И, я надеюсь, покажете свое блестящее воспитание.
Виктор уже порядком устал от нудной, прерывистой речи этой женщины. Он даже посчитал, сколько длятся перерывы между каждым её предложением – ровно 5 секунд. Ему казалось, что она читает обвинительный приговор или новости. Более сухого языка он никогда не слышал: профессор словно не могла говорить предложениями, в которых было более десяти слов.
– Как зайдете в кафетерий, спросите Луи. Он накормит вас. Позже я пришлю к вам кого-нибудь из студентов. Он объяснит вам правила и проведет экскурсию. Если к вечеру начнете чувствовать недомогание, вас отведут к доктору.
Произнеся свой монолог сухо и четко, она удалилась, не дождавшись ответа.
Как только дверь закрылась, Виктор позволил эмоциям выйти наружу и рассмеялся, обняв себя за плечи. Он до сих пор дрожал от холода, и в башне, где хозяйничал ветер, вся его мокрая одежда мгновенно заледенела. Было так зябко, что даже мокрая грязь на чемодане застыла, превратившись в гору твердых комков на потертом ковре.
Засунув замерзшие руки в карманы, Виктор присел на край кровати. Синий бархатный балдахин был подвязан специальными лентами, так что ничто не мешало ему осмотреть широкую дубовую кровать, укрытую темно-синим одеялом. Все её пространство занимала бумага: вырванные из тетрадей листки в линейку, исписанные мелким почерком кремовые листы, какие бывают в специализированных блокнотах для записей, и даже страницы учебников, все свободное пространство которых занимали краткие записи, в спешке написанные неразборчивым почерком. Виктор взял в руки страницу – она была вырвана из учебника по философии, – где прямо поверх портрета Фрейда красовались несколько предложений. Буквы так неаккуратно наскакивали друг на друга, что Виктору не удалось разобрать ни слова. Написанные в порыве вдохновения строки видимо были так хороши, что их автор даже решил пожертвовать страницей учебника. Виктор не стал убирать чужое имущество со своей кровати – лучше будет дождаться хозяина рукописей и попросить его забрать свои вещи. Все-таки это он был нежданным захватчиком, так что вряд ли ссора из-за территории будет хорошим началом.
Виктору нравилась округлость комнаты: она казалась бесконечной, но в то же время начиналась и кончалась деревянной дверью. В одно из узких окон была видна даже крыша. Взгляд его зацепился за одну деталь за стеклом: большие панорамные окна, которые выходили на балкон третьего этажа основного здания, располагавшегося чуть ниже башни. Сами окна покрыты мутными разводами, а кое-где их пересекают уродливые трещины, похожие на следы от дьявольских когтей. Они совсем не походили на старомодные, по-готически вытянутые стрельчатые окна, которые украшали фасад всей академии. Виктору они показались почти современными – похожими на двери бальных залов, – но из-за плохого состояния думалось, что их установили больше сотни лет назад.
Седая профессорша ничего не сказала ему о третьем этаже, который, насколько Виктор мог судить по плачевному состоянию балкона, был заброшен и давно не использовался. Незнакомое ранее ощущение накрыло его с головой: эти окна притягивали, манили, он словно слышал зов того, что скрывалось под самой крышей. И он бы поддался этому мгновенному желанию – вернулся бы в главное здание, взбежал бы по лестнице наверх или выбежал бы обратно во двор, под дождь, чтобы увидеть изнанку академии, – если бы в этот момент не раздался робкий стук в дверь. Вошедшая горничная оповестила его о том, что горячий обед готов, и профессор Кобальд просит его спуститься.
Устыдившись своей мокрой одежды, Виктор наконец раскрыл чемодан и достал оттуда пару коричневых брюк и белый шерстяной свитер крупной вязки. Оставив чемодан открытым на полу, он попросил горничную на минуту оставить его одного и быстро сменил влажную одежду на сухую. Не зная, что делать с грязными вещами, он оставил их висеть на спинке стула. Пальцами он прошелся по длинным волосам, пытаясь распутать узлы, в которые ветер завязал его пряди.
Собрав их в небрежный хвост, он вышел из комнаты и позволил горничной делать свою работу. Когда Виктор спускался по лестнице, очарованно проводя рукой по стене, горничная – молодая женщина, страдающая от неуемного любопытства – аккуратно застилала его постель чистым бельем, предварительно перенеся все бумаги на соседнюю кровать. В её обязанности входила также стирка вещей, так что, закончив с кроватью, она взяла в руки еще влажную одежду, висящую на спинке стула. Руками, не знавшими до этой минуты ощущения поистине качественной ткани, она поглаживала мягкую шерсть свитера. Женщина провела кончиком пальца по одной из объемных кос и рассеянно подумала, что такие вещи нельзя стирать в горячей воде.
Коричневые в клетку брюки тоже состояли из шерсти – не грубой и жесткой, а короткой и мягкой.
Испугавшись, что вещи могут испортиться от влаги, она поспешила к двери, но споткнулась о раскрытый чемодан. Едва удержавшись на ногах, женщина кинула взгляд на его содержимое – её глаза удивленно распахнулись. Поверх кожаных футляров, лежавших на самом дне, в шахматном порядке были аккуратно сложены вещи: белый шерстяной свитер, коричневые брюки в клетку, снова свитер и брюки, а за ними – два одинаковых твидовых костюма. Опустившись на колени, горничная даже коснулась рукой одной пары брюк, пробуя ткань на ощупь. Без сомнения, все одежда из чемодана была точной копией той, что она держала в руках.
Активный спуск по винтовой лестнице имел целительный эффект: к закоченевшим конечностям прилила кровь, по телу побежали мурашки тепла, и Виктор больше не нуждался в чашке горячего бульона, чтобы умилостивить ледяную бездну, образовавшуюся на месте желудка. Однако не в его обычаях было пренебрегать правилами и указами, так что он направился по главной лестнице вниз, не сворачивая в манящую темноту коридоров, и вскоре вышел к двери кафетерия.
От природы Виктор обладал действительно необыкновенной памятью и почти сверхъестественной внимательностью к деталям: весь путь от комнаты до кафетерия он проделал с легкостью, словно шел по нему не в первый раз. Ему не составило труда вслушаться в указания профессора и мысленно построить карту, которая выросла сама по себе, независимо от его усилий. Пока он шел по коридорам, незримая карта пополнялась различными деталями: будь то мелочь, вроде узора ковра на ступенях лестницы, или расстояние от одного поворота до другого. Он вносил пометки о приблизительной ширине коридоров – почти всегда это число ровнялось пяти, – его чуткий глаз улавливал угол наклона перил, высоту потолков на разных этажах и количество ступеней на главной лестнице.
Когда Виктор оказался в дверях кафетерия, карта была почти полностью готова: он внес последний штрих, добавив количество сосчитанных ступеней, и перед его взглядом предстала объемная, построенная с дотошностью талантливого архитектора проекция пути от башни до кафетерия. Виктор осознавал, что ему будет необходимо изучить всю академию сверху до низу, чтобы довести карту до совершенства, но этим он займется в другое время, когда не будет обременен голодом и усилившимся головокружением. Сейчас ему хватало и этого – его мозг, постоянно обрабатывающий информацию, все равно будет непрерывно посылать глазам сигналы тщательно осматривать всё вокруг и подмечать мельчайшие детали.
– А вот и новый член нашего небольшого общества! Я Луи, работаю здесь на полставки и пишу диссертацию по архитектуре, – молодой человек, которого Виктор увидел перед собой, напомнил ему юношу с картины Уильяма Ранкена «Портрет». Тот же проникновенный взгляд голубых глаз, блестящие золотые волосы и острые скулы, окрашенные румянцем.
Виктору редко удавалось характеризовать увиденное собственными словами: ему было проще подобрать нечто знакомое, внешне похожее, но уже высказанное или написанное другим человеком – еще лучше, если это будет создано великими мастерами. Было что-то правильное в этом подходе: следовать четким формам, созданным еще до его рождения, и тем самым точно находиться в рамках разумного и правильного.
Виктор пожал протянутую руку и дружелюбно улыбнулся – словом, сделал все, что всегда делали люди при знакомстве.
Горячий бульон напоминал ему спираль Фибоначчи: стоило двинуть ложку по часовой стрелке, как всё – кусочки моркови, картошки, маленькие мясные шарики – начинало двигаться по кругу, сворачиваясь к самому центру в идеальную спираль. Для забавы Виктор снова опустил ложку в тарелку и двинул её против часовой стрелки, тем самым ломая весь стройный, отточенный законами физики и математики порядок действия. Все в тарелке тут же смешалось, поверхность заколыхалась, словно гневаясь на мятежного нарушителя спокойствия, и четкая гармония линий исчезла.
Определенно, это нарушение было неприятно его глазу – как и глазу каждого почитателя порядка. Виктору лучше удавалось воспринимать язык линий, красок и различного рода последовательностей цифр, чем язык людей, который часто был слишком непонятен, витиеват, метафоричен и вторичен. Именно гармонии цвета и чисел всегда внушали ему спокойствие, именно ремесло художника дарило истинное наслаждение. Поэтому Виктор аккуратно вытащил из супа картофель и кусочки моркови, переложив их в стоящую рядом пустую тарелку. Там он методично разложил их по разным углам, чтобы они не соприкасались, но все же составляли стройную композицию. Удовлетворившись результатом, он принялся за еду.
Помешивая суп, Виктор изредка подносил ложку ко рту. Холодная бездна внутри постепенно переставала грызть внутренности, власть её колючих щупалец ослабевала. Спешить было некуда, что вполне его устраивало. Сидя у окна, он выстукивал по столу пальцами мелодию, которая крутилась в голове, и его наполняло ощущение полной защищенности.
За окном бушевала буря, ровные, перпендикулярные земле деревья склонялись под невообразимыми углами, но здесь, под надежной защитой каменных стен и любимой одежды, Виктор был недосягаем для тревог и волнений. Сейчас все ему было подвластно. Открыть глаза его заставил громкий, сбивающийся с ритма стук. Он походил на цоканье лошадиных копыт, как если бы маленькие лошади танцевали польку на его ушных перепонках. Виктору хотелось закрыть уши руками, чтобы никогда больше не слышать ужасающий ритм, не поддающийся никакой упорядоченности и попирающий все законы красоты. Виктор не понимал, почему его так мучает этот звук, и все же не мог избавиться от ощущения, что его голова лопнет, если стук тотчас же не прекратится. И тут ритм внезапно оборвался, затихнув прямо у его стола.
Конечно, источником этого кощунства был человек. Виктору хватило одного взгляда на незнакомца, чтобы найти в своей памяти нечто, что могло бы описать его.
– Генри Уоллис, «Смерть Чаттертона», – вместо «привета» сказал Виктор.
– Тебя и правда так зовут?! – незнакомый юноша наигранно охнул, попирая все правила этикета, и приложил руку, почему-то затянутую в белую атласную перчатку, ко рту. – В таком случае, приятно познакомиться. Меня зовут Флоризель. Можешь звать меня просто Лори. Я не любитель длинных имен – подобных твоему, – хотя мое настоящее имя, если его произнести вслух, отнимет немало времени.
Со своими театральными манерами, будто специально подсвеченными вычурным блеском белых перчаток, Флоризель походил на шута. Бледное лицо – совершенно гладкое и будто отражающее свет из окон – менялось сотню раз за секунду, но глаза, темно-зеленые, почти сливающиеся с маленькой окружностью зрачка, были совершенно неподвижны. Когда губы его улыбались, глаза оставались предельно серьезными. Он был как птица, запертая в клетке. Только этой клеткой был он сам, и лишь в больших, неестественно-зеленых глазах скрывалось то существо, которым Флоризель был на самом деле.
Но Виктор не вдавался в такие поэтические подробности – он просто не мог этого сделать. Шут виделся ему просто образом, составленным из черт многих людей, которых он уже знал и видел. Ему не составляло труда разобрать его на обычный набор характеристик: вот, например, театральные манеры – подобным поведением славились Чарли Чаплин и небезызвестный Оскар Уайльд, оба любители носить маски. От последнего, к слову, Шут позаимствовал острословие.
Или, скажем, этот надменный, холодный взгляд зеленых глаз на смеющемся лице – то был лорд Байрон: все его тщеславие, шутовство и любовь к фарсу, смешанные с самоуверенной гордыней.
– Нет, «Смерть Чаттертона» – это картина Уоллиса, а меня зовут Виктор Хьюз, – отчетливо разъяснил он, вглядываясь в фигуру. Маска Шута снова скривилась, а руки его, словно под воздействием кукловода, взметнулись вверх.
– Неужели? А я уж подумал, что это и впрямь твое имя, – Флоризель поджал губы, словно правда сожалел об этом. – Тогда, Виктор Хьюз, будем знакомы. Мисс Кобальд любезно попросила меня приглядеть за тобой сегодня и провести небольшую экскурсию по академии. Не скажу, что у нас тут большой выбор экскурсоводов, но она и правда возложила эту ношу на лучшего из лучших.
Грациозно упав на стул напротив, Флоризель сложил ногу на ногу, блеснув лакированными носками туфель.
– И ты не спросишь, почему вместо «привет» я сказал название картины?
Виктор понял, что ему действительно интересен ответ. Сейчас он испытывал мучительную жажду изучить Шута, понять мотивы его действий. Флоризель отличался разом от всех людей, виденных им ранее. Было в нем что-то искусственное и фальшивое, но по опыту Виктор знал, что под такой оболочкой имеет обыкновение скрываться действительно неординарная личность.
– Не имею привычки спрашивать людей об их странностях. Сами скажут и сами все объяснят. Особенно, когда тебе это вообще неинтересно, – скучающий взгляд зеленых глаз вдруг вспыхнул озорной искрой. – И все же, почему?
Он положил руки на стол, сцепив пальцы в замок, и его фигура приобрела поистине царский облик. Виктор заметил, что белые перчатки отнюдь не похожи на короткие перчатки коллекционеров, листающих древние книги, или официантов, разливающих вина в дорогом ресторане – они были длинные, совсем как у невест или знатных дам на балах.
– Уоллес изобразил на картине юного поэта, покончившего жизнь самоубийством. Гений, окруженный нищетой и людьми, не понимающими его дара, – Шут склонил голову набок и внимательно его слушал. – У него бледное, словно высеченное из мрамора, лицо, изящные руки, фигура ангела и огненно-рыжие волосы, пылающие на полотне, выполненном преимущественно в темных тонах, как комета в ночном небе. Он похож на вас. Ваши волосы чуть длиннее – их впору сравнить с волосами «Леди Лилит» Россетти, – но в остальном ваш образ схож с трудом господина Уоллеса.
– Ах, вот что, – понимающе улыбнулся Шут, – ты художник.
Его тонкая улыбка носила в себе черты насмешки и привыкла кривиться в презрении, о чем свидетельствовал изгиб губ, носящих печать безразличия.
– Как славно: вы смогли описать меня всего двумя картинами, тогда как всем окружающим не хватит и десяти тысячи слов, чтобы объяснить, кем я являюсь.
Флоризель улыбнулся: если бы не угроза, бледным намеком скрывающаяся в улыбке, и не хитрость зеленых глаз, его лицо красотой могло бы сравниться только с ангелами Боттичелли. Но именно жестокость и филигранная точность тонких черт ставили юношу выше всех ангелов и мифических существ, когда-либо изображаемых смертными художниками. Все в нем было неземным: от демонических зеленых глаз до шелковистых рыжих волос, которые ложились на плечи и огнем лизали бледный мрамор кожи. Выпавшая прядь прочертила красный всполох и упала, словно шрам, на зеленый глаз Флоризеля. Этот взгляд, пересеченный алой прядью, оставил на сердце Виктора клеймо, которое будет напоминать о себе еще долгие годы. И если истинная красота всегда жестока, то перед ним сейчас сидело её воплощение. Сама серость академии окрашивалась красками в его присутствии, тянулась к нему, пульсировала, как живое сердце, желая иметь лишь каплю того яркого цвета, который излучал юноша.
– Почти всех людей можно описать парой слов и одной-двумя картинами. Иногда попадаются те, для которых хватает и простенького наброска. Все люди составляют друг друга. Я хочу сказать, все наши черты мы переняли у других, всё наше – нам не принадлежит.
В руке Виктор сжимал чашку с недопитым кофе. На столешнице остались влажные полукруги, неровно пресекающие друг друга. Вытянув другую руку, он стер их рукавом свитера и снова взглянул на собеседника. Имя «Флоризель» подходило Шуту как влитое: столько же в нем было напыщенной претенциозности и угрожающей таинственности, как и в юноше, которому оно принадлежало.
Виктор не понимал Флоризеля, но стремился понять. Было бы проще, сумей он поместить его в обычную математическую формулу, в спираль Золотого сечения или разложить на анатомические составляющие. Но юноша не поддавался анализу: он был слишком изменчив, слишком необычен, и будто все в нем действительно принадлежало ему одному.
Флоризель словно был тем человеком, от которого берут начало другие, чьи привычки и характеристики люди впитывают – как ученики, припадающие к ногам учителя, впитывают знания, льющиеся из его уст.
Его личность совершенно не поддавалась препарации. Если другие люди были монстрами
Франкенштейна, Прометеями, собранными из различных частей тел, то Флоризель определенно был Виктором – их Отцом и Создателем.
– А если я скажу тебе, что не все в этом мире поддается рациональному объяснению? – Флоризель заправил за ухо выпавшую прядь, и его лицо вновь приобрело жемчужное свечение. – И не все из того, что подвластно глазам, подвластно нашему языку. Взять того же Луи, – он махнул рукой в сторону кассы, – разве можешь ты объяснить, зачем он работает здесь каждый день, совмещая работу с написанием диссертации? Знаешь ли, научная работа утомляет, как и постоянное общение с людьми, уборка за ними, исполнение всех их желаний…
Он замер, прислушиваясь, и откинулся на спинку стула чем-то чрезвычайно довольный.
– Ты не договорил, – напомнил ему Виктор. Он тоже услышал шум – кажется, студенты покидали свои аудитории.
– Что? – Флоризель лениво обернулся на звук его голоса, как будто успел забыть, с кем говорил ранее.
Виктор почувствовал себя под его взглядом маленьким, незначительным предметом интерьера. И все же он не мог – боже, снова не мог! – понять, что скрывается за лицом Флоризеля. Все попытки разгадать его настроение оборачивались провалом. Никогда человек не был для него большей загадкой.
– Ах, да – Луи… Как ты думаешь, для чего он это делает? – руки в белых перчатках прошлись по лацканам сюртука, поправили черную ленту на волосах, непроизвольно дернули за низ жилета – он был словно знатный герцог, готовящийся принимать гостей.
– Это довольно просто. Ему нужны деньги, чтобы оплатить обучение. Или ему нравится работать, общаться с людьми… – Виктор пожал плечами. Людей в своих мыслях он давно научился раскладывать на банальные составляющие, как раскладывал их на органы Леонардо да Винчи, изучая чудесную анатомию тел.
– А вот и не угадал, – протянул Флоризель, сощурив хитрые глаза.
«Змея. Змея, готовящаяся к броску…»
– Он работает здесь, потому что проспорил кое-кому, – его тонкие рыжие брови изогнулись насмешливой дугой – он снова надел маску Шута, – кое-кому очень авторитетному. Если не вдаваться в детали спора, то я могу отметить, что он проиграл: струсил, не захотел, был отвергнут – это неважно. И теперь, чтобы сохранить свою тайну и репутацию – репутация у нас здесь ценится очень высоко! – он прозябает в этом холодном кафетерии шесть часов в сутки.
Флоризель развел руками и рассмеялся. Как искренен и добр был его смех, и как жестока и несправедлива была его причина.
– Кое-кому?