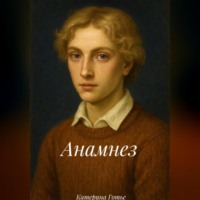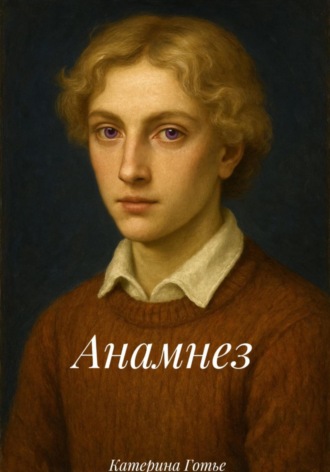
Полная версия
Анамнез
Тот год был последней каплей. Закончив школу, Пьер тем же летом отправил вступительное эссе в
«Лахесис». Он рассуждал так: если его примут, он навсегда покинет семью и уедет учиться, прекрасно зная, что этим поступком навлечет на себя отцовское проклятье, но если академия откажет, то ему не останется иного пути, кроме как убежать так далеко, насколько он сможет. Пьер знал, что вступительные экзамены в медицинский университет, которые он сдавал по воле отца, написаны блестяще. Не то чтобы он ненавидел медицину – наоборот, с самого раннего детства Пьер с живым интересом листал отцовские тома по анатомии, завороженно обводя пальцами очертания черепа и рисунки изящных сухожилий, – но с годами в нем что-то перевернулось. Отцовские методы воспитания привили стойкую ненависть не только к его персоне, но и к той науке, которую он избрал для сына. Так, когда в сознании Пьера хирургия прочно связалась с ненавистью и насилием, он уже и забыл, что когда-то это был его личный выбор, а не путь, которому он должен следовать по желанию отца.
Ему повезло: академия с радостью приняла его в свои спасительные объятия, но с той поры он остался в этом мире совершенно один – лишь от младшего брата иногда приходили сухие весточки. Ненависть прошла, уступив место сожалению, но мечта о хирургии так навсегда и осталась мечтой, которую он упустил по собственной вине. Однако, не случись всего этого, Пьер не попал бы на факультет, который в полной мере позволил ему раскрыть творческие способности, обнажить душевную рану и начать писать истории собственной кровью. Романы, которыми писатель «переболел», всегда самые лучшие.
Лучше всего было немедленно сорвать пластырь и перестать травить себе душу бесплотными опасениями. Быстро пробежав глазами сухие строки, Пьер отложил письмо. Горечь ушла, узел душивших его слез развязался. Что было, то осталось в прошлом. Иного и не стоило ожидать – сахарному домику его надежд стоило растаять давным-давно.
Офелия все это время сидела тихо, глядя на него с тихим сочувствием. Она понимала, что в душе друга сейчас происходит сдвиг тектонических плит, на осознание последствий которых требуется время. Закашлявшись, Пьер отложил письмо и сделал большой глоток кофе, который не только не облегчил кашель, но еще больше усугубил его.
– Грустные новости? – Офелия едва взглянула на конверт, лежавший на столе как растерзанная зверушка – с внутренностями наружу.
– Отнюдь… – Пьер сморщился – кофейная гуща прилипла к небу. – Гадость какая… Он перевернул чашку вверх дном и скривился.
– Ты же сказал, что все в порядке.
– Нет, это я о кофе, – Пьер все еще кашлял, пытаясь избавиться от мелких частиц, раздражающих горло. – Отец, – коротко произнес он, испив спасительной прохладной воды, которую ему принес Луи.
– Что-то важное? Надеюсь, это не касается твоего последнего года в академии?
Для каждого организма самым страшным уделом является разлучение с одной из составляющих его частей. Стоит изъять один орган, как остальное тело гибнет: гниение начинается изнутри, поглощает все мягкие ткани, а потом выбирается на поверхность зловонной массой, прежде бывшей живым существом. Каждой академической семье знакомо это ужасающее чувство приближающегося расставания. Держась изо всех сил за что-то вечное и незыблемое, как нам думается, мы в конечном счете теряем свою опору, оказываясь в открытом море, где нас с головой накрывает огромная волна. И имя той волне – «одиночество». Разве может человек, потеряв большую часть себя, регенерировать, подобно червю, чтобы снова возвратиться в большой мир, снова добиваться своих целей?
Отнюдь. К сожалению, люди, теряя важные части своей личности в раннем возрасте, не могут собрать себя воедино всю оставшуюся жизнь. Они вынуждены вечно скитаться в поиске якоря, спасительной веревки или протянутой руки, но вечными их спутниками являются лишь страх, отчаяние и безнадежность. За них они и привыкают держаться – подавленные, разрываемые изнутри мечтами и желаниями, которые тонут в гниющем болоте страха. Дикие и опасные, как загнанные звери, и такие же вечно одинокие.
Офелии всегда казалось, что иной жизни, кроме этих четырех лет, никогда не было и никогда не будет. Её не интересовали новости большого мира, она не читала газет, не смотрела телевизор и могла на полном серьезе думать, что сейчас 1950 год. Она бы предпочла затеряться во времени, попасть во временную петлю – день сурка представлялся ей величайшей благодатью, – лишь бы навсегда остаться здесь, под защитой исполинских гор и густых лесов. Казалось, никто извне никогда не потревожит их тихий, спокойный и безопасный мир, не придет, принося с собой запахи нового времени, незнакомые слова и суету. Офелии было страшно – страшно, что в один момент её подхватит мгновение и унесет в эту новую – забытую старую – реальность, куда она никогда не хотела возвращаться.
Девушку часто посещала мысль, что она, подобно чеховскому Беликову, окружила себя вещами и ритуалами, доставляющими душевное спокойствие. Она позволяла себе забывать то, что приносило тревогу, и игнорировать тех, кто нарушал её хрупкое душевное равновесие. В сущности, быть «человеком в футляре» весьма удобно. Академия, кольцо гор и отчужденность от всего мира – комфортный футляр, в котором ты как бы находишься в мире, но словно и смотришь на него через кривое зеркало.
Однако в редкие минуты прозрения она понимала, что это вовсе не футляр, а гроб. Черный лакированный гроб с мягкой бархатной обивкой и золотыми ручками. Он не защищал от враждебного мира, а постепенно пожирал жизненные силы, душа складками савана и утягивая на самое дно – в бессознательную тревогу и ночные кошмары. Белые простыни стали казаться саваном, когда она, просыпаясь по ночам, задыхалась от ужаса перед деревянным коробом, находящимся глубоко под землей. В каждом своем сне девушка видела гроб: она была в нем, царапая крышку и давясь мокрой землей, была возле него, глядя, как его ужасающе разверзшаяся пасть из красного бархата пожирает всех, кого она знала и любила. И она была над ним, глядя на собственное опутанное цепями тело – неужели эти цепи она добровольно надела сама? А стенки гроба все сжимались, смыкаясь над ней и превращая белое небо над головой в черную мглу.
Она проваливалась в ужасающие ночные кошмары, как Алиса в кроличью нору.
– Ты же не уедешь? – голос Офелии надломился, словно стебель камыша в ветреную погоду.
– Нет, конечно же нет! Куда я от вас денусь? – юноша рассмеялся, откинув голову назад.
Он всегда так смеялся – с момента их первой встречи – и всегда своим весельем отгонял прочь все её мрачные мысли. – Отец лишил меня наследства. А в конце изящно добавил – ну прям как вишенку воткнул в кремовый торт! – что больше у меня нет дома, – грустно улыбнулся Пьер.
– Господи, мне так жаль… – Офелия протянула руку и накрыла его ладонь своей. – Если тебе нужна любая помощь, материальная или психологическая, я готова сделать все… Как ты себя чувствуешь?
– Чего-то подобного я и ожидал от Теодора и Эвредики Лихтенштейн, – пробормотал он. – Больше скажу, я в какой-то степени даже рад, что они окончательно все решили насчет меня. Я ведь отчасти тоже во всем виноват: знал же, что отец не примет меня обратно, если поступлю по-своему.
– Вроде бы такой известный, такой талантливый врач, спас так много жизней, а как человек —полный ублюдок, – Офелия вздохнула, произнеся последнее слово с отвращением – она явно не привыкла к подобным вульгарностям, но прекрасно понимала, что бывают случаи, когда иными словами не описать все самое мерзкое, что собрано в одном человеке. А Теодор был не просто мерзким человеком – он был кунтскамерой, сокровищницей мерзостей.
– Видимо, нужно все-таки разделять автора и его творение. В медицине все так же, как в литературе. Не волнуйся, я справлюсь. Агата оставила мне немного денег, до окончания учебы и на первое время после должно хватить. Тем более, я планирую издать свой роман. Не то чтобы это крайне прибыльное дело, но пара грошей мне на счет упадет.
– Ты очень сильный, Пьер. Я горжусь тобой. Но если тебе понадобиться помощь, мы с Рафаэлем всегда будем рядом.
– Я знаю, поэтому ничего и не прошу, – Пьер погладил руку Офелии и улыбнулся.
– Зато у тебя будет интересная биография, – вдруг выпалила Офелия, – как у писателя. Можешь окутать свое прошлое ореолом романтизма. Почти как у Байрона.
– Или у Теда Банди. Склоняюсь к своему варианту.
– Как у кого? – Офелия непонимающе подняла брови: от всех этих сотен имен убийц, каннибалов и прочих некрофилов, книги о которых Пьер поглощал с пугающим интересом, у неё уже путались мысли.
– Это тот, который убивал проституток и бросал в реку? – Чтобы выдать этот впечатляющий отрывок Офелия проделала долгую мыслительную работу, пытаясь вспомнить хоть что-нибудь, связанное со сказанным Пьером именем, но по лицу друга поняла, что выстрел, сделанный наугад, не попал в цель.
– Нет, близко, но нет… Ты про Гэри Риджуэя, а я про… Ладно, не важно.
В такие моменты на Пьера явно накатывало интеллектуальное превосходство и он, незаметно для себя самого, закатывал глаза и поджимал губы. Офелия считала это умилительным и позволяла Пьеру и дальше считать себя экспертом в серийных убийцах. Странный блеск восхищения появлялся в его глазах, когда он, сидя теплым весенним днем у озера, рассказывал ей запутанную биографию очередного насильника. Только в эти мгновения он казался одухотворенным настолько, что мог часами препарировать каждый фрагмент жизни преступника. И она любила это в нем: ненасытную жажду истязания собственной души всеми кровавыми извращениями и тягу к объяснению самой сути психологии преступников, более похожих на чудовищ, чем на людей.
Никогда ни один человек с таким интересом не читал описание судебных процессов, как Пьер, вооружившийся карандашом и блокнотом. Часто преподаватели ловили его в закрытой секции библиотеки, куда входить можно было лишь с письменного разрешения директора. Никакого разрешения при нем, конечно, не находили, равно как и лазейки, через которую он неизменно просачивался в этот отдел, полный оккультных книг, засекреченных документов и криминальных сводок. Офелию мало интересовало, что он там читал в этом отделе – главным её вопросом было: «Как?».
Как он забрался туда? Она знала, что в академии существуют тайные ходы и скрытые двери, но о местонахождении всех из них не знал даже директор. Видимо, Пьеру они все же были известны, что делало его местным «неуловимым мстителем», ходящим сквозь стены. «Почти Призрак Оперы, – пошутила она однажды вечером, – только чрезвычайно очаровательный!».
Пьер никогда не рассказывал о причинах своей любви к криминальной истории. Но скорее оттого, что сам не знал, а не из-за нежелания вспоминать стыдные моменты своей биографии. Если тот факт, что он родился в семье потомственных хирургов, все бы объяснял, Пьер был бы очень рад. Он вообще мало говорил о семье и своем прошлом: лишь об Агате вспоминал с теплотой и любовью.
Теодора и Эвредику Лихтенштейн Офелия знала лишь по именам – ни слова больше об узах, связывающих их с сыном. Просто очередные сигаретные ожоги на полотне геральдического древа. Они не присутствовали в жизни Пьера уже многие годы.
– Ладно, пойдем уже. Я хочу отдохнуть до начала лекции.
– А от чего ты устал, позволь спросить?
– Разгребал ворох важной корреспонденции, – съязвил юноша, показав ей язык.
Пьер собрал в кучу обрывки конверта, письмо, сверток и свои папки с рукописью. Прижав их к груди, он перекатывался с пятки на носок, ожидая Офелию. Помахав на прощание Луи, скучающему за стойкой, они удалились.
– Не забудьте, вечером будет брауни! – донеслось до них, и они дружно крикнули что-то невразумительное, еще раз махнув рукой на прощание.
Часы всегда исправно отсчитывали время с той далекой поры, когда их только установили в огромном гулком холле. И если их мерное тиканье было биением сердца, то бой, которым они оповещали начало нового часа, был тахикардией. Пьер с Офелией вздрогнули, когда по пустому холлу разнесся неожиданный громкий звук, похожий на сумасшедшие стуки заживо погребенного в крышку гроба.
– Какой ужас, уже одиннадцать, а я все еще не переоделась… – запричитала Офелия, но осеклась, уловив тонким слухом далекий звук, от которого у всех студентов академии стыла кровь в венах.
Цоканье каблуков по мраморному полу. Мягкий стук по лестничному пролету между вторым и первым этажами.
– Черт, Фемида…
Пьер схватил Офелию за руку и потянул за собой. Но, вопреки её ожиданиям, они побежали не от звука, а к нему. Офелия, возмущенно пытаясь оттянуть Пьера обратно – в каморку под лестницей, – спотыкалась и проклинала друга всеми силами природы.
Антигона «Фемида» Кобальд была не из тех женщин, с которыми можно поговорить по душам, завести семью или хотя бы встретиться без потерь для себя. После того, как она заходила в аудиторию, появлялись раненые и несколько убитых. И будьте уверенны, эта женщина точно знала, как ей избежать наказания за эти убийства. Юридический факультет под её началом ходил строевым шагом, держал спины и папки с материалами дел ровно и молился на Закон. В целом они были полностью готовы к войне, если таковая вдруг случилась бы. Но так как надобности в военных действиях не было, они все же занимались тем предметом, для изучения которого поступили на факультет.
И если юристы любили и уважали свою строгую надзирательницу, то вся остальная часть академии – включая директора и весь состав преподавателей – боялась её до дрожи в коленях. Казалось, она могла засудить Бога за неявку в зал приходской церкви.
Пьер взлетел на лестничную площадку второго этажа и нырнул в закуток, ведущий к коридору в левое крыло. По обеим сторонам лестницы стояли два рыцаря – пустые доспехи на постаменте с гобеленовыми знаменами в руках. Этим углам всегда не хватало света, так что никто никогда не обращал внимание на пыльные доспехи и темноту, клубящуюся за ними. Прижавшись друг к другу, они замолкли. Если бы Фемида все-таки обратила в то утро внимание на темный угол левого крыла, она заметила бы у стоящих там доспехов странную аномалию: у икр рыцаря, словно атавизмы, торчали по обе стороны две лохматые головы с широко открытыми немигающими глазами. И даже тогда она вряд ли сделала какой-либо вывод – ведь, как всем известно, она «юрист, а не биолог». Но Антигона Кобальд очень спешила, а потому две головы, выглядывающие из-за рыцарских доспехов, не стали объектом её внимания.
– Куда это она так бежит? Неужто армия юристов взбунтовалась? – прошептала Офелия на ухо Пьеру, который сидел, прижавшись к ограждению лестницы, и смотрел первый этаж сквозь деревянную балюстраду лестницы.
– Или на свидание. Спорим, что с Генри Холмсом? Думаю, он её единственный кумир, – улыбнулся Пьер, слыша за спиной сдавленный хохот Офелии. Шутка про «профессора Кобальд и её факультет пыток» была у всех на устах. Зная Пьера, Офелия могла предположить, что именно он был её автором.
Антигона Кобальд открыла тяжелую дубовую дверь, впуская в академию промозглый ветер, и вышла на улицу, оглядываясь по сторонам. Стоя на мокрой лестнице в одном твидовом жакете и шелковой блузе, она даже не повела плечами от холода. Лишь выбившиеся из тугого узла на её голове волосы свидетельствовали о непогоде. Заметив кого-то, женщина призывно помахала рукой и окликнула его по имени.
– Скорее, отец Коллинз, юноша и так весь промок!
Пьер вжался в ограждение еще сильнее, но угол обзора не позволял ему увидеть того, с кем говорила Кобальд. Голос отца Коллинза – священника из часовни – он узнал сразу, но второй, глубокий и медленный, не принадлежал никому из обитателей этого места.
Он переглянулся с Офелией, которая к тому моменту успела вылезти из своего укрытия и тоже подобралась ближе к перилам. Девушка выглядела взволнованной, но Пьер не мог понять по её лицу, рада ли она всему происходящему.
– Неужели у нас новенький? – Пьер, как заворожённый, вглядывался вниз, пытаясь узнать о незнакомце как можно больше.
Девушка что-то хмыкнула, не отрывая взгляд от дверей, и Пьер заметил, как её взгляд слегка потемнел. Пальцы Офелии, обхватившие деревянные столбики, побелели от напряжения. Толкнув подругу плечом, Пьер вопросительно посмотрел в её глаза. В ответ Офелии только покачала головой и тряхнула плечами, сбрасывая напряжение.
– Входите, входите! Вас нужно скорее согреть.
Наконец дверь закрылась, и в лужах грязной воды любопытному взору Пьера предстали трое: Фемида с растрепанными седыми волосами, прилипшими к лицу, юный отец Коллинз, обнимающий себя за плечи, и он – высокий молодой человек, донельзя бледный. Вся одежда и волосы юноши имели жалкий вид – пряди липли к лицу и мокрому шерстяному пальто, потяжелевшему от влаги, – но по поджатым губам и горящим глазам было видно, что он в ярости. Не глядя на отца Коллинза, юноша выхватил из его рук свой чемодан и вцепился в него обеими руками, точно боялся, что церковь захочет присвоить его имущество. Вслед за вошедшими влетел ворох грязных листьев, которые теперь умирали на сыром деревянном полу, напоминая своим пожухлым цветом плевки вековой плесени.
– Я нашел его около часовни, он шел со стороны станции. Должно быть, это ваш… – начал несмело отец Коллинз – его большие голубые глаза будто извинялись за каждое слово.
– Да, вы правы, я студент, – отрезал незнакомец, – и я уже тысячу раз пожалел об этом.
– Прошу прощения, – Коллинз сжимал в руках свой промокший пиджак, ежесекундно вытирая холодные капли, стекающие по его волосам на лицо. – Я пойду.
– Большое спасибо, отец Коллинз. Вы правильно сделали, что предупредили меня.
Внизу разыгрывалась настоящая трагедия, и они впитывали её, словно губки. Когда дверь за священником закрылась, Пьер прикусил губу. Незнакомец не вызывал симпатии с самого начала: в первые же минуты пребывания в академии он грубо обошелся с юным отцом Коллинзом, который был едва старше Пьера и не отличался особым острословием, которое могло бы помочь ему отстаивать свою честь в разговорах с не особо воспитанными людьми. Пьер был единственным, кто посещал часовню на постоянной основе, и за все время успел подружиться с молодым священником. Бернард тоже был выходцем из Шотландии, так что они быстро нашли общий язык и темы для разговоров под неустанным взглядом Девы Марии с цветного витража над алтарем.
– Антигона Кобальд, кафедра юриспруденции, – профессор протянула руку юноше и тот медленно, словно оценивая уровень опасности, отзеркалил её жест.
Пьер подумал о том, что незнакомец напоминает ему зеркало: такой же плавный, недвижный и полупрозрачный – неуловимый для анализа.
«Он был копией каждого своего собеседника…», – так впоследствии отмечал Пьер на полицейском допросе.
– Должно быть, вы Виктор Хьюз? Мы ждали вас завтра.
– Расписание поездов поменяли, когда я уже был в Блэквуде. Поезд доезжал до вас только сегодня или через месяц. Как вы, наверное, догадываетесь, месяц я ждать не мог.
Он все еще крепко сжимал в руках чемодан и мелко дрожал.
– Приношу свои извинения. Мы бы послали за вами экипаж, если бы знали. Я сейчас же прикажу приготовить горячий чай и ванную. Еще раз хочу сказать, что мне очень жаль, что вам пришлось идти через лес пешком в такую погоду. Конечно, ни о каких занятиях сегодня не будет идти и речи… Мы предоставим вам отдых и врача, если потребуется.
Впервые в жизни Пьер видел Фемиду такой взволнованной: она напоминала нахохлившуюся птицу, суетящуюся над своим птенцом.
– Наверное, он какая-то важная шишка, если Кобальд так ласкова с ним, – Пьер наблюдал за тем, как Антигона помогает юноше снять мокрое пальто и отдает его в руки подбежавшего дворецкого. Вручив ему еще и чемодан, она властным тоном сообщила:
– Роберт, отнесите вещи молодого человека в башню правого крыла…
Она еще не договорила, но Пьер уже зажмурился, боясь услышать ужасное: «в верхнюю комнату…»
– В верхнюю комнату, пожалуйста, – договорила профессор Кобальд.
Пьер огорченно выдохнул, глядя на каблуки быстро семенящих по лестнице ботинок дворецкого.
– Святые угодники…
– Тише ты… – зашипела Офелия, указывая вниз.
– Не беспокойтесь, все в порядке. Уверяю вас, вы ни в чем не виноваты. Вам же неподвластна погода и расписание поездов. Или мне что-то неизвестно о преподавателях вашей академии? – незнакомец устало улыбнулся.
Куда делись едва сдерживаемые злость и напряжение, сводившие его пальцы минутой ранее? Плечи расслабились, словно вся агрессия заключалась именно в мокром шерстяном пальто, которое он наконец снял, освободив душу от мертвого груза. Офелия тоже удивленно выдохнула, но ничего не сказала.
– Тогда пойдемте скорее согревать вас, мистер Хьюз. Пропустить целый семестр мы вам точно не позволим, – профессор прошла к лестнице, приказав юноше следовать за ней.
– Она ведет его в мою комнату, – сокрушенно произнес Пьер, когда профессор со студентом скрылись из виду.
– В вашу комнату, – назидательно поправила Офелия, сверкая глазами. – Неужели ты не понимаешь, как это интересно?
Пьер пожал плечами.
– Мне придется делить с кем-то башню…
– Мы должны срочно рассказать кому-нибудь об этом! Рафаэль еще не приехал?
– Не знаю. С утра его не было.
– Боги, да какая разница? Он уже должен приехать, пойдем быстрее!
Офелия вскочила, чуть не вырвав из рук статуи гобелен, и побежала по лестнице вверх, словно это не она пару часов назад гнула спину на изнуряющих тренировках. Пьер побежал следом, проникнувшись её энтузиазмом. Может быть, приезд нового студента хоть ненадолго, но изменит привычный жизненный уклад академии. И, вполне возможно, жить с кем-то в комнате – не так ужасно, как может показаться на первый взгляд.
Они бежали по длинному крытому ковром коридору, не пытаясь скрыть собственный топот, и полы черного кейпа Пьера летели за ним, словно крылья летучей мыши. Влетев в дверь, ведущую в башню, они быстро поднялись вверх по винтовой лестнице, перепрыгивая ступени через одну, как будто за ними неслась сама Смерть. Офелия первая добежала до двери Рафаэля и забарабанила по ней.
– Рафаэль, ради всего святого, мы знаем, что ты здесь…
Не успел Пьер добежать до узкой площадки перед комнатой, как дверь отворилась, и из неё показалась лохматая голова, обвязанная полупрозрачным голубым шарфом. Офелия радостно бросилась навстречу другу и повисла на его шее, а Пьер резво заскочил следом и закрыл за собой дверь. Держась рукой за сердце, готовое выпрыгнуть из груди, он тоже повис на шее Рафаэля, не в силах больше стоять на ногах.
– За что мне столько счастья? – стоило Пьеру обмякнуть в его объятиях, как Рафаэль, не устояв на ногах, осел на пол, пытаясь удержать друзей от удара головами.
– Рафаэль, ты не представляешь, – выдохнула Офелия, разжимая наконец свою железную хватку.
– Когда ты вернулся? – Пьер тоже сел рядом на пол, устало облокотившись спиной о кресло. Комната Рафаэля мало изменилась, впрочем, как и он сам. Те же улыбающиеся голубые глаза на бледном лице, собранные лентой в хвост золотые волосы и множество – бесконечное число – веснушек, покрывающих почти каждый сантиметр его тела. После поездки он ожидаемо не загорел, но веснушек, кажется, стало еще больше.
– Боже, Эль, на тебя будто бы пролили кофе – ты весь в крапинку! Или аборигены решили сделать тебе ритуальный раскрас? А тебя не путали с жирафом?
Пьер накинулся на друга с дюжиной вопросов, но Рафаэль не успел ответил ни на один из них – он безудержно смеялся, спрятав лицо в рукавах небесного-голубого халата.
– Я был в Румынии, Пьер.
– О, прости! Так все эти пятнышки тебе Дракула оставил? – он улыбнулся, показывая острые белые зубы.
– Пьер, я удивляюсь, как отец Коллинз тебя еще терпит.
Офелия громко расхохоталась, вызвав у друзей новый приступ смеха.
– Ну, на самом деле я очень набожен, – Пьер сдвинул брови и поднял глаза к небу.
– Мы видели Фемиду, – вставила Офелия, обняв себя за плечи руками – она все еще была в балетном купальнике, и тонкие колготки с гетрами явно не спасали от холода.
Рафаэль, от которого не укрылся озябший вид подруги, встал и накрыл её теплым пледом со своей кровати, и лишь потом продолжил:
– Я тоже её видел. Вроде бы такая же страшная, как и прежде, – он сел, скрестив ноги, как буддийский монах, и его золотые кудри рассыпались по голубому шелку халата.
– Мы видели её… кое с кем… – загадочно добавил Пьер, заговорщически склоняясь ближе к кругу. – Кое с кем интересным…
– У нас пополнение! – радостно объявила Офелия. – И, кажется, это пополнение теперь будет квартироваться в комнате Пьера.
– Mon Dieu! Я ему не завидую. С какого он факультета?
– Мы мало что слышали, а видели и того меньше, – с сожалением отметила Офелия.
– Думаю, нам нужно это обсудить, – серьезно сказал Пьер, обняв колени. – Обычное собрание нашего клуба неудачников в честь начала учебного года, что скажите?