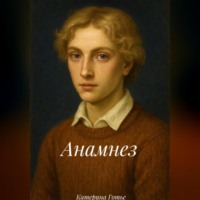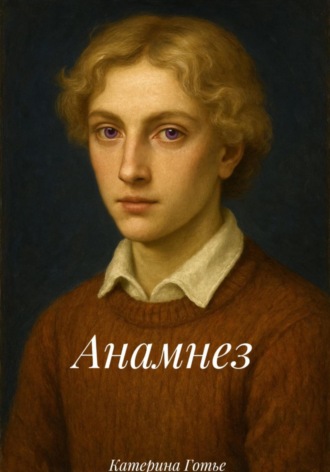
Полная версия
Анамнез
– Моль, честное слово…
Ванесса согласно каркнула, усевшись на звонок над дверью.
Глава 2
Комнаты академии, несмотря на огромные суммы, которые студенты платили за обучение, были ужасающе большими и холодными. Представьте, что вам приснился невероятной красоты викторианский особняк с длинными коридорами, у стен которых выстроились в ряд латы и рыцарские доспехи, дубовыми столами, прекрасной лепниной, бархатными балдахинами над кроватями, огромной двухэтажной библиотекой с закрученной лестницей и ослепительно белыми ваннами на золотых ножках вместо душевых кабин. О, вы отдали бы многое чтобы поселиться там, но я вас уверяю: могильный холод, подобный холоду старинных склепов на кладбище Невинных Мучеников, отобьет у вас любую охоту выбираться из теплых постелей.
Что уж говорить о студентах, которым приходилось отдирать свои оледеневшие конечности от кроватей в восемь часов, быстро добираться до ванной комнаты и держать руки под струей горячей воды до покраснения. Ночью ветер резвился меж высоких башен, завывая так пронзительно, что перед лекциями преподаватели сочли нужным предупредить учеников о возможном появлении в лесу стаи голодных волков, которые нередко спускались в это время с гор.
Но к утру погода совсем разбушевалась. Ливень, начавшийся около семи, стучал по крышам башен с такой яростной силой, что больше походил на мелкий град. Студенты, всю ночь мучившиеся от головной боли, надевали все самое теплое, что успели достать из чемоданов, и мечтали о горячем завтраке в кафетерии – в особенности о чашке горячего черного кофе, который прогонит вязкий сон, прилипший к векам.
Но не всем утро первого учебного месяца далось так тяжело. В комнате одной из башен – одной из тех, по облезлой черепице которых немилосердно отбивал дробь дождь, – в кровати с плотно задернутым балдахином, закутавшись в пуховое одеяло, лежал юноша и проклинал бессонницу.
Нервно глянув на наручные часы, он облегченно откинул голову на подушки. Первое занятие начнется только в полдень, потому что, как и каждую пятницу до этой, в расписании стояла лишь мастерская профессора Кроу – самого большого противника ранних пробуждений. Не совсем ясно, как ему удалось освободить под лекцию целый день и избавить своих студентов от ранних подъемов и других предметов, но все были довольны, так что о подробностях договора Кроу с директором никто не расспрашивал.
Студенты четвертого курса кафедры писательского мастерства вообще были самыми счастливыми – и, возможно, самыми ленивыми, что они оправдывали то отсутствием муз, то внезапным ночным вдохновением, то творческим застоем – из всех остальных учеников.
Актеры – самая беспокойная и изможденная репетициями группа – были на ногах с шести часов, встречая рассвет на занятиях по сценическому движению, пропуская обед из-за прогонов отчетных спектаклей и провожая закат в цехах у костюмеров. Пьеру казалось, что топот их ног в балетках уже слышится откуда-то снизу, но скорее всего это просто в пустом коридоре хлопала створка окна, а эхо многократно усиливало этот звук и разносило по этажам.
Пьер вспомнил выражение лица Офелии – смесь восторга и презрения, – когда он жаловался ей на ранние подъемы. Сейчас она уже мерзнет в огромном и холодном, похожем на готический собор, репетиционном зале, а он все еще валяется в кровати, пытаясь понять, какой из пальцев на его левой руке онемел сильнее всего.
Зябко поежившись под одеялом, он хотел было героически подняться с кровати и спуститься в кафетерий за кофе – себе и Офелии, – как тошнотворное головокружение вернулось, намертво приковав его к холодной подушке. Бессонная ночь – одна из тысячи – давала о себе знать.
Одеяло было ледяное, от холода не спасал даже полог, но голова Пьера раскалывалась от жары. Он чувствовал, как кровь бежит в капиллярах век, горячо пульсирует в венах на висках и давит на лоб. Прижав к лицу ледяные ладони и слегка надавив на глазницы, Пьер испытал минутное облегчение и проигнорировал дрожь в руках, внезапно налившихся тяжестью.
Уронив их поверх темно синего одеяла, он так и остался лежать и думать – бледный и тонкий, как хвост кометы на ночном небе.
Пьер пытался вспомнить, чем закончился предыдущий курс. Кажется, актеры четверокурсники ставили «Гамлета», в котором Офелия, еще юная третьекурсница, играла Офелию – роль, которую ей явно предрекла судьба. Он помнил оглушительные аплодисменты, которыми зал одарил актеров, и букет белых лилий – они с Рафаэлем вручили его Офелии, накинувшись на подругу с объятиями за кулисами. В выпускном спектакле Офелия снова получила высшие оценки: она играла Катерину в «Грозе», так что её перевод на четвертый курс был лишь делом времени. В то время как многие актеры – почти все из них казались Пьеру чересчур заносчивыми и самовлюбленными – едва смогли получить допуск к следующему курсу, а то и вовсе были выставлены за двери.
Стоило Пьеру вспомнить строгих наставников актерского факультета и жестокий отбор, как его пробрала дрожь. Он с облегчением поблагодарил судьбу за то, что она одарила его литературным талантом и отправила на мирный курс к профессору Кроу. Их прошлогодний выпускной экзамен состоял из чаепития узким кругом вместе с профессором, на которое студенты должны были принести рукописи: романы, сборники стихов или рассказов, которые писали в течение учебного года. Очевидно, экзамен учитывал зыбкую неустойчивость самого писательского ремесла, капризы муз и душевные страдания самих писателей, которые фанатично ненавидели свои работы и упивались страданиями, сравнивая себя друг с другом. Даже учитывая то, что некоторые его товарище принесли на экзамен лишь по паре глав и стихотворений, всех их перевели на следующий курс.
За исключением, кажется, Бенджамина Харриса, который предоставил Габриэлю Кроу пустой белый лист и нагло сообщил, что это – авангардная поэзия, и если профессор не видит смысла в его «белом листе», то это проблема не Бенджамина, а «профессора Кроу и всей этой его классической литературы».
В ответ на это профессор Кроу и «вся эта его классическая литература» отставили чашку с чаем и взяли белый лист, критически его оглядывая.
– Ну почему же ты думаешь, что я ничего здесь не вижу? Как же, тут же есть воистину замечательные строки!
И он встал с пола, всколыхнув волну сидевших вокруг него студентов с чашками чая, чтобы продекламировать:
О глупости святая простота!
Мучимый болью мысли я повержен.
И в мыслях лишь тупая пустота,
Как белый лист – ах, авангард поэзии!
Я стану всех глупцами называть,
Кто не поймет шедевра моего.
И буду наглым новшеством сверкать,
Хотя в поэзии не смыслю ничего.
Пьер улыбнулся, повернув голову на бок и коснувшись разгоряченной щекой холодной наволочки. Он помнил красное лицо Бенджамина, который выхватил листок из рук профессора и так яростно уставился на него, словно правда надеялся увидеть на нем дерзкое стихотворение. Все собравшиеся смеялись, хлопали профессору и вставляли запоздалые комментарии к работам сокурсников. На то чаепитие Пьер принес роман – что-то о театральных подмостках, неприятии себя и злобном обществе, – и все его товарищи отозвались о зачитанных вслух страницах с большой теплотой. Однако Пьер чувствовал, что эта работа – вовсе не венец его творчества. Он выстрадал этот роман, но не пережил. В нем не было почти ничего от его личных переживаний. Тогда в его мыслях родился замысел, который обещал превратиться в чудесную историю, если только Пьер найдет в себе силы перенести её из мира фантазий в мир реальности.
Позже, оставшись в академии на летние каникулы, он обнаружил на своем столе экземпляр своего романа, который в тот вечер ходил по рукам. Под конец он оказался у профессора Кроу, который изъявил желание прочесть его полностью.
Рукопись была аккуратно сложена на столе, а внутри, написанная на кремовой бумаге, лежала записка:
«Найди свой театр, Пьер. Пусть тебя окружают на всем жизненном пути не актеры, а настоящие люди – такие же настоящие, как твой роман, который вызвал во мне желание снова побывать на сцене..»
Габриэль Кроу.
Тогда в груди Пьера расцвели цветы вдохновения и запели музы: он писал все лето, работая ночью и отсыпаясь днем, и наслаждался покровительственной улыбкой профессора, которая предназначалась его работам – и только им. Не стоит и говорить, что он легко поступил на четвертый курс, но этот факт в данный момент – когда он лежал, мучимый ужасной головной болью и бессонницей в первый день занятий – совершенно его не радовал. Хотелось просто прижаться к плечу Рафаэля и пожаловаться ему на все, что сейчас болело.
Но это сейчас не представлялось возможным. Рафаэль, вместе с другими студентами-лингвистами, отправился на каникулы в какую-то затерянную деревню то ли в Шотландии, то ли в Румынии – изучать местный язык путем общения с носителями и изучения текстов, хранящихся в архивах.
Пьер так и не смог определить точное местоположение друга, так как письма, приходящие от него, оказались написаны на неизвестном ему языке.
Едва открыв конверт, Пьер увидел незнакомые закорючки, расползающиеся черными муравьями по всему листу. Не имея ни единой мысли насчет языка, которым изъяснялся друг, Пьер был вынужден отложить письмо.
Рафаэль либо шутил над ним, не изменяя обычной веселости, либо совершенно оторвался от реального мира, сойдя с ума от трехмесячного общения на чужом языке.
Половину лета Пьер гадал, чем занят его друг в загадочной чужой стране: может быть, он изучает изготовление виски в шотландской деревеньке, а, может, копается в старинных манускриптах о Владе Цепеше… Или неугомонный Рафаэль Аддерли, как обычно, попадает в различные передряги, из которых выпутывается с невероятной легкостью. Никто не был бы удивлен, если бы Рафаэль в один день признался, что в младенчестве его уронили в чан с эликсиром удачи.
Пьер часто ловил себя на мысли, что не может определить – гений Рафаэль или полный безумец, потому что тот даже в самой сложной ситуации находил в себе силы улыбаться и идти дальше с упрямством целого королевского войска.
«Все в мире связано… Значит, так должно было случиться…»
Этими словами Рафаэль утешал себя в минуты отчаяния, ими он окутывал друзей – как самым теплым одеялом – и ими же оправдывал любые события. И он был прав: Офелия, оступившаяся на сцене на первом курсе, получила от режиссера не строгий выговор, которого со страхом ожидала, а похвалу за хороший актерский ход, который подчеркнул душевный разлад сломленной Катерины. Днем ранее она плакала в объятиях Рафаэля и яростно мотала головой на его заверения в том, что все в итоге закончится хорошо.
Раньше Пьеру казалось, что эта холистическая философия Рафаэля распространяется на кого угодно, но только не на него. Однако, если избавиться от мелочных переживаний из-за пустяков и насущных проблем, жизнь Пьера складывалась на удивление гладко и четко – будто невидимый кукловод дергал за нужные ниточки в нужное время.
Он закрыл глаза, вспоминая свои годы до поступления в академию: утренние молитвы, скудный завтрак, церковная школа, родители-религиозные фанатики, вечные ссоры и укоры, попытки вытрясти из него все богопротивное…
Снова вечерние молитвы и краткий сон – адское колесо вновь повторяло свои движения. Вся жизнь до поступления в академию была адом наяву – клеткой, в которой даже белые голубки, символы чистоты и непорочности, со временем почувствуют себя чудовищами, заслуживающими жестокого обращения.
Но три года в академии заставили его забыть обо всем. Пьеру уже начало казаться, что он всегда просыпался в этой кровати, нежась в синих, пахнущих свежестью простынях, всегда жил через дверь от Рафаэля, всегда ходил с ним и Офелией в город по воскресеньям, чтобы навестить кофейню мисс Роже и затеряться в книжном магазине… И всегда получал ту любовь, которую заслуживал. Он и его творчество, за которое он больше не испытывал стыд. Рафаэль был прав: если бы не годы до, он никогда бы не нашел в себе силы собраться и поступить – сбежать – в академию, где, без сомнений, его жизнь только началась.
Тяжелые воспоминания согрели его лучше всякого огня. Пьер окончательно проснулся, стряхнув с век остатки сна. Часы на запястье показывали без четверти девять, но сегодня он явно не собирался спать до последнего.
Откинув тяжелый полог, Пьер погрузился в ослепительно яркий мир ледяного воздуха. За окном все так же лил дождь, комната тонула в оттенках тускло-зеленого и болезненно-синего света, который дрейфовал в затхлом воздухе старой башни.
На деревянном резном столе, почти упирающемся лакированным боком в балку кровати, лежали несколько аккуратных папок и перевернутый канделябр с единственным оплавленным свечным огарком. Пьер аккуратно встал, поставив ступни на ледяной деревянный пол, который тут же издал протестующий скрип, как будто предупреждал о том, что не выдерживает его веса.
Окно тихонько скрипнуло, когда Пьер до упора вжал створку и закрутил ручку, пытаясь закрыть доступ морозному ветру, который лез во все щели. Накинув одеяло, он втянул лохматую голову в плечи, проклиная администрацию академии за отказ провести отопление.
«Это вам не городской дом, а почти музей, культурное достояние! Академия вырастила уже не одно поколение великих людей, которые изменили наш мир!» Да, именно так, и сейчас один из таких людей стоит на холодном полу, рискуя подхватить пневмонию и умереть, не успев добраться до кабинета дежурной медсестры.
И все-таки это утро заставило Пьера поверить в слова Рафаэля. Что-то неуловимо изменилось, он чувствовал, как из-под сброшенной чешуйчатой кожи лезут на свет легкие крылья. Он стал Пьером Лихтенштейном – тем единственным, кто получил полную стипендию на обучение, тем, кто на закате второго курса написал пьесу, которую поставили в студенческом театре «Мортамур» той же весной, тем, кто сейчас прижимает к груди роман и перед кем еще целый год блаженного странствования по морю литературы. Все самое страшное осталось позади, похороненное под толстым слоем пепла, а впереди ждал целый мир, музы которого были к нему благосклонны. Живя в башне, Пьер привык к огромным стрельчатым окнам, из которых был виден бесконечный хвойный лес, кольцом окружающий академию. В ясные дни он мог рассмотреть за верхушками деревьев даже небольшую шеренгу домов – едва тянувшую по своим размерам на деревню, – которую все местные называли городом. Блэквуд – так назывался городишко – существовал почти исключительно на деньги студентов, которым захотелось прикупить новые книги, обновить гардероб, отправить посылку или заглянуть в булочную. Город был хоть и мал, но Пьер и его друзья каждый раз умудрялись забредать в такие закоулки, о существовании которых раньше даже не подозревали.
Окно запотело от его горячего дыхания. Пьер поднял руку и попытался протереть стекло рукавом, но не добился ровным счетом ничего – за стенами академии лил дождь, так что не было видно ничего, кроме исполинских деревьев, выступавших из густого тумана. Дальше все терялось в мутной пелене.
Группа из семи лингвистов, в числе которых был Рафаэль, должна была вернуться еще прошлым вечером, но пока от них не было никаких вестей. Пьер понимал, что их могла задержать непогода, смертоносной змеей расползающаяся по окрестностям, но в душе его все равно вспыхнул суеверный страх. На одну страшную секунду ему показалось, что из тумана вынырнула эфемерная фигура, чьи сверкающие глаза уставились на него с необъяснимым выражением. Но тотчас порыв сильного ветра развеял наваждение: из тумана выплыл толстый сук корявого дерева, доживающего свой век среди бодрых елей. На ветви сидела сова, и это её фиолетовые глаза показались Пьеру глазами Мельмота – предвестника смерти.
Совы в это время года были не редкостью, но все же эта птица сидела на своем насесте слишком неподвижно – как верховная жрица, жаждущая подношения. Пьер перекрестился и отвернулся от окна, постаравшись сбросить с плеч одеяло дремучих суеверий.
Одевался он медленно, теряясь в пространстве и забывая, где лежали подготовленные с вечера туфли, форменный костюм в фиолетово-черную полоску и белая рубашка. В первый учебный день их всегда обязывали рядиться в форму, которую академия считала своей гордостью. Несколько сотен человек в одинаковых черно-фиолетовых одеяниях, по мнению Пьера, больше походили на поднятых из могил покойников с синюшными от холода лицами, чем на готовых грызть гранит науки студентов. Все еще не до конца понимая, каким из множества элементов формы гордится академия – слишком узким удлиненным пиджаком без намека на карманы, прямыми брюками, развивающимися на его худых ногах, как паруса морских кораблей, уродливо-мохнатым свитером с высоким горлом, который кусал и душил свою жертву? – Пьер прицепил на лацкан пиджака золотую брошь в форме литеры «Л».
Когда он вышел из комнаты, сутулясь под шерстяным кейпом, который в последнюю минуту накинул поверх пиджака, было уже девять утра. Спустившись по каменной круговой лестнице на один этаж, Пьер остановился перед дверью Рафаэля и, недолго думая, постучал, позвав друга по имени. Оклик остался без ответа – одинокий, он унесся вниз, многократно отраженный от круглых стен башни, напоминающих глухой колодец. За дверью было тихо, а на коврике под ногами лежал слой пушистой пыли толщиной с палец. Не нужно было быть детективом, чтобы догадаться, что ни одна нога еще не ступала здесь в это утро.
Пьер вздохнул и отправился вниз, наслаждаясь звуком своих шагов, которые потревожили сонный воздух. Кроме него в башне сейчас не было ни души, так что Пьер ощутил себя героем рассказа «Колодец и маятник», который всегда вызывал у него клаустрофобию и тревогу. Едва заметив, что скользкие каменные стены будто начинаются сужаться, он ускорил шаг.
Помимо них с Рафаэлем в башне жили еще двое: студент-виоланчелист и балерина с хореографического факультета. Но они жили ниже, в той части башни, которая находилась на одном уровне с первым этажом основного здания, так что Пьер почти никогда не бывал там. Он предпочитал выходить через деревянную дверь на пару ступеней ниже комнаты Рафаэля, ведущую в узкий коридор второго этажа, который был ал от гобеленов, развешанных по стенам. Пьера очень радовал тот факт, что у него нет аллергии на пыль, иначе каждое посещение этой части здания превращалось бы в мучительное шествие, сопровождающееся если не чиханием, то точно слезами – пыли здесь было так много, что она буквально клубилась в воздухе, подобно дыму от восточных благовоний.
В этот час коридор был пуст – лишь доспехи, выставленные вдоль стен, словно встречающие короля рыцари, негромко скрипели столетними суставами. Главная лестница располагалась в самом центре здания и была хребтом академии, разделявшим ее на правое и левое крыло. Наверху, прямо над головой Пьера, находился пустой этаж с большим балконом, который красовался между четырех шпилей академии. Это место студенты называли «Цитаделью», но уже давно никто не ходил туда: прогнившая лестница проваливалась под ногами, перила качались, а слепые окна были запачканы пылью и грязью.
В одно из окон своей комнаты Пьер даже мог видеть этот балкон и половину пустого зала, который виднелся за большими стеклянными дверьми. Этот этаж был необитаем так давно, что, кажется, туда не заселяли только из уважения к призраку, который после смерти остался заточенным там, как Рапунцель в башне. Поговаривали, что в апартаментах наверху когда-то жила дочь основателя академии, но не время сейчас вспоминать пыльные легенды прошлого…
Пьер вошел в кафетерий и наконец облегченно сбросил с плеч груз безумных дум, навеянных на него задумчивыми и грозными лицами с портретов, которые висели по обе стороны от Главной лестницы и напоминали скорее траурную процессию, чем галерею памяти славных мужей.
Запах горячего хлеба, кофе и корицы опьянял: хотелось замереть, поймать мгновение и, подцепив языком, словно снежинку, проглотить его, ощутив тепло сказки внутри себя. Кафетерий, обустроенный на первом этаже, помещался в левом крыле здания – в том же крыле, где в основном обитали актеры и студенты хореографического факультета. В этой части академии в основном находились поражающие своими размерами танцевальные, репетиционные и тренировочные залы, где студенты, выдыхая в воздух облачка пара, раз за разом исполняли плие и умирали, отравленные ядом.
Правое же крыло было почти полностью отдано во владения устному творчеству: лингвисты, искусствоведы, литературоведы и прочие книжные черви обитали в чуть более теплых и менее обширных аудиториях, часто даже имея возможность сидеть на занятиях в кейпах, а не мерзнуть в пуантах и купальниках. Сейчас кафетерий был пуст – только за стойкой сидел юноша, улыбающийся чему-то, написанному в книге, которую он разложил перед собой. Маленькие столики стояли у окон, украшенных витражами, которые в солнечные дни бросали цветные блики на стены и лица студентов, превращая комнату в обитель радуги и улыбок.
– Доброе утро, Пьер, – махнул ему рукой юноша за стойкой. Его непослушные кудрявые волосы забавно выбивались из-под белой шапочки. – Снова ленивая пара у Кроу?
– И тебе доброе утро, Луи, – Пьер зевнул, оглядывая витрину с утренним меню. – Не такая уж она и ленивая, но ты прав – Кроу всегда встречается с нами по пятницам в двенадцать.
Луи рассмеялся, показывая аккуратные белые клычки, делающие его улыбку похожей отнюдь не на вампирский оскал, а на блаженную улыбку разморенной сном кошки.
– Тебе черный с ложкой сгущенного молока, как обычно?
– Да, будь добр.
– В шесть часов здесь была такая суета, – Луи повернулся к Пьеру спиной, начав возиться с кофе. – Знал бы ты, сколько у нас в академии актеров и танцоров. И ведь всем нужно это «латте на кокосовом без сахара», «раф на миндальном» и «капучино на банановом». Иногда я боюсь, как бы не запутаться во всех этих сортах молока и не испортить кому-нибудь диету. Они же все так трепетно относятся к своему здоровью.
Пьер оперся двумя локтями о стойку и внимательно слушал Луи.
– Особенно балерины! Некоторые из них приходят уже с порозовевшими от тренировок лицами, когда я только открываю кафетерий, а это, на минуточку, пять утра! Что же им не спится?
Луи поставил перед Пьером стакан с черным кофе, положил целую столовую ложку сгущенки и начал задумчиво размешивать с таким печальным лицом, словно сожалел о тяжелой судьбе всех балерин.
– Да-а, – рассеянно протянул Пьер, наблюдая за белой змейкой сгущенки, постепенно тающей в темном напитке.
– Вот у них пары точно не ленивые.
– Да…На каком волшебном эликсире они живут? Я бы раньше полудня вообще не просыпался, но из-за учебы приходится вставать в девять, а то и в восемь. Но в пять? Офелия репетирует с шести утра до пяти вечера, а потом еще тащит меня на пешую прогулку. А я вот напишу пять строк – и уже с ног валюсь, хотя последние пару часов даже не вставал со стула…
Пьер повел плечами, чувствуя, как его снова клонит в сон.
– Офелия, которая Гамильтон-Риччи? – переспросил Луи, подняв голову от методичного подсчета круассанов.
– Не припомню у нас еще Офелии, – Пьер, не прерывая диалог, ткнул пальцем в витрину, указывая на жидкую овсяную кашу с фруктами, стоявшую рядом с горой шоколадного печенья.
– Мне всегда было интересно происхождение её фамилии, – Луи смущенно улыбнулся, пододвигая к Пьеру деревянный поднос с овсянкой на белой резной тарелке.
– Она наполовину шотландка, думаю, это все объясняет. Они оба на секунду задумались, а потом рассмеялись.
– Нет, ничего это не объясняет, – улыбнулся Пьер. – Мне кажется, она и сама не знает происхождение своего родового имени. У нас в академии вообще нет ни одной обычной фамилии. Словно какой-то неумелый шутник собрал людей с самыми нелепыми фамилиями в одном месте.
– Чего только стоит наш Лори, – перешел Луи на полушепот, склонившись к Пьеру.
– О боги, аккуратнее с этим, – шутливо погрозил Пьер пальцем, а потом изобразил, как надевает на голову корону и поправляет перчатки на руках.
– Его высочество, Флоризель Серпентайн-де-Флоре! – провозгласил Луи, указывая руками на Пьера и склоняя голову.
– Давай не будем будить лихо, пока оно тихо… – но Пьера самого распирал изнутри смех.
– Ему фамилию как будто сам Толкин выбирал. Он где-то между эльфов и энтов.
– Ну, он аристократ, а они могут быть хоть эльфами, хоть орками – им позволено всё.
Пьер закончил мучить овсянку, доставая из неё бананы, и снова со скукой облокотился о стойку. Часы показывали двадцать минут десятого, репетиция Офелии закончится через четверть часа.
– Можешь сделать большой капучино и еще один американо со сгущенкой для меня? Все с собой.
– Капучино с сахаром? – Луи тут же принялся за дело. За работой его лицо приобретало такую сосредоточенность, какая была не у каждого человека во время экзамена.
– Две ложки и корицу, пожалуйста.