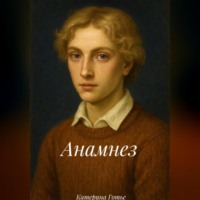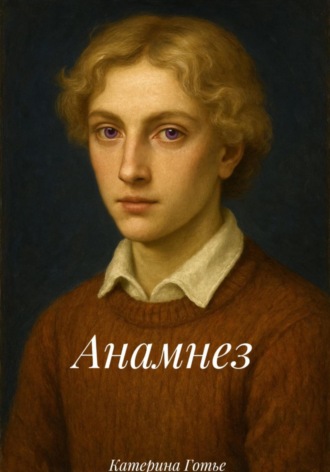
Полная версия
Анамнез
Пьер баюкал в руках свои папки и пустую чашку, на стенках которой остались кофейные разводы.
Луи поставил перед ним два больших стакана и накрыл их крышкой, вставив в один из них трубочку.
– Хороших тебе занятий, Пьер. Заходи вечером, у нас должен быть брауни.
– И тебе хорошего дня, Луи, – Пьер улыбнулся уголком губ и развернулся на каблуках, пытаясь удержать в руках сразу два полных стакана с горячим кофе и папки, которые так и норовили выскользнуть.
Когда он скрылся за дверью, в кафетерии вновь наступила тишина. Лишь крупный дождь молотил по витражным окнам.
– Боже упаси оказаться в такую погоду на улице, – пробормотал Луи и сварил себе раф на банановом молоке.
Хореографический зал выходил своими панорамными окнами во внутренний двор академии, где озеро, стыдливо жавшееся почти к самым стенам здания, покрывалось рябью и колыхалось от крупных капель дождя.
Внутренний двор и берег озера были любимыми местами отдыха для всех студентов. Открытые галереи, соединяющие части академии воедино, в обеденное время наполнялись студентами – кто сидел на скамейках, прижимаясь спиной к холодному камню стен, а кто прямо на балюстраде, подставляя лицо свежему воздуху и солнечному свету.
Мало будет сказать, что аромат, наполняющий внутренний сад, был приятен. Нет, он был не просто приятен – аромат был поистине великолепен: дивные кусты роз, чайных лилий и гортензий составляли лишь малую часть цветника, за которым ухаживал приходящий из Блэквуда садовник.
Невдалеке, над дальней кромкой озера, гордо возвышалась белая оранжерея, вся состоящая из ажурного белого дерева и стекла, еще более ослепительного, чем солнце. Но всем студентам вход туда был закрыт – равно как и садовнику, – так что любоваться восхитительными листьями диковинных растений можно было лишь снаружи, прислонившись лицом к чистому стеклу. Академию строили не вопреки озеру, а прямо вокруг него, так что оно с годами разлилось, подползая близко к стенам, а дальний его берег и вовсе вытянулся, подобно хвосту змеи, и устремился к лесу. Поэтому двор не был закрыт со всех сторон рядами галерей – да и двором он был лишь условно, ибо имел лишь две стены, окружавшие пространство внутри.
Поскольку оранжерея – бледная и высокая, словно построенная из хрупких косточек – была собственностью одного студента, мало кто бывал внутри. Все лишь чувствовали тонкий неземной аромат цветов, который не мог удержаться в пределах темницы и разлетался с ветром по всей округе.
Даже сейчас, мучимый бурей и дождями, внутренний двор выглядел местом из сказки. Огромные окна хореографического зала, обрамленные летящими белыми занавесками, казалось, тянулись до небес, а вовсе не до сводчатого потолка. Пьер прикрыл тяжелую деревянную дверь так тихо, как только смог, и остался стоять около неё, высматривая среди танцующих Офелию. Тонкая фигурка – Рафаэль как-то привез Офелии из путешествия музыкальную шкатулку с балериной, которая была похожа на девушку так же, как две капли воды похожи друг на друга – в черном купальнике, летящей юбке и белых гетрах. Из всех рук, одновременно взлетающих вверх, Пьер всегда безошибочно выделял одни – самые гибкие, как ивовые ветви, и самые знакомые. Он до конца не понимал, зачем актерам заниматься балетом пусть не на профессиональном, однако на достаточно высоком уровне. Но сейчас, глядя на Офелию, стоящую у станка прямо перед большим окном, он видел чистого лебедя, исполненного неземной грации.
Приметив подругу, Пьер прошел чуть вглубь зала и сел у стены напротив станка. Хореограф – средних лет энергичный мужчина с вьющимися черными волосами – заметил его, но не стал обращать внимания.
Следующие десять минут Пьер сидел, то любуясь изящными, неидеальными движениями актеров, которые даже в классический танец умело добавляли огня своими шутливыми переглядками и улыбками, то закрывал глаза, прижимаясь затылком к прохладной стене.
– Раз, два, три, раз, два, три…
Мерно баюкал голос хореографа, приводящий мешанину рук и ног в стройную композицию. Пьер совсем было впал в блаженное забытье, когда громкий хлопок, в высоком зале больше похожий на пушечный выстрел, отрезвил его.
– На сегодня мы закончили. В четверг будьте готовы продемонстрировать выбранные вами вариации и, прошу вас, пусть это будет не «Эсмеральда с бубном», – сообщил хореограф, провожая толпу взмыленных и вспотевших актеров разочарованным взглядом.
Уставшие актеры вмиг посыпались на пол, вытянув натруженные ноги. Создавалось впечатление, что неизвестная болезнь поразила их всех в единый миг, оставив за собой десяток изможденных тел, устилающих пол.
– Кажется, я вижу лик бога… – донеслось откуда-то, – или это ангелы. Умоляю, избавьте меня от этих телесных мук и заберите с собой, прекрасные ангелы!
Актер, лежавший на полу, протянул руку вверх, будто правда пытался дотянуться до небес.
– О, как мило, что ты назвал меня ангелом, Патрик, – друг, нависший над ним, протянул Патрику руку и помог подняться.
– Верно, ты и правда прекрасный ангел, раз уводишь меня отсюда… – продолжал свою песню Патрик. – Может, ты раскроешь свои крылья и донесешь меня на руках прямо до ворот рая? – он умоляюще взглянул на друга, его лицо исказила весьма правдоподобная гримаса боли.
– Ну уж нет, до раздевалки дойдешь сам, – рассмеялся актер…
– Всегда ты так, Александр… – театральная маска спала с лица хитреца, и он оттолкнул друга, скривив губы, – умеешь испортить всю сцену.
Несмотря на надменный вид в глазах его сверкали лукавые огни.
– Александр, Патрик, прекратите вести себя как принцессы из кордебалета! – голос хореографа, и без того мощный и звучный, многократно усилился, так что казалось, что кричит не человек, а гигантский великан, своими плечами упирающийся в небосвод.
– Так точно, господин Драгомиров, – хором ответили друзья, приклеив к лицу идиотские улыбки.
Подбежавшая сзади Офелия засмеялась и обняла Патрика и Александра за плечи, притягивая к себе.
Пьер наконец разлепил глаза и отклеился от стены, услышав голос подруги.
– Вот он точно ведет себя как капризная принцесса, – Александр указал на надменно вскинувшего брови друга.
Патрик стоял, преисполненный внутреннего достоинства, и лишь кончик его выразительной брови изогнулся, делая его бледное лицо похожим на грим мима.
– Ты прекрасно знаешь, Александр, что Патрик у нас трикстер, – Офелия говорила с придыханием, запыхавшись после тренировки, и её щеки едва заметно алели, – ему не по статусу играть принцесс.
Заметив в углу Пьера, она радостно помахала ему рукой, а потом едва заметно стукнула по запястью, давая знак немного подождать её.
– Ладно, давайте оставим распределение ролей в этой потрясающей пьесе на потом, а то я готов убить за стакан холодной воды, – милостиво махнул рукой Александр.
Остальные актеры тоже начали потихоньку вставать, жалуясь друг другу на больные спины и натертые ноги. Их шепот и гневные слова, адресованные неутомимому преподавателю, летали под сводами потолка.
– Он верно принимает нас за балетную труппу, ну или около того…
Офелия подошла – нет, порхнула – к Пьеру, коснувшись щекой его щеки.
– Знаешь, мне кажется, он и понятия не имеет, что вы актеры, – Пьер протянул ей стакан с кофе, наблюдая за тем, как с каждым глотком её усталые плечи начинают выпрямляться.
– Наверное, – она потерла рукой затекшую шею. Резинка под конец занятия больше не могла сдерживать напор густых каштановых волос, так что аккуратный пучок на её голове давно растрепался, и пара прядей липла к спине.
– Давай быстрее уйдем отсюда, я так хочу переодеться.
Они ушли последними. Как только дверь захлопнулась, зал вновь погрузился в холодное, недвижное молчание, и лишь капли дождя стучали в окна, словно усталые путники в двери заброшенного дома посреди пустынной дороги.
В холле было многолюдно: только что освободившиеся актеры и студенты хореографического факультета устало плелись по направлению к кафетерию, чтобы глотнуть воды, или сидели на первых ступенях лестницы, не находя в себе сил подняться в комнаты. Мимо Пьера с Офелией пробежала стайка балерин-первокурсниц с тщательно уложенными волосами и изящным макияжем а-ля Твигги. Офелия засмеялась, уткнувшись в плечо друга.
– Сколько всего нового им предстоит узнать. Хотела бы я посмотреть на них после занятия с Драгомировым.
– Вспомни себя в первый год.
Пьер улыбнулся, когда перед его глазами встал образ Офелии – той самой Офелии, с которой он не познакомился, а скорее столкнулся – как бык на радео с красной тряпкой. С тех самых пор он был уверен, что тореадором был сам Господин Судьба.
Это был серый день сентября. Первокурсники уже успели запомнить расположение аудиторий, залов и расписание пар, но все еще большую часть времени потерянно бродили по длинным коридорам, пытаясь осмыслить важность нового этапа своей жизни. В то время воздух был густ и вязок от витавших в нем амбиций, гордости, страха и неуверенности.
Занятия тогда еще не начались, но всех подняли ранним утром, чтобы кураторы и старосты могли провести экскурсии, объяснить правила и рассказать о заведенных порядках.
После недолгой, но страшно занимательной экскурсии с профессором Кроу по подземным глубинам академии Пьер поднялся на первый этаж, чтобы найти доску с вывешенным расписанием занятий для факультетов. Завидев свою цель за несколько метров, он чуть не развернулся и не пошел обратно: доска, висящая в коридоре рядом с кафетерием, была окружена плотной толпой, вооруженной острыми локтями и коленками. Боясь подойти ближе, он остался стоять у лестницы, ожидая, когда поток возмущения, вопросов и ликования прервется и он сможет узнать расписание своих пар. По утрам он постоянно находился в полусонном состоянии и не всегда осознавал, где находится и зачем, так что и сейчас, опираясь на перила, Пьер рассматривал разношерстную толпу и будто не замечал её. Еще мгновение – и он уронил бы голову на руки, задремав стоя, если бы не резкий вскрик, яростный и короткий, и шум, раздавшийся из глубин толпы. Откуда-то из самой середины выскочила девушка, тяжело дыша и воздевая руки к небу. Её короткая каштановая челка и кудрявое каре взлохматились, свидетельствуя о яростной борьбе.
– Балет? Вы серьезно? Балет? – она вертела головой, пытаясь найти поддержку. – Я учила монологи всех этих Катерин, Офелий и Титаний для того, чтобы танцевать балет? Святой Шекспир..! Я – и танцую «Лебединое озеро»…
Не договорив, она умчалась прочь. Кажется, в сторону танцевального зала, если Пьера не подводила память. Толпа, уже забывшая о недавнем происшествии, начала расходиться, вяло перешептываясь.
Наконец Пьер подошел к доске и спокойно изучил собственное расписание. В коридорах вновь стало тихо, лишь где-то в левом крыле с грохотом захлопнулась дверь. Коридор, откуда донесся звук, был едва правее доски, и Пьер, наклонившись, заглянул за угол. Тут же, словно в наказание за неосторожность, на него налетело бегущее создание – мешанина рук, ног и шифона, – сама Афродита, выходящая из пены морской. Успев лишь выставить руки вперед, Пьер поймал девушку в объятия и, не удержавшись на ногах, упал на спину и ударился затылком о мраморный пол. Падение чуть смягчили волны шифона, окутавшие его пушистым облаком. Запутавшись в складках ткани, Пьер судорожно заскреб руками по полу. Девушка пыхтела где-то сверху, пытаясь выпутаться и не порвать ткань. Найдя край материи, Пьер наконец сдернул её с лица и сделал долгожданный вдох. На него сверху смотрели горящие огнем карие глаза и пылающие румянцем алые щеки.
– Боги… – Пьер сел, потирая ушибленный затылок и раздраженно отталкивая рукой волны шифона. Девушка уже встала – Пьер узнал в ней юную актрису, устроившую спектакль у доски с расписанием. Она подала Пьеру руку, помогая встать, а потом начала копаться в складках шифона. Из ткани чудесным образом она выудила пару пуант и розовый купальник. Собрав с пола и саму ткань, она почти скрылась за ней.
– Понимаешь, он вручил мне балетную пачку! – донеслось разгневанное откуда-то из шифона.
– Я спросила у него, почему актеры должны заниматься балетом, а он вручил мне балетную пачку с пуантами и выпроводил из зала!
Пьер, сбитый с толку неожиданной тирадой, чуть примял сверху шифон в руках девушки, чтобы видеть её лицо. На свет появились разгневанные глаза и смешная лохматая челка.
– Он просто посмеялся надо мной, – она выдохнула устало, но уже беззлобно. – Я проходила столько этапов прослушивания, учила столько ролей, чтобы танцевать в этой ужасной пачке под руководством грубого мужлана?
Приложив ладонь ко лбу, она замерла, успокаивая участившееся сердцебиение. В единый миг она побледнела, утратила жар праведного гнева и сникла. Девушка больше не казалась разгневанной фурией в белых шелках – она походила скорее на выброшенную на берег несчастную русалку, укрытую саваном морской пены.
– Если тебя это успокоит, у меня будут занятия по фехтованию. Мне, конечно, не придется скакать в розовой пачке и купальнике в жуткий холод, но облачиться в ужасный белый костюм, напоминающий странного вида скафандр, все же придется… – самым верным способом поднять настроение Пьер всегда считал юмор. Он предпочитал черный, приправленный сарказмом, но все же умел оценивать уместность таких шуток. Сейчас точно было не время.
– Фехтование? – брови девушки спрятались за челкой. – Должно быть, ты на факультете средневековых боевых искусств.
Она уже вовсю улыбалась – её руки, судорожно сжимавшие пачку, слегка расслабились.
– Вовсе нет. Я писатель, – пожал плечами Пьер, – но, видимо, руководство считает, что писателям важен не только острый язык, но и острая шпага.
– Как я погляжу, острый язык у тебя уже есть. Офелия Гамильтон-Риччи, – девушка протянула руку, чуть откинувшись назад, чтобы удержать вещи в руках. – Актерский факультет.
Пьер пожал изящную протянутую ладонь, рассматривая голубые нити вен под мраморной кожей.
– Пьер Лихтенштейн. Писательское мастерство.
Оба замолчали, прислонившись к холодной стене. В голову Пьеру пришел очень странный критерий отбора друзей: комфортная тишина. Именно такой тишина была сейчас, когда он стоял рядом с тяжело дышащей Офелий в пустом коридоре – комфортной, спокойной и понимающей.
– Прости, что сбила с ног.
Пьер засмеялся, запрокинув голову. Офелия тоже засмеялась, глядя на тонкие черты его лица. Тогда еще первокурсник, Пьер не носил свободно падающих на плечи кудрей. Свои черные волосы он гладко зачесывал назад, заправляя выпадающие короткие пряди за уши, словно стесняясь идеально гладких, почти искусственно созданных локонов.
– Не хочешь пройтись? Мне сказали, у дальнего конца озера стоит оранжерея.
– Знаешь, а с удовольствием. Только занесем мое барахло… – вздохнув, Офелия помахала пуантами в воздухе.
Вверх по лестнице – тишина. Словно все студенты отправились по комнатам – готовиться к предстоящей учебной неделе. Богатый ковер тихо шуршал под каблуками туфель. Пьер задумался о том, сколько таких юных актрис и амбициозных писателей этот ковер повидал за свой век, сколько впитал мокрых луж и озерной грязи, которую студенты приносили на своей обуви?
Это был поистине волшебный ковер – и оттого вся академия становилась еще более волшебной.
Главная лестница, укрытая им, словно вела прямиком в прошлое: каждая ступенька – один прожитый год, один семестр, один выпустившийся из академии студент. Одна ступенька – 1890 год, выпуск известной балетной труппы, гастролирующей по всей Европе, вторая – лауреат Пулитцеровской премии 1932 года, третья – группа дизайнеров, дебютировавшая на неделе парижской моды. Все эти люди – костная система академии, её гибкие жилы, теплая кровь и её сердце. За каждой ступенью, каждой пылинкой и каждым пустым стулом в библиотеке кроется история целой человеческой жизни.
Академия выпускала исключительно одаренных студентов: на кого бы ты не посмотрел в кафетерии – будь то писатель в роговых очках или художник с пятнами угля на лице, – можешь быть уверен, что прямо перед тобой расцветает юный талант, гений, чье имя через пару лет будет знать весь мир. В этом было особое очарование и особый мистицизм – не замешаны ли в таком чрезвычайном успехе древний культ поклонения дьяволу, сама академия, построенная на месте старого кладбища, или особое кольцо из гор и леса? Поднимаясь все выше, Пьер считал человеческие жизни и никак не мог отделаться от мысли, что он не сможет.
Что, если он станет первым в мире студентом «Лахесиса», который не добьется ничего? Станет ли тогда академия, как горюющая мать, плакать по нерадивому чаду? Эти мысли разъедали его мозг, подобно прожорливым червям, в тот короткий миг, когда они с Офелией поднимались по главной лестнице. Ступив на первую доску второго этажа, Пьер пошатнулся и обернулся через плечо, ожидая увидеть длинную вереницу бесконечных ступеней, начало которых теряется в тумане. Но перед его глазами была обычная лестница темного дуба с резными перилами, антикварным ковром и 55 ступенями – это число всплыло в голове Пьера, и он понял, что все это время считал их в уме.
– Есть все-таки в ней какое-то мистическое очарование… – он остался стоять у края, поглаживая ладонью шершавую поверхность перил. Круглое витражное окно за его спиной едва заметно светилось болезненно-зеленым и вишнево-красным, бросая мутные блики на пол.
– В ком? – Офелия удивленно посмотрела на него, но, кажется, странным ей этот вопрос не показался, потому что и она стояла в некоем трансе, завороженно разглядывая узор ковра.
– В Главной лестнице. За все утро я бывал на ней три раза, но каждый раз, спускаясь или поднимаясь, чувствовал на своей коже дуновение времени… И дыхание смерти.
– Романтизма тебе не занимать, Пьер с писательского факультета, – Офелия стояла бледная, её кожа светилась в темноте второго этажа, а вокруг фигуры прыгали разноцветные блики.
– Но ты прав, есть в этом что-то инфернальное. Я чувствую… Чувствую, что-то должно произойти. Что-то важное и значимое, – она помолчала, – и что наша встреча была уготована судьбой.
Где-то наверху тихонько звякнули колокольчики, или разбился о мраморный пол стакан, или это запел ангел. Очарование медленно, словно дымка, растворялось в воздухе, очищая кровь от зловонного яда прошлого.
– Надеюсь, судьба приготовила нам только хорошее.
Остаток пути они прошли, смеясь и вспоминая наваждение, охватившее их на лестнице. Когда Офелия наконец сбросила вещи на кровать, они кубарем скатились с лестницы, не пересчитывая все эти 55 ступеней, и выбежали на улицу через дверь, ведущую во внутренний двор. Потеряв голову от опьяняющего аромата свободы, прохладной воды и цветов, они побежали к дальнему концу озера, оскальзываясь на мокрой после дождя траве и размахивая руками в воздухе. Там, у кромки леса, белели остатки стен огромного здания, похожего на длинную беседку с разбитыми стеклянными окнами до самой земли, поросшие густым плющом, колючими розами и сорняками. Тогда они впервые увидели ту самую оранжерею.
Тогда они были так молоды и полны энергии, как уже не будут никогда. Тогда они не знали о том, какую судьбу им уготовила Академия.
Пьер и Офелия очнулись от воспоминаний. Казалось, они стояли посреди холла целую вечность, просматривая проносившийся перед глазами калейдоскоп образов, но на самом деле одна единственная фраза лишь оживила в памяти то, что им не было нужды вспоминать. Они замерли всего на пару секунд, охваченные общим воспоминанием, а в их сознании пронесся весь сентябрьский день первого курса – день, предназначенный судьбой.
– Ты тогда ненавидела балет, – грустно улыбнулся Пьер.
– А ты – фехтование, – подхватила его под руку Офелия.
– Туше.
– Фенита ля комедия.
– Мне нужно забрать почту, но я даже боюсь соваться туда…
Офелия смотрела туда же, куда и Пьер: они проходили кафетерий, наполненный уставшими танцорами и другими студентами, столпившимися у ящиков с почтой.
– Насчет этого не переживай. Я забрала твою почту еще утром.
Офелия на ходу раскрыла большую стеганую сумку, запустив руку в её невообразимые глубины. Немного покопавшись там, она выудила на свет нежно-розовый конверт, перевязанный голубой лентой, и с тихим «не то…» быстро спрятала его обратно.
– Вот, возьми. Я подумала, тебе не захочется потом толкаться локтями в толпе.
– Конечно, ведь это ты у нас в этом мастер, – рассмеялся Пьер, благодарно сжимая руку Офелии.
– Язва…
– Прости, не расслышал, ты что-то сказала? – театрально приложив ладонь к уху, Пьер поднял брови и склонился к девушке.
– Говорю, язва ты! – прошептала прямо в ухо другу Офелия и щелкнула его по носу.
– Пойдем корреспонденцию свою читать, а то я здесь сейчас оглохну.
– Сначала нам все же придется зайти туда, – Пьер издал слабый стон, но Офелия продолжила металлическим голосом. – Я смертельно хочу блинов с медом.
Когда они вошли, кафетерий уже начал понемногу пустеть: студенты разбредались по аудиториям, рассовав по карманам булочки и печенье, а время на часах перевалило за десять.
– Теперь тут даже дышится свободнее, – Офелия села за свой любимый стол в эркере. Это был единственный столик в кафетерии, который находился в углублении в стене, возле большого панорамного окна.
– В девять тут не было ни души.
– Ну конечно, все нормальные люди уже давно гнули спины на тренировках. Мы же не писатели – не можем позволить себе роскошный променад по коридорам академии поздним утром.
– Это было раннее утро, – пытался защититься Пьер.
– Когда встанешь в пять и наденешь пуанты – тогда твое слово будет иметь вес, – отрезала Офелия, хлопнув рукой по столу.
– Сдаюсь, сдаюсь, – капитулировал Пьер. – Пойду за блинами для Её Величества. Офелия довольно улыбнулась и посмотрела в окно – её утро начиналось идеально.
Едва почувствовав запах меда, девушка блаженно закрыла глаза и погрузилась в тепло мурашек.
Когда она еще училась в школе, её семья разводила пчел. Каждые выходные, поднимаясь с солнцем, Офелия получала блюдце сладкого прозрачного меда, сияющего на солнце, как
драгоценный камень, и тарелку ароматных блинов, которые обжигали пальцы и дарили пару минут блаженного пребывания в мире грез.
Мед в академию привозили откуда-то с горных районов – кажется, с Алтая, – но все равно его вкус не мог сравниться с медом, который производили пчелы с их пасеки на их вилле «Санта- Бернадетта» во Флоренции.
– Я в раю…
Отрезав небольшой кусочек блина, Офелия полила его жидким медом из соусницы – мед был тягучим, как карамель, – и слизнула кончиком языка сперва каплю, а затем положила в рот весь импровизированный блинный торт, прикрыв глаза, как довольная кошка, пригревшаяся всолнечных лучах.
Пьер стал неподвижнее горгульи на башне Нотр-Дама, когда ему в руки попал серый конверт, на котором значилось его имя. Бумага была до того хрупкой и потрепанной, что могла бы рассыпаться прямо в руках, соверши он хоть одно неловкое движение. С величайшей осторожностью Пьер вскрыл конверт, достав свернутое во множество раз письмо и небольшой сверток, перевязанный бечевкой. Письмо было написано на такой же ветхой, почти прозрачной бумаге. Из-за этого чернила расплывались, окутывая буквы пушистым ореолом.
Пьер узнал эту ветхую бумагу, дешевые чернила и небрежный почерк: отец никогда не тратил деньги понапрасну. У них дома даже не было телефона, так как отец считал его дьявольским изобретением нового века, которое порабощает людские души. Однако и к письмам на бумаге он относился не лучше. От листка пахло табаком, холодным презрением и равнодушием. Меньше всего на свете Пьер хотел знать, что написано в письме – если отец и снисходил до общения с сыном, то это было уж точно неотложное дело. Конечно, ожидать обыкновенных для взволнованного родителя вопросов по поводу учебы, самочувствия и успехов было просто глупо. В их семье какие-либо чувства проявляла лишь Агата – бабушка Пьера, которая умерла пять лет назад, оставленная всеми своими родными. Пьер никогда не простит отца за то, что он не отпустил его той осенью к Агате. Для него важнее была посещаемость Пьера, который тогда еще ходил в школу, чем последний вздох человека, который заменил его сыну и отца, и мать.
Пьер боялся даже думать, как Агата умирала. Сердилась ли на него, что он не приехал? Ему хотелось бы думать, что бабушка знала о том, как ему хочется быть с ней в её последние минуты, держать её за руку и утешать, знала, что он не приехал только из-за запрета отца, но он не мог,
потому что в его сознании, воспитанном на готических романах, отцовских трактатах по анатомии и колонках некрологов, рисовалась слишком правдоподобная и реалистичная картина последних минут бабушки. В них не было места покою и смирению: её душой владели боль, страх, гнетущее одиночество и беспомощность перед ангелом Смерти, распростершим над ней свои крылья. Пьер винил отца, но не мог не винить и себя, потому что должен был сопротивляться, должен был сделать хоть что-нибудь, чтобы выйти из-под гнета домашнего тирана. Но страх, одолевающий его в те годы при едином взгляде на Теодора Лихтенштейна, был сильнее любви к Агате и сильнее самого Пьера. А теперь уже ничего не изменишь.