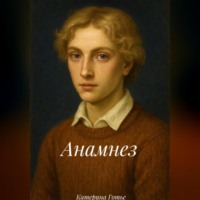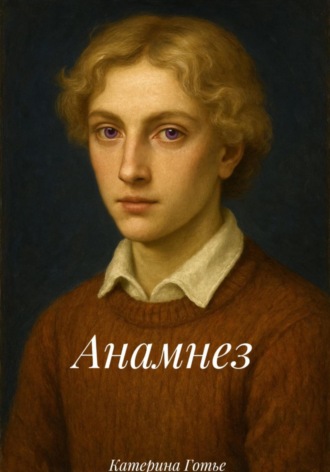
Полная версия
Анамнез
Но даже если весь преподавательский состав во главе с директором заявился бы к нему в кабинет, вряд ли они смогли бы хоть на минуту поколебать уверенность Фрончака в себе и своих методах. У него было всего три кумира: Роберт Ресслер, психология и крепкий черный кофе. Других авторитетов он не воспринимал, отчего часто казался эгоцентричным. Но если бы профессору пришло письмо от Роберта Ресслера, он бы обязательно повесил его в рамочку, а снятые отпечатки пальцев набил на своем запястье.
Вскоре после последней жалобы Эдвард Фрончак пришел на занятие с черепом. Сказав, что «Йорик» теперь будет постоянным украшением его стола, он включил презентацию, щелкнув пультом дистанционного управления. Пока он пролистывал кадры впечатляющего своей жестокостью места преступления, череп стоял на столе между ноутбуком и кофейной чашкой, молча вперив свои бездонные глазницы в сидящих на первом ряду студентов. Как только профессор зачитал материал дела об убийстве «Йорика Рашфора», чьи обезображенное тело и голова с вывалившимся наружу черным языком сейчас многозначительно красовались на белом экране за его спиной, один студент упал в обморок, сломав нос о столешницу. Его увели, залитую кровью столешницу оттерли, но профессор так и не открыл тайну происхождения черепа.
Наиболее вероятно, что истлевший скелет Рошфора в могиле правда остался без головы. Показательная, но не самая впечатляющая ситуация. Однако череп все еще стоит на столе профессора, став местной знаменитостью и притчей во языцех.
Одна студентка оставила на «щеке» Йорика выразительный красный поцелуй – должно быть, на спор, – а потом внезапно заболела, и родители увезли её лечиться в большой город. Кажется, череп правда был не из магазина художественных принадлежностей. Или она просто отравилась тяжелыми металлами, что тоже вполне вероятно. Тем не менее, аура загадочности вокруг Эдварда Фрончака лишь сгустилась.
Виктору сейчас оставалось только радоваться, что все это он узнал со слов Лори, а не испытал на собственном опыте. Изучение кусков человеческой кожи под микроскопом вовсе не казалось ему привлекательным, как бы интересно профессор не преподносил это занятие. Пара по психологии представлялась более спокойной и относительно приятной, за исключением раздела по психопатии. Из-за отмены утреннего занятия Виктор так и не встретился со своей группой, так что сейчас в толпе студентов он не видел ни одного знакомого лица, за которое можно было бы зацепиться взглядом. Всё прибывавшие студенты словно обступали его тесным кругом, постепенно прижимаясь ближе, теснее, заглядывая прямо в глаза с осуждающим молчанием. Почувствовав, как к горлу подступает ком, Виктор быстро направился между плотно стоящих столов к окну.
Острым коленкам, болтающимся в воздухе носкам туфель и лежащим на полу сумкам не было конца и края. Тесные проходы между столов действовали на него так же, как внезапная остановка лифта на человека с клаустрофобией – он был в ужасе, и его душило резкое осознание собственной беспомощности. Здесь он был как обезьяна на цирковой арене, вынужденная выступать на глазах у сотен зрителей из страха получить хлыстом по спине.
Схватившись дрожащей рукой за стул, стоящий прямо около окна, Виктор закрыл глаза и попытался сменить страх на физическое напряжение, изо всех сил обхватив пальцами перекладину. Он сосредоточился на своих ощущениях: прохладная гладкая поверхность стула – очевидно, он покрыт лаком, – шум дождя из приоткрытого окна, запах земли и мокрой травы, перемежающийся с резким ароматом кофе, витающим в воздухе, и, наконец, холод.
Холод проник через кончики пальцев, постепенно пробираясь все выше, попадая в кровь, а затем вместе с ней расползся по всему организму волнами дрожи. Скоро он доберется до сердца, и тогда Виктор вздрогнет, словно от погружения с головой в ледяную воду. Резкий холод всегда вызывает шок – как пощечина во время приступа истерики, – организм переключает свое внимание со страха на анализ ситуации и пытается направить все силы на то, чтобы согреть тело. Это как с болью: мы чувствуем лишь ту боль, которая сильнее, потому так часто люди бьют руками о стену, ломают пальцы или щипают себя за кожу – им хочется заглушить другую боль, которая просто невыносима.
Ряд у окна был значительно свободнее. Между стеной и столом был проход, по которому в любой момент можно было выйти, не поймав на себе сотню осуждающих взглядов и не ощутив толчки острых коленок, через которые неизбежно пришлось бы пробираться, шатаясь от головокружения. Здесь почти никто не сидел – все жались в основном к середине аудитории, где было значительно теплее, чем на верхних рядах рядом с окнами, из которых дул ветер. Опустившись наконец на стул, Виктор судорожно сглотнул. В такие моменты ему было трудно взаимодействовать со своим физическим телом – все свои силы он направлял на то, чтобы сидеть ровно и делать глубокие вдохи и выдохи.
Остальные в аудитории весело болтали, пили что-то из бумажных стаканов, кто-то даже умудрился принести булочку – которая пахла на всю аудиторию – и теперь с аппетитом завтракал.
Беспомощность. Собственное тело предает его, а мозг будто злобно насмехается, все время пульсируя сигналом тревоги. Взглянув на бутылку с водой, Виктор почувствовал страшную жажду, но не смог даже поднять руки, чтобы открыть крышку. Он знал, что не сможет сделать ни глотка – подавится водой или воздухом. Почему они так спокойно пьют и едят, почему их тела не придают их разум? Виктор повернул голову к окну и сосредоточил все свое внимание на дереве, похожем на корявый вопросительный знак. Когда на него накатывал страх, он старался найти вещь, которая заставляла размышлять над ней, над её формой, цветом и причиной, по которой она обладает всеми этими характеристиками.
Мысли Виктора уплыли в лес, прямо к этому кривому дереву, которое качалось из стороны в сторону, как гигантский маятник, и шептало что-то, шелестя мокрыми листьями. В этом шелесте слышался мягкий, ангельски нежный голос, который заставлял тело вздрагивать от рождавшегося внутри тепла. Виктор попытался вслушаться, чтобы разобрать слова, раз за разом доносящиеся до его ушей, но они ускользали от понимания, оставляя тревожное ощущение. У шелеста был определенный ритм, который повторялся рефреном и приближался, звуча громче и громче. Скоро в этой ужасно-стройной композиции, похожей на мелодию, перевернутую и запущенную задом наперед, появились слова. Адское дерево напевало: «Ты должен стать лучше. Должен стараться больше. Иначе станешь как твоя мать!»
Мыльный пузырь лопнул, жуткое пение потонуло в разговорах и веселом смехе. Дерево снова тихо качалось на ветру, словно только что не напевало слова, значение которых оставалось для Виктора загадкой. Он не знал своей матери, как и любой женщины, которая могла бы заменить ему её.
Виктор рос вместе с отцом: отец учил его читать, писать, водил в музеи и театры. Наверное, он делал все это. Ведь кто-то из его воспоминаний должен был это делать. Чьи руки, кроме рук отца, могли сниться ему по ночам, когда он шел по коридору огромного, сияющего белизной музея.
Повсюду висели картины, закованные в сверкающие позолотой рамы, ходили нарядные дамы, ведя за собой белокурых детей – таких же, как и он, смотрящих на все великолепие широко раскрытыми глазами. Они останавливались возле картин и подолгу стояли, рассматривая каждую деталь. Виктор всегда чувствовал только холодные руки на своих плечах и чье-то присутствие за спиной, но сейчас вдруг услышал голос. И голос этот только что доносился со стороны леса. Это он сопровождал его во всех снах: мягкий, бархатный женский голос, рассказывающий о картинах в музее и строго наказывающий хорошо себя вести. В конце концов все сводилось к этому бестелесному голосу, который мог быть просто плодом фантазии. Однако ничто не появляется из ниоткуда: все, что мы когда-либо придумываем, складывается из виденного нами ранее. Мы не всегда можем контролировать этот процесс, и тогда мозг решает играть во всемогущего бога, способного из ребра и песка создать новую жизнь.
Жизнь голосу дал именно он, потому что ему хотелось что-то расслышать и что-то увидеть. Лишь мечты и сожаления об утраченной матери формировали его фантазии. Не было никакой женщины, не было похода в музей – был отец, всегда только он, и их счастливая жизнь в большом доме на углу главной улицы.
Из регрессии в собственное прошлое Виктора вырвал приветственный оклик. Обернувшись, он заметил Флоризеля, пробирающегося к нему сквозь толпу. Стоило ему только подойти к столу, как коленки втягивались, носки туфель прятались под сиденья, а сумки убирались с пути. Он, словно Иисус, приказавший морю разойтись, без труда справился с огромной толпой, которая сама расступилась перед ним. Но Лори это вовсе не удивило – для него это не было чем-то необычным. Стоило ему пройти, толпа тотчас сомкнулась обратно, как воды бушующего моря, и все взгляды обратились на них – студенты зашумели еще громче. Голоса их напоминали Виктору крикливых чаек у причала.
Один парень с серыми, почти седыми волосами, стоящими торчком, как у сумасшедшего ученого, схватил Лори за руку и потянул в сторону столов, за которыми сидели несколько студентов довольно высокомерного вида. Это маленькое общество восседало в самой середине аудитории, чуть поодаль от остальных, и отличалось особым ароматом богатства и блеском золота на пальцах, в ушах и на шеях. Сидевшие там студенты встрепенулись, призывая Лори присоединиться к ним. Он явно принадлежал к этой элитной группе, причем по взглядам, которыми остальные её члены сопровождали его, среди них он был кем-то вроде главаря. Что уж говорить о простых студентах, если даже богемные интеллектуалы, облаченные в черный шелк и блистающие платиновым блондом, принимали его за Бога?
Виктор снова отвернулся к окну. Ему не нужно было внимание, чтобы почувствовать себя достойным человеком, но остро не хватало друга, который бы напомнил о том, как хороша жизнь, когда сражаешься не в одиночку. Но чего он ожидал – торта со свечами? Радостных объятий?
Внимания? Кажется, пора запомнить, что иногда люди милы лишь потому, что их хорошенько попросили, а не потому, что имеют искренние намерения с вами подружиться.
– Как прекрасно дышать свежим воздухом! От этих сладко-удушливых духов Вивьен я каждый раз почти теряю сознание. Нет, ну правда, как можно выливать на себя целую банку духов и при этом выступать за ответственное потребление?
Виктор удивленно обернулся и встретился взглядом с Лори, улыбавшимся ему с места по соседству. Его руки покоились на толстых книгах со множеством закладок, которые он принес с собой и секундой ранее небрежно кинул на стол. Улыбался он вполне искренне – без доли иронии и насмешки, – и Виктор почувствовал вину за то, как минуту назад обвинял его в фальши.
Этим утром Лори был бледнее обычного, но на его щеках цвел лихорадочный румянец. Лицо нового знакомого напоминало Виктору сказочных дев, чья кожа была белее снега, а румянец – алее самой прекрасной розы.
– Ты не должен сидеть со мной. Если, конечно, профессор Кобальд снова не сделала тебя моей сиделкой. Твои друзья, кажется, ждут тебя, – Виктор улыбнулся, рассеянно разглядывая синие линии в тетради – они изгибались, будто звуковые волны, а иногда и вовсе скакали вверх-вниз, как результаты кардиограммы.
– Умоляю тебя, Виктор, они могут годами ждать выхода лимитированной коллекции парижских туфель – сейчас им точно не составит особого труда подождать. Они даже и не заметят моего отсутствия, – отмахнулся Лори. – Я птица вольная, мне не по душе жить по правилам их «тайного общества». Ты даже окажешь мне услугу, если притворишься моим другом, – сказал он совершенно серьезно. Сегодня Лори оставил волосы распущенными, и они огненными змеями спускались по плечам, ложась на стол мягкими завитками. Его волосы были похожи на жидкое золото, из которого алхимики сотворили нежнейшую шелковую ткань.
– Так ты позволишь мне сесть здесь?
– Ты не должен о таком спрашивать. Любое место здесь – твое. Я уверен, все были бы рады, если бы ты сел рядом с ними.
– А ты? Ты будешь рад? Я люблю честность, так что, если тебя что-то не устраивает, – он всплеснул руками, рисуя в воздухе дугу, – ты не должен спорить со своими ощущениями.
– О, я буду очень счастлив. Правда, – засмеялся Виктор, подняв глаза к потолку.
Огромный сводчатый потолок бесконечно уходил вверх, теряясь в густом сумраке. Лори тоже запрокинул голову и слабо улыбнулся своим мыслям.
– Знаешь, сперва я посчитал тебя шутом, – задумчиво сказал Виктор, позволяя своим глазам следовать от одной изящной арки к другой, – но потом понял, что ты человек, который никак не поддается объяснению. К сожалению – или к счастью, – я не могу понять тебя, но отчего-то мне кажется, что именно тебе я должен довериться. Ты постоянно меняешься – как флюгер, поворачивающийся вслед за ветром, – но я страстно хочу тебе верить, пусть иногда ты и вселяешь в меня ужас.
– Думаю, все-таки к счастью, – Лори зябко обнял себя за плечи. – Мир вообще непостижим, Виктор, но не всегда в темноте за углом скрываются чудовища.
– Да, иногда там может оказаться маленькая девочка, которая подарит тебе воздушный шарик.
– А почему нет? Мы ничего не можем знать наверняка, как бы этого не хотели. Иногда просто невежливо совать нос в чужие дела. Я вот, например, хочу знать, почему у тебя такие светлые волосы, но считаю, что о таком спрашивать нетактично, – его хитрые лисьи глаза улыбались, прячась под невинно вздернутыми рыжими бровями.
– Ты же только что спросил, – ответил Виктор.
– Ой, правда? Совсем заболтался.
Лори вытащил из стопки книг свернутую в три раза газету и резко хлопнул ею по столу Виктора. Виктор взял газету в руки, чувствуя кончиками пальцев шероховатую поверхность. Газета была совсем свежая – буквы смазывались, оставляя на пальцах черные кляксы, а бумага пахла чернилами.
– Где ты её взял? Сюда же их не привозят.
Раскрыв газету на середине, он сразу же наткнулся на колонку знакомств. Виктор тут же с отвращением перевернул страницу. Почувствовав на себе внимательный взгляд, он вынырнул из- за газеты и вопросительно взглянул на друга.
Лори молчал, глаза его перебегали от лица Виктора к чему-то, изображенному на первой странице. Единственное, что выдавало его сосредоточенность – морщинки в уголках глаз, которые появлялись, когда Лори щурился или улыбался. В остальном его лицо всегда оставалось бесстрастным и гладким, словно поверхность мрамора, и часто своей неподвижностью пугало окружающих.
Виктор медленно закрыл газету и посмотрел на первую страницу. Увидев, что на ней изображено, он рассмеялся и взглянул на Лори, который к тому моменту бездумно глядел в потолок, откинувшись на стуле.
– Тебя что-то испугало в этой женщине? – он указал на портрет, помещенный на первой странице. – Не такая уж она и страшная. Что ты хочешь от меня? Ты принес это с какой-то целью?
Виктор отложил газету и сложил руки на груди. Светская хроника мало интересовала его, а в этой желтой прессе были сплошь объявления о знакомстве и вульгарные статьи, целью которых было оболгать известных личностей.
– «Подвижки в деле об убийстве Фелисити Лафайет: полиция сообщает об учреждении экспериментального отдела, которое вновь возьмется расследовать преступление одиннадцатилетней давности!» – прочел Виктор.
Многозначительно закатив глаза, он открыл следующую страницу и продолжил:
– "Фелисити Лафайет – известная искусствовед и бизнес леди, написавшая несколько книг, каждая из которых стала сенсацией. Но что стоит за её успехом? Деньги? Статус, которым она обладала с рождения? Или черная магия? Могла ли мать принести в жертву Сатане собственную дочь Кармиллу, которая вот уже второе десятилетие считается пропавшей? Убийство, совершенное неизвестным в сентябрьскую ночь одиннадцать лет назад, так и осталось нераскрытым. Что это: возмездие темных сил, к которым женщина взывала при жизни, нападение фаната или более темная тайна, чьи корни переплелись с корнями семейного древа?
Совсем скоро – 12 сентября – минет ровно 12 лет с начала расследования шокирующего убийства, которое и по сей день тревожит публику. Маловероятно, что мы когда-нибудь узнаем правду о том, что случилось в ту ночь, но недавно полиция выступила с заявлением о том, что под руководством детектива Бартоломью Сфорца, более известного по делу «Бродмурских святых» (см. прошлые выпуски), будет создан экспериментальный отдел по расследованию преступлений, совершенных детьми и молодежью с психическими отклонениями.
Полиция никак не прокомментировала связь убийства Фелисити Лафайет и учреждение отдела, который должен заниматься преступлениями, совершенными психически нестабильными людьми, так что нам остается лишь предполагать, что детективы решили обратить внимание на единственного выжившего – Августа Лафайета, внука убитой, который пропал при загадочных обстоятельствах три года назад. Наша газета будет внимательно следить за развитием событий и оповещать читателей обо всех подвижках в деле Фелисити Лафайет, которое извлекли на свет из полицейского архива спустя столько лет…»
Виктор скривил губы и отбросил газету прочь, словно это была дохлая мышь, внутри которой извивались паразиты.
– Как это мерзко, – он еще раз взглянул на лежащую на столе газету – та спланировала на стол и открылась на первой странице.
Портрет был выбран не совсем удачно – это явно была фотография, сделанная для журнала, но женщина на ней выглядела больной и осунувшейся, несмотря на ослепляющую улыбку. Снимок был черно-белый, но Виктор мог представить, какого цвета блузка на Фелисити Лафайет и вязаный свитер на маленьком мальчике, которого она держала на своих коленях. Он просто знал, что салатового оттенка блуза холодит кожу, а молочный свитер душит, оставляя на груди и руках покраснения.
– И низко – учитывая то, что они поливаю грязью покойницу.
– О мертвых либо хорошо, либо ничего, – задумчиво сказал Виктор, не в силах оторвать взгляда от фотографии.
– Либо ничего, кроме правды, – загадочно улыбнулся Лори, постукивая указательным пальцем по верхней губе.
Мальчику на фотографии должно было быть лет десять – насколько Виктор был осведомлен о семействе Лафайетов, а знал он крайне мало, – но выглядел он намного младше своего возраста. На его худом лице выделялись только большие глаза, казавшиеся из-за несоразмерности чертам лица глупыми, почти полоумными. Мальчик сжимал что-то в кулачке и смотрел туда же, куда и его бабушка – прямо в камеру, однако взгляд его блуждал, глядя в объектив и одновременно мимо него. Белый шерстяной свитер был ему велик: из-под рукавов торчали тонкие, как хворостинки, запястья, а над горловиной белела лебединая шея.
Мальчик не был напуган – он равнодушно исполнял приказы фотографа: «Смотрите сюда!», «Чуть запрокиньте голову!», «Улыбайтесь более естественно!». Однако в его глазах не было искры жизни.
– У них очень интересная внешность, – сказал вдруг Лори, поворачиваясь к Виктору. – Август очень похож на бабушку: те же глаза, линия челюсти, высокие скулы, белые волосы. Наверное, это их фамильные черты – мало кто сейчас просто так рождается таким… Бледным, я бы сказал – прямо как поганка.
Он замолчал, покусывая губу.
– Но фотография же не цветная, откуда тебе знать цвет их волос? Лори засмеялся, хлопнув в ладоши.
– Так это же все знают. Разве ты не видел раньше фотографий Фелисити? Или ты не ходишь по книжным магазинам?
– Её я видел, но этого мальчика нет, – сцепил Виктор пальцы в замок, отправляя взгляд блуждать по аудитории. – Как я уже говорил, меня мало интересует светская хроника. Зачем мы вообще говорим об этом?
– Как такое может быть, что ты не прочел ни единой книги Фелисити Лафайет, обучаясь при этом живописи и истории искусств? Они же, если не ошибаюсь, входят в список обязательной литературы.
– Рекомендуемой, а не обязательной, – поправил Виктор. – Да и зачем мне их читать, если я и так все это знаю?
– А откуда? – вскинулся Лори. – Тебя так часто в детстве водили по музеям?
– Не обязательно ходить в музеи, чтобы все знать…
Виктор уже думал об этом утром, вспоминая странный сон, который ему довелось увидеть ночью. В нем он видел все глазами ребенка – высокие потолки музея были так далеко, что казалось, будто они упираются в небо, а лица людей с темных портретов смотрели под странными искаженными углами, взирая на Виктора многовековыми глазами. В этом сне его ладонь обвилась вокруг женской руки, которая тянула его из зала в зал, не давая остановиться ни у одной интересующей его картины. Они плавно перетекали из помещения в помещение, пока не очутились среди картин, изображавших ужасающие сцены, больше похожие на сны грешника, виденные им в Аду наяву.
«Теперь это твой дом, – решительно сказал женский голос. – Ты не выйдешь из этого зала до тех пор, пока не запомнишь и не перескажешь мне все, что написано на информационных табличках под картинами. Запомни, мальчик, никогда даже не пытайся прикасаться к полотнам – они стоят намного дороже, чем вся твоя жизнь…»
Он решил, что это всего лишь химера, ночной кошмар, какие целыми легионами посещают людей по всему миру в ночное время. Стоит только закрыть глаза – и вот уже хтонический ужас тянет к тебе свои туманные лапы, намереваясь заполучить твою душу в свои объятия. Но почему тогда этот сон ощущался как реальность – реальность, которую, быть может, Виктор и не проживал, но ощущал утерянной частью своей жизни?
Однако этой женщины никогда не было в его жизни – Виктор был в этом точно уверен, – как не было в ней и музеев, и выставок, и иных культурных развлечений. Но что он вообще помнил о своем детстве? Этот вопрос упал в бездонную черноту памяти, постепенно угасая в сознании, как слабый огонек.
Не может же человек помнить из своего детства единственный отрывок, да еще и тот, который является ложным. Виктор никогда не задумывался об этом: просто знал, что у него было счастливое детство, знал, чем они занимались с отцом в свободное время, а потому никогда не пытался вспомнить все это. На самом деле, стоило Виктору заглянуть в раздел библиотеки – все свои воспоминания он разделял, расставлял по разным полкам и составлял мысленный каталог, как умелый библиотекарь, – обозначенный указателем «Детство», как он всегда оставался перед пустым стеллажом, на полках которого лежала лишь серая пыль. Там не было ни единой тонкой брошюры, в которой хранилось бы хоть одно воспоминание о том, как они с отцом играли в шахматы на зеленой лужайке или сидели в музее на скамейке, любуясь выставкой. Так откуда он мог знать, что это было? Откуда такая уверенность в реальности собственного прошлого?
Черная дыра на полках «Детства» испугала его, и Виктор выбежал из мысленной библиотеки, заперев отдел на ключ. Он просто продолжит думать, что все это было: отец, сказки перед сном, занятия плаваньем и офицеры со значками – друзья отца по работе, – ведь иначе быть просто не может.
– Так что? – повторил вопрос Лори. – И часто ты бывал в музеях?
– Не думаю, – медленно ответил Виктор. – Мой отец был полицейским, он тренировал меня, учил играть в шахматы и стрелять из пистолета. Не помню, чтобы мы хоть раз выходили даже в кино. Он не очень любил такого рода развлечения.
Лори понимающе кивал, поглаживая атласной перчаткой подбородок. Сегодня перчатки были черными и блестящими, отчего руки его сливались с сюртуком и казались неестественно длинными – как будто щупальца теней.
– И откуда же ты тогда все знаешь? – продолжал допытываться он.
– Наверное, читал много книг. Да, у нас дома была большая библиотека.
– Что же, это объясняет многое, но не все. Маловероятно, чтобы ребенок с такой завидной усидчивостью сам изучил в детстве толстенные и скучные книги по искусству, вызубрил биографии художников и все их картины, с помощью которых ему теперь общаться легче, чем с помощью слов. Разве что ему кто-то помог.
– Исключено, – зло бросил Виктор, – я был чрезвычайно замкнутым ребенком, друзей у меня было мало. Даже повзрослев я мало куда ходил.
За какую-то долю секунды он загорелся, словно подожженный фитиль, и все его существо воспылало ненавистью к Лори. Кто он такой, чтобы спрашивать об этом? Зачем ему все это знать? Он хочет посмеяться или ему просто любопытно? Почему только рядом с Лори он понимал, насколько ничтожны все его представления о себе, которые он раньше почитал за непреложную истину? Зачем этот человек копошится в его мозгу, как мерзкий червяк в мертвой плоти, пытаясь найти…Что?
– Прости, —Лори поднял руки вверх, защищаясь от гнева Виктора, – мне просто любопытно. Я привык, что если я рассказываю много о себе, то потом могу ждать этого же и от друга. Quid pro quo, если языком юристов.
Он прижал руку к сердцу, склоняя голову в знак поражения. Однако покорность в случае Лори не означала конец – она означала лишь то, что он станет аккуратнее, хитрее и тише, будто змея, притаившаяся в джунглях.