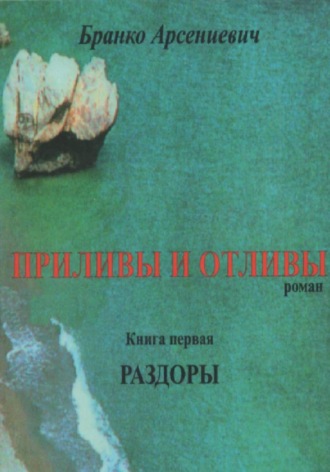
Полная версия
Приливы и отливы. Книга первая. Раздоры
– Видимо, да!
– Но это значит, что и пролетарии тоже потенциальные капиталисты, по крайней мере, по своим стремлениям.
– Конечно. В буржуазном обществе существует буржуазная мораль. Но пролетарская революция упраздняет эксплуатацию, а с ней и стремление одних разбогатеть за счёт других. Впрочем, не надо распыляться на мелочи. Научись на всё смотреть глобально. Мы солдаты революционной армии. Мы не должны колебаться. Если будем слишком много рассуждать о том, что и среди буржуазии есть хорошие люди, которые не виноваты в том, что они богаты, и которые, даже если бы и хотели, не могут своё богатство разделить на всех, а если бы и разделили – это бы ничего не изменило, если не научимся думать глобально, мы проиграем битву. В революцию надо входить с чёткими понятиями. Всё должно быть разделено на чёрные и красные цвета и разложено по соответствующим полкам нашей классовой совести. Наш революционный разум должен быть так организован, чтобы в любом критическом положении быстро определять цель.
Дисциплинарная тюрьма в Прлевице размещалась в цокольном этаже небольшого каменного здания рядом с уездным управлением. Окна с решётками смотрели на улицу и во двор. В камеры вход был из коридора, где находился охранник, который менялся каждые четыре часа. А вот с наружной стороны тюрьмы не было охраны, и весь день люди с улицы могли заглядывать в окна и разговаривать с заключёнными.
Здравко оказался в тюрьме сразу же после драки на стадионе. В послеобеденные часы во дворе тюрьмы собрались гимназисты. Размахивая транспарантами, они выкрикивали лозунги: «Долой фашизм! Выпустите наших товарищей!» Прибывая из окрестных сёл, в это поначалу маленькое взволнованное озеро вливались пёстрые группы сельских забияк: парней и девушек. Сквозь решётки начали влетать записки с приветствиями. И на каждой из них упоминалось имя «Здравко».
А сколько прекрасных девичьих взглядов было направлено на него в этот незабываемый день! И сколько в этих глазах было любви и готовности разделить с ним все страдания! Сколько зависти было в глазах ровесников гимназистов, которые до этого считали его посредственностью, маменькиным сыночком, не пригодным ни к чему, кроме как посещать гимназию. Да и то не самостоятельно, и поэтому его от дома до школы и обратно за руку водили то родители, то сестра.
Таинственный шёпот, который доносился сквозь окна: «Вон он, арестованный Здравко Дедов», опьянял его, возвышал в собственных глазах, как аплодисменты преуспевшего актёра в театре. Это был тот самый момент, когда упала та последняя, судьбоносная капля, которая подтолкнула запруженную воду прорвать плотину, а его понесла из баневичкой затхлости в стремительную реку гражданской войны.
XIX
Известие о драке на стадионе и аресте гимназистов докатилось и до Баневицы, сдобренное фантазиями участников драки, и в доме Поповичей возникла настоящая паника. Всю ночь не спали: Мария и Тана плакали, а Миладин и Деда обдумывали способ избавления от неожиданно возникшего семейного несчастья. Ещё до рассвета Миладин надел народную черногорскую одежду, нацепил на себя медали, свои, Вукашина да ещё какие-то другие, неизвестно чьи, спозаранку направился в город и, как только открылись двери управления, пулей влетел в канцелярию начальника уезда Томислава Тодоровича.
– Бог в помощь, господин Томислав! – Миладин звякнул медалями и стиснул зубы, чтобы сдержать горькие слова, готовые ненароком вырваться раньше времени.
– Дай бог, хозяин Миладине. С каким добром пожаловал? Да так рано, что даже ещё не совсем рассвело, – ответил начальник, глянув в окно.
– Добро, господин начальник, вместе с турками покинуло несчастную Баневицу и поселилось в других, богатых краях. А у нас только несчастья водятся. Дитя моё арестовали.
– Кто же его арестовал?
– Вы, кто же ещё?! – брякнул Миладин. И, немного помолчав, добавил: – Без вины виноватого. Говорят, из-за какой-то драки. Но насколько я знаю своё дитя, он до сегодняшнего дня никогда ни с кем не дрался. Боже упаси. Не такого он нрава. Букашку в траве не обидит.
– Видать, в деда пошел. О нём говорят, что большим драчуном был.
Полноватый начальник с отёкшим лицом, щуплыми жёлтыми усиками под мясистым носом неторопливо перелистывал бумаги, лежащие на столе.
– А куда ты задевал те две тетради и «икону», которые твой покойный браток из России привёз и тебе на память оставил, а ты их затем в течение нескольких лет на полке между окнами, как Евангелие, хранил и народ на бунт подбивал?
– Это было давно (Миладин притворился, что на пальцах считает, сколько лет прошло). Лет десять тому назад я их в огонь кинул и сжёг.
– Да ну? Как жертву Саваофу?
– Точно, вот те крест. Как-то осенью вместе с сорняком сжёг.
– Так, голенькими, или их сперва во что-то завернул, чтобы им не жарко было?
– Так а зачем их заворачивать? – смутился Миладин.
Тодорович почувствовал, что Миладин запутался, и ударил кулаком по столу.
– Вот что, Миладине! Книги ты уложил в красивый ящичек, который ты для этой цели всю неделю полировал и на нём, как на прялке, резьбу нарезал. А потом ночью, причитая сильнее, чем когда покойного брата хоронил, отнёс к Орловой скале и там, наверху, где-то у пещеры закопал, так, на всякий случай. Об этом и в Баневице и здесь, в городе, известно. Дважды гимназисты ходили их искать. Призрак твоего дурашливого брата витает среди молодёжи, поэтому мы вынуждены принять решительные меры.
– Против покойного Гавро?
– Против призрака, говорю.
– Он что, вурдалаком стал? – спросил Миладин и, прослеживая взгляд начальника, оглянулся назад на дверь. На мгновение ему показалось, что видит образ брата. Вот он снова просунул голову в приоткрытую дверь, такой же усталый и промокший, как в ту дождливую ночь, когда он вернулся из России. И вспомнил Миладин, как он входил в их дом, целовал Здравко и Тану и как болел. Вспомнил и о своём потаённом желании поскорее от него избавиться из-за страха, что, скитаясь по грязным городам, железнодорожным станциям и морским причалам, собрал все пресквернейшие болезни мира и, умирая, распространяет их вокруг, заполняя дом опасными микробами. Вспомнил и о тех частых, навязчивых встречах с покойным братом, которые после его смерти мерещились во сне, когда засыпал усталым в непогоду, или наяву, когда ночью проезжал по лесам и дубравам. Обернувшись белобородым старцем, вороном или каким-нибудь другим существом, призрак произносил:
– Ты доволен, Милаш, что я у тебя снялся с пайка?
Понапрасну, исправляя старые ошибки, во сне просил он его вернуться домой, обещая найти брату невесту и построить новый дом или выделить ту комнату, в которой он скончался.
– Да брось ты, зачем тратиться? В доме не хватает места и для твоей семьи, по крайней мере, пока Тана не выйдет замуж и Деда не умрёт. А потом, может, я и вернусь, – как бы отвечал Гавро, и загадочная улыбка разливалась по его лицу.
Так, это «может» переметнулось из сна в явь, как та сумасшедшая возможность возвращения Гавро, о которой он никогда точно не знал, обрадовался ли бы он ей или огорчился. Много раз он об этом думал, и каждый раз ему сначала казалось, что он был бы счастлив. А потом, когда вспоминал о разделе имущества, приходил к выводу, что для них обоих смерть Гавро была лучшим исходом. И вот теперь снова встал бессмысленный вопрос: было бы лучше или хуже, если бы Гавро был жив и находился в тюрьме вместо Здравко?
– И вы призрак схватили? – спросил.
– Не валяй дурака, а лучше скажи, принесешь ли то, чего от тебя требуют или нет! – прорычал начальник.
– Тетради?
– Две тетради и фотографию!
– Как же я их принесу, если они сгорели?
– Воля твоя! Если не принесёшь, то жандармы от твоего сына будут их требовать. Они это будут делать не словами, как я. Думаю, тебе понятно – как!
– Не надо, человече! Насколько я знаю, и у тебя сын в гимназии учится, так подумай, что бы почувствовала твоя госпожа, если бы, не дай бог, с ним что-нибудь случилось, – вырвались у Миладина слова, которые он долго сдерживал.
Тодорович задрожал, губы его посинели, а на висках набрякли вены. Его сын, Апостол, лётичевец, ученик восьмого класса гимназии, участвовал в драке на стадионе и домой вернулся с помятыми рёбрами.
– Угрожаешь? – спросил еле слышно.
– Нет. Миладин Попович не из тех, кто угрожает. Дети – это высшее богатство каждого государства и всего народа. Но говорю тебе, что ты как государственное лицо и как родитель должен понимать мои мучения. Он у меня единственный сын, и если с ним что-нибудь случится, могу сдуреть.
В глазах начальника вспыхнули искры страха, которые проникли до самого дна его сознания и, взорвавшись там, замутили глазные белки, а зрачки напитали ненавистью. Возникло жгучее желание раздавить Миладина, как червя, чтобы больше никогда не смел угрожать, а штаны лопались от страха при входе в его канцелярию. Всё же свои чувства он попытался скрыть искусственной улыбкой.
– Ну хорошо, ты прав: дети действительно наше будущее. Спустись вниз, в тюрьму, побеседуй с сыном, поругай его. А я переговорю с полицией, чтобы его выпустили. Ты же поразмысли обо всём случившемся и о тетрадях. Мой тебе совет, принеси их.
Миладин долго раскланивался, стараясь затушевать плохое впечатление от высказанной угрозы, хотя в глубине души и догадывался, что Тодорович испугался и это повлияло на его решение. В этом раскланивании и словах благодарности как бы звучало раскаяние: переборщил я. Не такая уж гадина этот начальник, как в народе говорят. А я бы ничего не потерял, если бы ему тетради принёс. Всё равно толку никакого из того, что они под землёй гниют.
С этими мыслями он покинул канцелярию, спустился по лестнице и вошёл в тюрьму.
– Начальник Тодорович разрешил мне повидаться с сыном и поругать его. А потом его выпустят, господин Тодорович так приказал, – сказал он охраннику.
– Да ну?
– Ей богу! А почему бы его и не выпустить, если он тихое и хорошее дитя. Никогда он ни с кем не дрался, – Миладин старался говорить дружеским тоном.
– Ну, раз так, то подожди здесь, – и охранник показал ему на деревянную скамью, отполированную штанами заключённых, и, бряцая башмаками, покинул подвал. А вернувшись, сказал строго:
– Нет начальника. Ушёл на обед. Пока не вернётся, мне приказано тебя задержать.
XX
Среди парней и девушек, приходивших в тюремный двор, Здравко увидел знакомые ему миндалевидные глаза ученицы седьмого класса гимназии Цаны Кажич, родственницы Лако Чекича, побратима Миладина. В том году, когда она собиралась поступить в первый класс гимназии, она всё лето прожила у них в Баневице и на Враняке. Тогда и отец, и её родители в открытую говорили о том, что рады бы породниться, когда их дети вырастут. Мария и Миладин Цану называли невесткой, а Цанины родители, Милоня и Икония Кажич, – Здравко своим зятем. Здравко стеснялся, а Дана важничала и родителям говорила, что за него не пойдёт. Позже, когда оказались вдвоём, спросила, любит ли он её. А если любит, почему ей об этом не скажет?
Когда отец Даны умер, мать с дочерью переехали в Цетине, и дочь там училась в гимназии. Первые несколько лет Дана регулярно писала Здравко подробные и, как ему казалось, бестолковые письма: несколько слов о матери и домашних делах, которые его совсем не интересовали, а потом подробно расписывала, что в селе, в котором они раньше жили, остались пёстрая собачонка Цига и чёрный, полудикий кот Фрге, который повадился проникать к ним на чердак и воровать хранившееся там мясо, что она и заприметила, когда бывала дома.
«Поцелуй Цигу и Фрга вместо меня. Жаль, что они не умеют читать и писать. Если бы умели, то я уверена, написали бы о журчании Вучьяка после дождя, о блеянии стада в сумерках у загона. И о том, как ягнята, насосавшись молока, играют на лугах около уставших овец. Надоели мне и город, и школа, и вся здешняя жизнь. Летом, если мама меня отпустит, снова приеду к вам, буду играть с ягнятами и строить с тобой шалаши», – вот о чём говорили эти письма. Собаки, телята и другой скот не вызывали у Здравко никаких эмоций, ничего, кроме сознания, что их надо выводить на луга на выпас в любую погоду, даже когда дождь идёт. Отвечал он ей редко и коротко, желая казаться умным. А получалось придурковато, он это только позже понял. Поэтому и её письма становились всё короче и короче. И, наконец, совсем перестали поступать. На летние каникулы она не приехала. Постепенно совсем потускнели воспоминания о ней. А в прошлом году, уже взрослой девушкой, она появилась в шестом классе гимназии в Прлевице. До этого она заходила к ним, в Баневицу, чтобы повидаться с Таной и его родителями.
Боже милый, как она ему понравилась. Родители её встретили хорошо, но довольно сдержанно. Ни разу, даже в шутку, не вспоминали о том, как хотели породниться. Они перепугались чахотки, скосившей её отца Милоню, поэтому и в ней искали следы болезни, которая, замаскировавшись красотой, снедает ей лёгкие.
– Больна она, больна, – говорили. – Да это и видно: она красива и нежна, как все чахоточные. По лицу её заметно, что в ней борются две неравнозначные силы: болезнь и здоровье. Поэтому иногда она бывает такой румяной, что, кажется, пышет здоровьем, а иногда – бледной и болезненной.
А Здравко именно этот необыкновенный румянец, который, казалось, волнами захлёстывал её лицо, эта нежность, эти её ласковые и томные глаза – всё то, что родители приписывали опасной болезни, – доводило до исступления. Увидев Цану, он терял самообладание от волнения, от каких-то спазмов в горле и груди, от неловких движений, от сознания, что следует вести себя по-другому, и от стыда, что вести себя по-другому он не в состоянии. Он слова толкового произнести не мог, язык деревенел, а голос слабел и становился неуверенным, будто он разговаривал с госпожой намного старше и умнее его. Даже письмо не в состоянии был написать ей, хотя ежедневно собирался.
«Дорогая Цана», – начинал он и весь трепетал от умиления. А потом всё это ему казалось глупым. Зачем же писать ей, если каждый день её видит в школе и всё может ей сказать словами. Письма в таком случае – явный признак трусости. А с этим он не мог согласиться, поэтому письма рвал и принимал мужественные решения, которые так и оставались неосуществлёнными.
«А ну её! К чёрту! Больше и здороваться с ней не буду! К чему мне её ежедневные вопросы: как самочувствие и чем занят? И «передай привет родителям, когда поедешь в Баневицу»?»
Он отворачивался, делал вид, что не видит её, но она сама подходила со спины крадучись, а он замедлял ход и в умилении ожидал, когда она закроет ему глаза ладошками и спросит:
– Угадай кто?
Иногда смущение при этом было так велико, что он не в состоянии был произнести её имя. Его охватывало безумное желание, чтобы ослепление её ладонями продолжалось бесконечно.
И только однажды нашёл в себе силы солгать.
– Конечно, знаю! Полексия! – и назвал имя одной очень привлекательной ученицы шестого класса, с которой сидел за одной партой.
– Что за Полексия? – взвизгнула Цана. В её голосе чувствовалась смесь ревности и любопытства. Это сразу сделало её на несколько лет старше. Она отпустила его глаза, оттолкнула от себя и встала перед ним, подбоченившись.
– Что за Полексия? – повторила.
Это случилось накануне ареста. Всю ночь он не мог уснуть от умиления и сознания, что Цана его любит. В мыслях он находил много ласковых слов, которые нанизывал в ожерелья, намереваясь обвить их вокруг её прелестной шеи при первой же встрече. Но, когда увидел её во дворе тюрьмы, эти ожерелья рассыпались и подготовленные ласковые слова в беспорядке, гонимые неодолимой силой, как бы сбивались с губ и неслись ей навстречу. Она это почувствовала, отделилась от подруг, подошла к окну, просунула руку сквозь решётку, коснулась его волос и погладила нежно, словно поцеловала. Сказала ему, что любит его, и позволила ему взять свою руку, погладить её и поцеловать, коли есть желание.
XXI
Миладин ждал тщетно. Сменилась охрана. Вновь пришедший охранник сказал, что ему ничего не известно, но что он узнает. По глазам видно было, что врёт.
– Ну, если ты ничего не знаешь, а начальника всё нет, то пойду домой, пока не стемнело. На селе всегда много неотложных дел.
– Кабы не так! На это я должен получить разрешение. Я принял тебя от Илии и должен передать Нечу, когда он придёт меня менять. Такой порядок у нас. Да будет тебе это известно. Говорю тебе, канцелярии сейчас пустые, жди до завтра.
Наступило и это завтра, но только к вечеру нахлынули жандармы с резиновыми дубинками и прошли по коридору, цокая обоими жандармскими башмаками, словно кони по деревянному мосту. Ввалились все в конце коридора в какую-то камеру, а захлопнувшаяся за ними дверь заглушила возникший, было, шум, позвякивание ключей, смех и брань. А Миладину казалось, что они всё ещё идут по коридору между двумя рядами мрачных камер, в которых ещё с турецких времён томились борцы за свободу и гайдуки, и что в тюремной тишине слышны голоса давно минувших времён. Пока он прислушивался, привели Радивое Огненовича и приказали ему сесть рядом с Миладином.
– А ты ли это, дядя Миладине? – спросил он, когда они остались вдвоём.
– Так точно. А ты, который меня спрашиваешь, кто такой?
– Я Радивое Огненович.
– Косты сын?
– Косты.
– Здравка видел?
– Мы вместе, в одной камере.
– Вас бьют?
– Кого как. Здравка, надеюсь, не будут. Ребёнок ещё, да и нет причины.
Разговор на этом закончился. Жандармы повели Радивое по коридору в камеру, куда недавно ввалилась ватага. А рядом с Миладином уселся некий Рако Стиёвич. Этого заключённого Миладин знал. Он целыми днями слонялся по улицам, трактирам и лавкам, у реки и везде. Когда приходил в город, Миладин его встречал всюду, будто имелось с десяток братьев-близнецов, очень похожих друг на друга. Всегда в окружении городских забияк и хулиганов, всюду затевал ссоры и участвовал во всех драках.
– Если ты с Рако ладишь, то не бойся никого, а ежели нет, то лучше в город не ходи, – говорили в окрестных сёлах. Но также прошёл слух, что в последнее время он изменился, начал книги читать и симпатизирует коммунистам.
В конце коридора, куда увели Радивое, кто-то приоткрыл дверь, и короткий вопль, словно беглец, вырвался из камеры и пронёсся по коридору.
– Кого допрашивают? – спросил Рако.
– Радивое Огненовича повели.
– Э, за этого я не боюсь. Стальной он. Даже если огнём печь его будут и обе руки отрежут – ничего не добьются. А то, что вопит, – это ничего не значит. Легче становится, когда кричишь. Это по природе так. Правда, много зависит от окраски голоса и высоты тона кричащего, а до некоторой степени и от слуха тех, кто колотит. Я с этим ремеслом с детства знаком. Покойный батя меня порол до тех пор, пока ему от моего визга уши не закладывало. У меня хороший слух и сильный голос, и, когда он начинал меня лупить, если нет возможности обороняться или драпануть, я принимался «петь» во все горло, сначала тихо, а потом всё громче и громче. Не родился ещё такой жандарм, который мой вой выдерживает более получаса. Говорят, что один знаменитый итальянский певец мог голосом разбить оконное стекло. Я не настолько силён, не буду хвастаться, но прорвать жандармам ушные перепонки – это могу. А ты, дядя, ежели меня спрашиваешь, не куражься, а начинай сразу: сперва тихо, стиснув зубы, а потом давай всё громче и громче, пока не достигнешь той убийственной ноты, от которой и цветы на подоконниках вянут, – закончил Рако.
Миладин его слушал краем уха. В основном он прислушивался к тем редким, сдавленным воплям, которые проникали в дверные щели и разносились по коридору.
«Зачем они это делают? – спрашивал себя Миладин. А ответ не находил. – Вероятно, потому, что сила на их стороне. Должны куда-то излить накопившуюся в себе мерзость, вот и арестовывают невиновных детей, избивают их, составляют акты и пишут донесения. Служба у них такая. Чем-то должны отчитаться за получаемые деньги. А иногда у них, видимо, просто возникает желание поиздеваться, как и у Тодоровича, вот, возникло желание меня арестовать, будто по ошибке. По ошибке могут и меня в камеру заточить и отколотить, как бы я его отколотил, будь власть у меня. Он может, а я не могу ничего, кроме как визжать, как свинья, когда ей в рыло кольцо вставляют.
Но если он это сделает, а потом ошибётся и выпустит меня на свободу, то запомнит, кто такой Миладин Попович. Не стану сразу его убивать, мало ему такой кары, а ночью его где-нибудь встречу и дубиной по голове и рукам надаю: это за это, а это за то, пока из него дух не выпущу. Да и не я это сделаю, не сошёл с ума, а пошлю Лако с сыновьями, пусть они его отделают».
– Кричать, говоришь? – спросил неожиданно.
– Ага, именно так. Помогает. Дети и женщины только этим и защищаются и, как я заметил, более успешно, чем мы кулаками и палками, – разглагольствовал Рако.
А у Миладина свои мысли:
– Говорят, что Тодорович крутит с Кротиной, женой писаря Лаёвича. Встречаются, когда писарь уезжает в служебную командировку. А уезжает, когда начальнику захочется к женщине. Вон там, у окна дома писаря, в огороде, я его и дождусь. Все будут считать, что Лаёвичи его изувечили, чтобы позор смыть. Ни жандармы, ни суды, ни высшее начальство – никто его не пожалеет. Более того, когда разнесётся, почему ему под зад надавали, все будут над ним посмеиваться и злорадствовать: вполне это заслужил. Его снимут с должности, и будет калекой по миру скитаться. А я найду способ дать ему понять – от чьей дубины пострадал…
Так Миладин, как все баневичане, когда их постигнет горькая несправедливость, опьянённый чувством мести, не заметил, как жандармы вышвырнули из камеры избитого Радивое Огненовича. Он увидел его только тогда, когда тот, еле передвигая ноги и шатаясь от стенки к стенке, проковылял мимо него.
Повели и Рако. Напрасно Миладин ожидал услышать вопли. Когда приоткрывалась дверь, раздавались удары, словно бьют по пустой скамье.
День заканчивался. В коридоре сменился охранник. Два полицейских принесли в корзине хлеб и разделили его среди заключённых, дали и ему кусок с загадочной ухмылкой, обещали выпустить на свободу через пару дней, когда Тодорович вернётся из командировки из Белграда. Затем зажглись лампочки, и Рако вышел из камеры, весь перекошенный. Руками держится за живот. С губ капает кровь, а с ней – так, по крайней мере, казалось Миладину – на пол проливается и стон, сдавленный молчанием. Проходя мимо Миладина, он через силу улыбнулся и произнес еле слышно:
– Как договорились, и не стесняйся.
«Ишь ты, как мужик держится! А меня учит кричать», – подумал Миладин. На глаза его навернулись слёзы, а в душе разгоралась жажда мести: «Если отсюда живым выйду, и за него Тодорович заплатит».
XXII
Пришёл черёд и Миладина.
– Приведите того негодяя с медалями, – отрезвил его голос. Он понял, что это о нём, поэтому сразу встал, прошёл по коридору и вошёл в камеру.
Жандарм в рубахе с засученными рукавами, похожий на толстоватого мясника Мустагича, движением головы показал на скамью, забрызганную каплями крови.
– Ну, герой, добровольно принесёшь то, что от тебя требуют, или хочешь, чтобы мы тебе сперва задницу плетью разукрасили?
– Что тебе принести? – резко ответил Миладин, как будто он рад, что его исколотят и спешит их рассердить, чтобы случайно не передумали. А в действительности горечь переполнила грудь, подступила к горлу так, что слова вымолвить не может. Ещё мучила мысль, что может непроизвольно слезу пустить и этим себя опозорить. Побоев он не боялся. Боль возникала от сознания, что всё это происходит в его стране и в мирное время, когда нет ни турков, ни других чужеземных угнетателей. К тому же ещё не верил, что его, взрослого человека, знаменосца с Барданёла с медалями на груди, без всякой вины свалят на скамью и измолотят дубинками и мокрыми верёвками по голой заднице.
– Ну, раз не хочешь, снимай штаны, поглядим, кому быстрее надоест, – приказали ему. Он быстро стянул штаны, будто кому-то делает наперекор, лёг на живот на скамью, задрав рубашку высоко, до самой шеи, обнажив глубокий шрам под левой лопаткой. Лежал так и думал, что жандармы удивятся: «ух ты»! И спросят его:
– Где ты, несчастный, такую рану заполучил и как в живых остался?
«На войне, где бы ещё, – отвечал он в мыслях. – В битвах за свободу и независимость отечества. Три ребра мне вражеская граната перебила. Четвёртое вам на закуску осталось. Вот и грызите, если у вас ни чести, ни людского достоинства нет. Если вы чужеземца хуже».
Он не видел лиц жандармов, но ему думалось, что они должны быть печальными. Не так это просто – поднять плеть и ударить пожилого человека по спине, израненной в битвах за свободу. Другое дело, когда на скамье молодое, упрямое, норовистое тело, так здоровьем налитое, что само плети просит.

