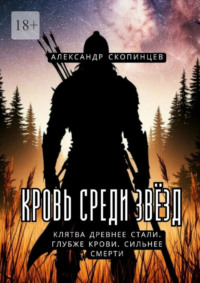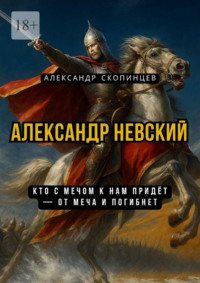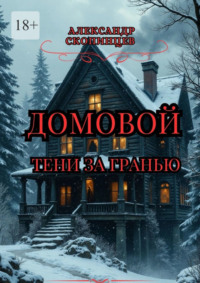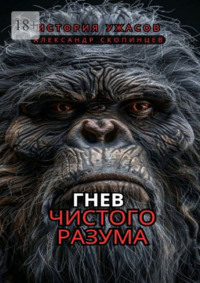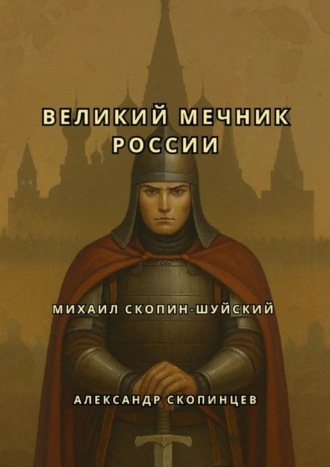
Полная версия
Михаил Скопин-Шуйский. Великий Мечник России
И вот процессия двинулась.
Впереди – польская конница, блестящая, как райские птицы: латы начищены до зеркального блеска, плюмажи на шлемах трепещут на ветру, а кони – рослые, породистые – ступают гордо, словно знают, что несут на себе победителей. За ними – русские дворяне, перебежчики, что примкнули к Дмитрию ещё на подходе к Москве. А потом – он сам.
Михаил увидел его и замер.
Дмитрий ехал на белом коне, в золотом царском облачении, что сверкало под солнцем так, что больно было смотреть. На голове – шапка, древняя, тяжёлая, знак самодержавной власти. Лицо – молодое, лет двадцати трёх или четырёх, скуластое, с тёмными глазами и небольшой бородкой, подстриженной на польский манер. В нём не было ничего от Рюриковичей – ни той мрачной суровости Ивана Грозного, ни мягкости Фёдора Иоанновича. Но была другая черта, что поразила Михаила с первого взгляда: уверенность. Дмитрий держался не как претендент, не как узурпатор, что крадётся к престолу, – он держался как прирождённый государь, которому этот престол принадлежит по праву рождения и Божьей воле.
Когда кортеж приблизился к воротам, Василий Шуйский шагнул вперёд, низко поклонился и громко произнёс:
– Государь царь и великий князь Дмитрий Иванович всеа Русии! Бояре и вся Москва челом бьют тебе и радуются пришествию твоему!
Дмитрий остановил коня, спешился – движения его были лёгкими, почти грациозными, не по-русски. Он подошёл к Василию, и Михаил, стоя в нескольких шагах, смог рассмотреть его вблизи.
Глаза. Они были не такими. Михаил не помнил царевича Дмитрия – он сам был ребёнком, когда тот погиб. А у этого человека глаза были тёмные, почти чёрные, пронзительные. Телосложение – тоже другое. Не приземистое, коренастое, как у Рюриковичей, а стройное, высокое, с лёгкой сутулостью, будто он много времени провёл над книгами, а не на охоте или в седле.
И меч. Михаил заметил это сразу: Дмитрий держал меч на поясе слишком низко, на манер западный, незнакомый русскому воинству. Русские носили меч под мышкой или высоко на боку, чтобы легче выхватить в бою. Этот же – явно привык к польским или немецким правилам.
Но стоило Дмитрию открыть рот и произнести несколько фраз, чтобы все сомнения Михаила на миг отступили.
– Бояре! – голос его был звучным, властным, без тени неуверенности. – Пришёл есмь не мстити, но правити. Пришёл есмь не карати, но миловати. Кто служил мне верою и правдою – будет вознагражён по достоинству своему. Кто служил супостатом моим – да будет прощён, аще присягнёт мне ныне. Русь едина есть, и аз – государь её!
Толпа взревела. Крики «Да здравствует царь Дмитрий!» слились в единый рёв, что покатился по площади, отразился от кремлёвских стен и взметнулся к небу. Михаил почувствовал, как у него перехватило дыхание. Это было… магией. Нет, не магией – харизмой, той редкой способностью внушать людям веру в себя, что дарована лишь избранным.
Он обернулся к дяде. Василий Шуйский стоял, слегка наклонив голову, и на лице его – всегда непроницаемом, словно маска – мелькнуло что-то странное. Не радость, не облегчение. Скорее… расчёт. Холодный, циничный расчёт.
А потом Михаил услышал, как дядя, склонившись к соседнему боярину, шепнул – так тихо, что едва разобрал:
– Господи, каков же государь!
Эти слова ударили Михаила, как удар кнута. Он отшатнулся, словно обжёгся. Дядя знал. Знал наверняка, что это не царевич Дмитрий. И всё равно готов был присягнуть ему, служить ему, возможно – манипулировать им.
Вечером того же дня, когда Дмитрий уже восседал в Кремле, принимая поздравления и дары, Михаил сидел в своей комнате в боярском тереме Шуйских. За окном сгущались сумерки, и комната тонула в полумраке – он не велел зажигать свечи. Ему хотелось темноты, хотелось спрятаться от этого дня, от того, что он увидел и услышал.
На коленях у него лежал пояс с мечом – дар отца, князя Василия Фёдоровича Скопина-Шуйского. Меч был старинный, ещё дедовский, с простой рукоятью, без затей, но клинок – булатный, крепкий, надёжный. Михаил провёл пальцами по холодной стали и тихо, почти шёпотом, произнёс:
– Отче… Ты бы присягнул ли?
Ответа, конечно, не было. Только тишина, да далёкий звон колоколов, что всё ещё не смолкали, празднуя восшествие нового царя.
Михаил закрыл глаза. В голове его роились мысли, как пчёлы в растревоженном улье. Он понимал логику дяди – понимал, но не принимал. Да, Русь на краю пропасти. Да, Годуновы пали, и нужен новый государь, иначе начнётся междоусобица, что сожрёт страну, как огонь сухой лес. Но присягать лжецу? Служить тому, кто украл имя мёртвого царевича?
А если… если в нём и правда есть нечто царское? Если этот человек, кем бы он ни был, способен объединить Русь, дать ей мир и порядок?
Михаил вздохнул и поднялся. Подошёл к окну. Внизу, на кремлёвской площади, горели костры – народ праздновал, пил, пел. Где-то играли на гуслях, где-то танцевали. Москва ликовала.
– Может статься, дядюшка прав, – прошептал он. – Может статься, се и есть промысл Божий. Кто аз таков, да судити дерзну?
Но в глубине души он знал: это не промысел. Это – игра. Опасная, смертельная игра, в которую втянуты все – от последнего посадского до князей крови. И в этой игре ему, Михаилу Васильевичу Скопину-Шуйскому, тоже придётся сделать выбор.
Только какой?
В те дни, что последовали за триумфальным въездом Дмитрия, Василий Шуйский действовал с осторожностью змеи и расчётливостью ростовщика. Он понимал: новый царь – фигура шаткая. Да, народ его принял, да, войско за ним идёт, но опоры у трона нет. Дмитрий – чужак, воспитанный в Польше, окружённый иноземцами, не знающий ни русских обычаев, ни русской души. Его можно использовать. Его можно контролировать. А если понадобится – и убрать.
Первым шагом было укрепление собственного положения. Василий добился, чтобы его назначили одним из ближайших советников царя – вместе с князем Фёдором Мстиславским и боярином Богданом Бельским. Втроём они составляли что-то вроде регентского совета, хотя формально Дмитрий правил самостоятельно. Шуйский говорил мало, но метко: каждое его слово на боярских думах было как капля яда – незаметная, но смертельная.
Михаил наблюдал за дядей с тревогой. Он видел, как Василий улыбается Дмитрию, как кланяется ему, как нашёптывает ему на ухо советы – всегда вкрадчиво, всегда с почтением. Но в глазах дяди, когда тот отворачивался от царя, Михаил замечал то же выражение, что увидел в день триумфа: холодный, хищный расчёт.
Однажды вечером, когда они остались вдвоём в палате, Михаил не выдержал.
– Дядюшка, – начал он, с трудом подбирая слова. – Вы… Воистину ли собираетесь служити ему? Или се всё – лицемерство?
Василий поднял глаза от свитка, что читал при свете свечи. На лице его промелькнула усмешка.
– А ты, племяннич, собираешься ли вопрошати меня о сицевом вслух? – спросил он тихо. – Или имаши желание лишитися языка своего?
Михаил побледнел, но не отступил.
– Хощу разумети. Мы Шуйские суть. Мы – кровь Рюриковичей. Како можем служити самозванцу?
Василий отложил свиток, встал, подошёл к племяннику. Положил руку ему на плечо – жест был почти отеческим, но в нём чувствовалась сила, что не терпела возражений.
– Михайло, – сказал он мягко. – Мнишь ли, яко честь – се есть служити токмо тому, иже достоин? Ни, голубчик мой. Честь – се есть служити Руси. А Русь ныне имеет нужду во чине и порядке. Дмитрий – самозванец есть, ей-ей. Но он – законный царь пред очами народа. Доколе он на престоле седит, дотоле мы служити ему будем. А егда придёт время – егда ослабеет он, егда народ от него отвратится – тогда сотворим, еже подобает. Возвратим престол государю законному. От рода Шуйских.
Михаил молчал. В голове его звучали слова дяди, как удары колокола.
– От рода Шуйских? – переспросил он наконец. – Вы… Желаете ли стати царём?
Василий усмехнулся.
– Не хощу. Должен. Понеже иного несть, Михайло. Иного несть.
Недели шли, и Михаил всё глубже погружался в этот странный, двусмысленный мир новой Москвы. Дмитрий правил – правил энергично, с размахом, что удивлял даже старых бояр. Он принимал послов, устраивал пиры, раздавал милости. Он был щедр – слишком щедр, говорили некоторые. Он слушал всех – и русских, и поляков, и немцев, – что тоже вызывало недовольство. Но главное – он был чужим. В его манерах, в его речи, в его жестах чувствовалось что-то не наше, не русское.
Михаил несколько раз бывал на приёмах у царя. Дмитрий встречал его благосклонно – молодой князь из знатного рода, племянник влиятельного боярина. Он даже пытался завязать с Михаилом беседу, расспрашивал о жизни, о ратном деле. Но Михаил отвечал односложно, сдержанно. Он не мог. Не мог смотреть в эти чужие глаза и притворяться, что верит в его царское происхождение.
А потом произошло то, что окончательно убедило Михаила: этот человек – самозванец.
Был вечер. Михаил шёл по кремлёвской галерее, возвращаясь из палаты дяди. Вдруг услышал голоса – приглушённые, но взволнованные. Он остановился, прислушался. Голоса доносились из-за двери, что вела в покои царя. Михаил знал, что подслушивать – грех и опасность, но не мог удержаться. Приблизился, прижался к стене.
Говорил Дмитрий – по-польски. Михаил знал этот язык неплохо – многие русские бояре учили его, чтобы вести переговоры с соседями. И то, что он услышал, заставило его похолодеть.
– …не могу уже сносити сих московских обычаев! – говорил Дмитрий, и в голосе его звучало раздражение. – Велят мне в мыльню ходити еженедельно, почивати по обедех, молитися по три часа на день! Не смерд я какой, дабы жити по их дикарским уставам!
Ответил кто-то другой – поляк, судя по акценту.
– Государь, подобает вам терпение иметь. Се есть нужда, да удержите престол сей. Москвитяне недоверчивы зело. Единожды оплошаете – и подозрение имут…
– Ведаю, ведаю се! – перебил Дмитрий. – Но несносно мне се. Не того ради пробирался аз сквозь всю Европу, не того ради бился с Годуновыми, дабы ныне лицедействовати в чужом позорище!
Михаил отшатнулся от двери, словно обжёгся. Сердце его колотилось, как барабан перед битвой. Он слышал. Слышал собственными ушами, как царь – нет, самозванец – жалуется на русские обычаи, называет их дикарскими.
Он развернулся и быстро зашагал прочь, пока его не заметили. Но мысли его кипели. Теперь он знал точно: этот человек – не Дмитрий. Этот человек – обманщик, что украл престол, что играет роль, но не может скрыть своей чуждости.
И если дядя прав, если Шуйские должны вернуть престол законному государю, то… то, быть может, это правильно?
Михаил не знал. Но одно было ясно: буря приближается. И когда она грянет, ему придётся выбрать сторону.
Ночью, лёжа на жёстком тулупе в своей комнате, Михаил долго не мог уснуть. За окном выл ветер – предвестник осени, что уже подступала к Москве. Где-то далеко лаяла собака, где-то скрипнула дверь. А в голове его звучали слова – дяди, Дмитрия, собственные мысли, что путались, как нитки в клубке.
Он вспомнил отца:
– Служи Руси, Михайло. Не государю, не боярам. Руси.
Тогда, ребёнком, он не понял. Теперь – начинал понимать.
Русь – это не Дмитрий. Не Годуновы. Не даже Шуйские. Русь – это народ, что ликует на площадях, не зная, что его обманывают. Русь – это стрельцы, что колеблются, не понимая, кому служить. Русь – это земля, леса, реки, церкви, что стоят веками, переживая и царей, и смуты, и войны. И если служить Руси – значит, порой приходится служить и тем, кто недостоин. Ради того, чтобы сберечь её от большего зла.
Михаил перевернулся на другой бок, зажмурился, пытаясь прогнать мысли. Но сон не шёл. Вместо него приходили образы – лицо Дмитрия, самоуверенное и чужое; лицо дяди, расчётливое и холодное; лица стрельцов на площади, полные надежды и страха. И среди всех этих лиц вдруг возникло другое – материнское. Мать его, княгиня Елена, умерла, когда ему было двенадцать, но он помнил её ясно, как вчера. Помнил, как она учила его молитвам, как рассказывала о святых подвижниках, что жертвовали собой ради веры и Отечества.
– Михайло чадо, – шептала она тогда, поправляя ему волосы, – не убойся пожрети собою ради правды Божией. Убойся же единаго – да не погубиши душу свою во лжи и малодушии. Зане плоть тленна есть и в персть обратится, душа же безсмертна пребывает пред Господем во веки веков.
Он открыл глаза, уставился в темноту потолка. Жертвовать душой. Вот оно. Вот что терзало его. Если он присягнёт Дмитрию, зная, что тот самозванец, не значит ли это – предать самого себя? Предать то, во что верил, чему учили его отец и мать?
Но если не присягнёт – что тогда? Бунт? Смерть? А может, нечто худшее – отлучение от рода, позор, изгнание?
Михаил сжал кулаки, ногти впились в ладони. Нет. Нет, он не может бежать от выбора. Он – Шуйский, он – из рода князей, что правили Суздалем и Нижним Новгородом ещё до Москвы. В его жилах течёт кровь Рюриковичей, та самая, что дала Руси десятки государей. Он не имеет права на слабость.
И тогда, в тишине ночи, он принял решение.
Присягну. Присягну, как велит дядя. Не потому, что верю в Дмитрия. Не потому, что боюсь. А потому, что Русь нуждается в мире хотя бы на время. Потому, что междоусобица – зло горшее, чем ложь на престоле. Но присягая, буду помнить: се – не конец. Се – начало. Начало долгого пути, на котором придётся много раз выбирать меж злом меньшим и злом большим. И когда придёт час – а он придёт, Михаил чувствовал это всем нутром – он будет готов. Готов действовать. Готов сражаться. Готов, если понадобится, умереть. Но не предать Русь. Никогда.
Он повернулся к окну. За ним, сквозь мутное стекло, едва проступал рассвет – серый, холодный, неприветливый, как само это время. Москва просыпалась. Где-то на колокольне ударил колокол к заутрене. Где-то заскрипели ворота, загремели телеги – город оживал, не ведая, что творится в душах тех, кто правит им.
Михаил поднялся, умылся холодной водой из кувшина, что стоял на лавке. Вода была ледяной, обжигала лицо, но это было хорошо – прогоняло остатки сна и сомнений. Он надел чистую рубаху, поверх – кафтан, подпоясался. Взял в руки меч отца, долго смотрел на него. Потом поцеловал рукоять и пристегнул к поясу.
– Отче Небесный, – прошептал он, крестясь перед иконой Спасителя, что висела в углу. – Аще во грехе и заблуждении дерзаю се творити – милосерд буди, отпусти ми прегрешение моё. Аще же путь мой правый есть пред очима Твоима – благослови раба Твоего и укрепи в час сумнения. Обаче не якоже аз хощу, но якоже Ты, Господи. Да будет воля Твоя.
Он вышел из комнаты. Коридор был пуст, только где-то далеко слышались шаги слуг. Михаил спустился по узкой лестнице, вышел во внутренний двор терема. Там, у колодца, стоял дядя – уже одетый, уже готовый к новому дню интриг и расчётов. Василий обернулся, увидел племянника и улыбнулся – улыбка была тонкой, почти незаметной, но в ней читалось удовлетворение.
– Не почивал еси, Михайло? – спросил он.
– Не почивах, государь дядюшка, – ответил Михаил. Голос его прозвучал твёрже, чем он ожидал.
Василий прищурился, разглядывая племянника.
– Разумею скорбь твою. Нощь сия тяжка бысть для тебе, ведаю. Обаче се есть искус и испытание первое от многих, яже предлежат ти. И вем аз, яко пройдеши вся сия твердо и непреклонно. Понеже от рода Шуйских еси. А Шуйские выстояти умеют во всяцей напасти. Присно тако бывало.
Михаил ничего не ответил. Только кивнул.
Они стояли так, дядя и племянник, в холодном утреннем воздухе, пока колокола не смолкли и город не ожил окончательно. А потом пошли в Кремль – на очередную думу, на очередной день притворства.
Но в душе Михаила, глубоко, где не достать никаким словам и клятвам, зародилось нечто новое. Не вера в Дмитрия. Не преданность дяде. Нечто иное – твёрдое, как булат, и чистое, как родниковая вода.
Клятва самому себе.
Буду служить. Буду терпеть. Буду молчать, когда надо, и действовать, когда придёт час. Но не забуду, кто я. Не забуду, ради чего живу. И когда настанет миг, когда Русь возопиет о помощи – а он настанет, Михаил не сомневался в том – он откликнется. Откликнется без страха, без колебаний.
Потому что он присягнул не Дмитрию.
Он присягнул Руси.
Глава 5: Тень над Москвой
Весна в этом году словно забыла дорогу в Москву. Она вступала в свои права неохотно, будто сама природа чуяла – переменам быть. Снег лежал чёрными клочьями у стен кремлёвских башен, таял лениво, превращая улицы в вязкую жижу, что чавкала под сапогами спешащих бояр и стрельцов. По переулкам тянуло холодом, лошади хрипло фыркали, брызгая грязью на подолы прохожих. Небо висело над Кремлём свинцовым пологом, и даже редкие лучи солнца, пробиваясь сквозь облака, казались холодными и мертвенными, не неся с собой ни тепла, ни надежды. Воздух пах сыростью, конским навозом и чем-то ещё – тревогой, что сочилась из каждого терема, из каждой боярской думы, где шептались о грядущем мятеже.
В палатах князя Василия Ивановича Шуйского – просторных, но лишённых царской роскоши, с потемневшими от времени иконами и тяжёлыми сундуками, набитыми старинными грамотами, – собирались заговорщики. Здесь, в тесной горнице, где свечи чадили воском и едким дымом, где оконца были завешены толстыми сукнами, чтобы ни единый шорох не просочился наружу, плелась сеть, что должна была опрокинуть трон Дмитрия.
Князь Василий сидел во главе стола, сколоченного из потемневшего дуба, облокотившись на резные подлокотники кресла. Лицо его, изборождённое морщинами хитрости и долгих лет при дворе, было непроницаемым, как маска. Глаза, узкие и острые, горели холодным огнём расчёта. Он не спешил с речами, позволяя собравшимся боярам – Голицыным, Татевым, Воротынским – выплеснуть накопившийся гнев.
– Ляхи! – шипел князь Василий Голицын, ударяя кулаком по столу так, что оловянный кубок с вином подскочил и звякнул. – Ляхи бражничают в Кремле-граде, а мы, боярство московское, должны челом бити сему… сему вору расстриге, что привёл их на Русь!
– Царь сочетается браком с литовкою! – подхватил князь Иван Воротынский, его голос дрожал от негодования. – Маринка Мнишек! Каково ж то имя для царицы всея Руси! Она и в православную веру не крещена подобающе, а уж нами, боярами, повелевает, яко холопами своими!
Шуйский слушал, кивая, но молчал. Он знал: пусть говорят, пусть распаляются. Его время придёт. Когда гнев достиг предела, он поднял руку – едва заметный жест, но все смолкли, словно по команде.
– Братия моя, – начал он, голосом тихим, но властным, что заставлял прислушиваться. – Все мы зрим, что вершится в державе нашей. Сей… государь, – он произнёс слово с еле уловимой усмешкой, – привёл во град Москву не токмо ляхов, но и еретичество. Покровители его – латынники, жена его – римлянка, советники его – иноземцы поганые. Хощет он искоренити боярство, дабы владети, яко король польский некий, окружённый шляхтою своею.
– Правду глаголеши, Василий Иванович! – воскликнул князь Михаил Татев, человек средних лет, с лицом ястреба и глазами, полными отваги. – Но что сотворим? Простой люд его любит. Веруют они, что он – истинный царевич Димитрий, спасённый волею Божией.
Шуйский усмехнулся – улыбка была волчьей.
– Люд верует тому, что ему вещают. А мы поведаем им истину. Скажем, что вор сей – Гришка Отрепьев, расстрига беглый, что служил в хоромах Романовых и убежал в Литву, дабы продаться ляхам. Скажем, что хощет он искоренити веру православную, истребити боярство и предати Русь под руку Рима.
– Но како людей убедим? – спросил Голицын, нахмурившись.
– Ударим внезапу, – ответил Шуйский, склоняясь вперёд. Свет свечей играл на его лице, высвечивая острые скулы и тонкие губы. – Егда Кремль наполнится ляхами, егда будут они пьяны после пиршества очередного. Мы ударим в набат, возопием: «Ляхи побивают!» Простой люд востанет не на государя, а на чужеземцев. А мы… мы токмо гнев их направим.
Бояре переглянулись. В глазах их мелькнули и страх, и алчность, и надежда.
– А кто государем будет после сего? – тихо спросил Воротынский.
Шуйский откинулся на спинку кресла, и в его глазах промелькнуло что-то хищное.
– Того изберёт земля русская. А изберёт она того, кто спасёт её от ляхов.
Никто не сомневался, кого он имел в виду.
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский стоял в тени дверей, сжимая в руках свёрток с запечатанным письмом. Высокий, стройный, с волосами, что спадали до плеч, и глазами, в которых теплилась юношеская решимость, смешанная со страхом, он был доверенным лицом дяди – не столько по выбору, сколько по крови.
Василий Иванович не посвящал его в детали заговора. Михаил был слишком молод, слишком честен, чтобы стать соучастником. Но он был полезен – надёжный гонец, верный страж, тот, кто мог доставить послание, не привлекая внимания. И потому он бродил по Кремлю и Китай-городу, как призрак, неся запечатанные грамоты от одного боярина к другому, стоял на часах у дверей, за которыми шептались о мятеже.
Он не знал всех подробностей, но понимал: дядя замыслил что-то страшное. И это страшное было неизбежным.
Теперь, стоя в полутьме коридора, он слышал обрывки разговора. Слова «ляхи», «расстрига», «набат» долетали до него, как удары молота по наковальне. Сердце его билось тяжело, словно он поднимался на эшафот.
– Михайло Васильевич, – окликнул его тихий голос.
Он обернулся и увидел старого слугу, Пимена, что служил Шуйским ещё при отце Василия. Пимен был сух, как вяленая рыба, с морщинистым лицом и глазами, полными печального знания.
– Князь велел отнести сие князю Татеву, – сказал Михаил, протягивая свёрток. – Сам отнесёшь ли?
Пимен покачал головой.
– Нет, боярин. То дело твоё. Князь уповает на тебя. А старику подобно мне на стогнах небезопасно – язык развяжут, правду выпытают.
Михаил кивнул, забирая письмо обратно. Он понимал: доверие дяди было и честью, и проклятием. Быть частью этого – пусть даже косвенно – значило нести на душе грех грядущей крови.
Он вышел из терема в сумерки. Москва встретила его запахами – кислого кваса, что лили в кабаках, дыма из печей, навоза с улиц. Грязь хлюпала под сапогами. Над Кремлём нависали тучи, и первые капли дождя застучали по деревянным мостовым.
Михаил шёл быстро, закутавшись в тёмный плащ, низко надвинув шапку. Он миновал Красную площадь, где торговцы уже сворачивали лавки, и свернул в узкий переулок, что вёл к палатам Татевых. Здесь, в тесноте боярских усадеб, где дома громоздились друг на друга, как зубы в пасти старого волка, царила тишина – тяжёлая, настороженная.
У ворот его встретил стрелец в кафтане, с бердышом на плече.
– Ко князю Михайле Борисовичу, – сказал Михаил, показывая печать Шуйского.
Стрелец кивнул и пропустил его.
Татев принял его в горнице, где пахло свежим хлебом и мёдом. Князь был высок, широкоплеч, с лицом, обветренным походами. Он взял письмо, сломал печать и быстро пробежал глазами.
– Стало быть, вскоре сие свершится, – пробормотал он, поднимая взгляд на Михаила. – Дядя твой не мешкает. А ты, Михайло Васильевич, готов ли?
– Готов ли? – переспросил Михаил, и в голосе его прозвучало нечто, чего он сам не ожидал – страх.
Татев усмехнулся, но без злобы.
– Готов ли узреть, како рушится мир наш. Понеже рухнет он. И мы с тобою станем на развалинах его.
Михаил молчал. Он хотел сказать, что не хочет крови, что боится, что не понимает, зачем всё это. Но слова застряли в горле. Он лишь кивнул и ушёл, унося с собой тяжесть этих слов.
Следующие дни были наполнены лихорадочной суетой. Михаил бегал по Москве, как гонец перед битвой, доставляя письма, собирая сведения о настроениях в стрелецких слободах, где кипело недовольство поляками. Он слушал разговоры в кабаках, где мужики с красными от водки лицами проклинали «ляхов», что «пьют нашу кровь и глумятся над верой». Он видел, как в церквях священники шептались о «латинской ереси», что грозит православию. И он понимал: дядя прав – народ готов к мятежу. Нужен лишь толчок.
Но по ночам, лёжа на жёсткой постели в своей келье, он не мог уснуть. Перед глазами вставали образы: горящий Кремль, кровь на снегу, крики умирающих. Он видел себя – не героем, а соучастником убийства. И это видение не давало покоя.
Однажды вечером, возвращаясь от князя Воротынского, он столкнулся в сенях дворца с Иваном Змеевым. Он служил Шуйским верой и правдой, и Михаил знал: если заговор выльется в бунт, Иван будет в первых рядах.
– Что се, боярин, не спится ли? – спросил Иван, усмехаясь. Он сидел на лавке, чиня ремень на сабле.
– Не спится, – признался Михаил, присаживаясь рядом.
Иван кивнул, не отрываясь от работы.
– Ведаю аз сие чувствование. Пред первою сечею присно тако бывает. Мнишь себе: еда убоюся? Еда не стерплю? – Он поднял глаза, и в них мелькнула усмешка. – Но егда начнётся кровопролитие, помышляти несть коли. Токмо творити подобает.