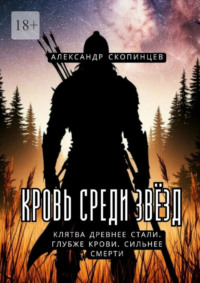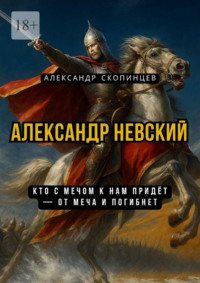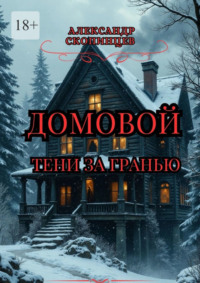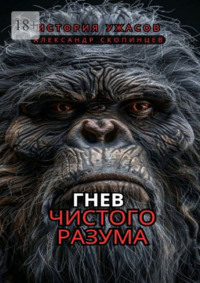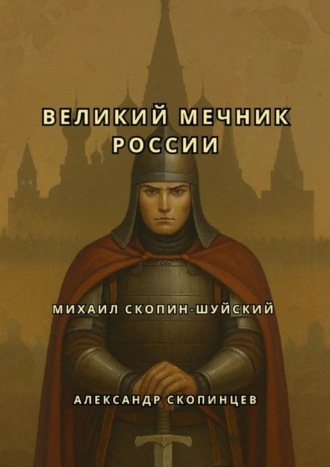
Полная версия
Михаил Скопин-Шуйский. Великий Мечник России
Но буря уже собиралась.
Глава 2: Тени власти
Москва встречала зарю каждого дня колокольным благовестом, разливавшимся над деревянными кровлями посада и белокаменными стенами Кремля, словно невидимая река, что несла в своих волнах и молитву о спасении, и тревогу о грядущем. В те годы, когда малолетний Михаил Скопин-Шуйский только начинал постигать премудрости боярского воспитания, столица Московского государства жила в странном, томительном ожидании перемен – словно перед грозой, когда воздух густеет и наливается тяжестью, а в небесах копится незримая сила, готовая обрушиться на землю.
Теремной дворец князей Шуйских стоял неподалёку от Кремля, на высоком берегу Москвы-реки, откуда открывался вид на противоположную сторону – на Замоскворечье с его слободами кузнецов и гончаров, на дальние леса, что синели на горизонте, словно обещание иного, вольного мира, недоступного боярским детям. Здесь, в просторных горницах с низкими сводами, пахнувшими воском свечей и дубовой древесиной, протекали детские годы Михаила – годы, наполненные строгим порядком, учением и той особой атмосферой придворной жизни, где каждое слово взвешивалось на весах родовой чести, а каждый жест мог обернуться либо милостью, либо опалой.
Отец его, князь Василий Михайлович Скопин-Шуйский, был человеком суровым и немногословным, привыкшим более к ратному делу, нежели к теремным беседам. Широкоплечий, с густой бородой цвета воронова крыла и глазами, в которых таилась какая-то вечная настороженность – настороженность служилого человека, знающего, сколь зыбка боярская милость и сколь коротка память государева, – он воспитывал сына по старинке, как воспитывали Рюриковичей испокон веку: сперва страх Божий, потом верность роду, и лишь затем всё прочее. В памяти Михаила отцовский облик навсегда остался связан с запахом конской сбруи, скрипом сапог по дубовому полу и той особенной тишиной, что воцарялась в покоях, когда князь Василий Михайлович возвращался с государева двора – тишиной, полной невысказанных тревог и глухих предчувствий.
Мать же, княгиня Елена Петровна, урождённая Татева, была совсем иной породы – тонкая, с нежным овалом лица и глазами, в которых светилась та особая боярская печаль, свойственная женщинам, чья жизнь протекает в ожидании: ожидании мужа с войны, ожидании вестей о сыновьях, ожидании милости или немилости судьбы. Она учила Михаила церковной грамоте, читая вслух Псалтырь и Жития святых, и голос её, тихий и монотонный, словно журчание ручья под весенним льдом, убаюкивал и одновременно будил в детской душе какое-то смутное стремление к чему-то высокому, недостижимому, что лежало за пределами теремных стен и боярских обычаев.
Были ещё дядья – князь Дмитрий Иванович, склонный к книжной мудрости и долгим беседам о древних временах, когда Русь была сильна и едина, и князь Иван Иванович, неистовый в своих гневах и страстях, но преданный роду до самозабвения. И был, конечно, старший из всех Шуйских – князь Василий Иванович, чья тень уже тогда, в те далёкие годы, ложилась на весь род длинной и холодной тенью честолюбия. Высокий, сухопарый, с острым, словно соколиным, взглядом и тонкими губами, сжатыми в линию вечного недовольства, он бывал в доме Скопиных нечасто, но каждый его визит превращался в событие: слуги суетились, отец надевал парадный кафтан, мать распоряжалась о трапезе, а сам Михаил, ещё совсем мальчик, замирал где-нибудь в углу, наблюдая за дядей с тем благоговейным страхом, с каким смотрят на грозовую тучу.
Образование юного князя началось рано – как только ему минуло пять лет. К нему приставили дьяка Фёдора Хворостинина, человека учёного, побывавшего в Литве и даже в Немецкой земле, знавшего латынь и греческий, увлечённого новыми идеями, что проникали на Русь с Запада вместе с книгами, товарами и слухами о далёких странах. Хворостинин был невысок ростом, сутуловат, с длинными пальцами, вечно испачканными чернилами, и с глазами, в которых светился огонёк фанатичной преданности знанию. Он учил Михаила не только церковнославянской азбуке и счёту, но и основам риторики, началам геометрии – науки, необходимой для фортификации, – и даже немного латыни, языка, который в те годы считался полуеретическим, но был необходим для чтения военных трактатов, приходивших с Запада.
– Княже-государь, – говаривал Хворостинин, склоняясь над расстеленной на столе картой, где были начертаны границы Московского государства, Речи Посполитой и Шведского королевства, – запамятуй себе крепко: бранное дело нынешнего времени – не токмо ратное поприще есть, но художество, ума требующее не менши, нежели дерзости. Немцы нидерландские городы по хитростным чертежам созидают, ландскнехты немецкие в строю стоят, яко един человек, а наши воеводы всё на старинный обычай уповают да на Божию милость. Но времена, княже, лихие приходят, и кто новой науки не приимет – тот в первом же сече погибель обрящет.
Михаил слушал, затаив дыхание, вглядываясь в линии границ, в названия городов – Смоленск, Новгород, Псков, Нарва, – и в его детской душе рождалось какое-то смутное, но властное желание понять, как устроен этот большой, сложный мир, где сталкиваются царства, где решаются судьбы народов, где каждый шаг на шахматной доске истории может обернуться либо триумфом, либо катастрофой.
Но книжная учёность была лишь одной стороной воспитания. Другой, не менее важной, было обучение воинскому делу. Как только Михаилу исполнилось десять лет, отец распорядился приставить к нему опытного дворянина, князя Артемия Измайлова, человека уже немолодого, израненного в боях с крымскими татарами, но всё ещё крепкого и полного сил. Измайлов был из тех, кого в народе называли «служилыми до последнего дыхания» – грубоватым в речах, но честным до щепетильности, преданным государеву делу так, словно оно было его личным. У него было широкое, обветренное лицо, испещрённое шрамами, рыжеватая борода, в которой уже пробивалась седина, и руки – большие, узловатые, привычные к мечу и копью, а не к перу.
– Ну, княже-батюшко, – молвил Измайлов в первый день учения, окидывая Михаила оком мытарным, – поглядим, какова в тебе крепость есть. Род у тебя именитый, родитель ратный, а вот сам-то ты каков в деле – то ещё Господь весть. Возьми-ка вот сей меч. Не убойся, отроческий он, лёгкий. Покажи, како держати умеешь.
Михаил взял меч – деревянный, учебный, но всё же тяжёлый для его детских рук – и попытался принять стойку, которую видел у отцовских дружинников. Измайлов подошёл, поправил хват, развернул плечи, подтолкнул коленом ногу в нужное положение.
– Сице годнее будет. Запамятуй, княже: в сече всё в первое мгновение решается. Кто борзее ударит, кто вернее прицелится – той и жив останется. Дерзость – дело благое, но без умения она ничтоже есть. Я видал храбрецов, что полегли в первой же сече, понеже щита держати не ведали како. И видал умельцев, что до седин дожили, хоть в бранях без счёту бывали. Разумеешь ли, к чему речь веду?
– Разумею, Артемий Фёдорович, – отвечал Михаил, и голос его, ещё отроческий, звенел от волнения. – Учитися надобно.
– Ей-ей, учитися. Всяк день, всяк час. Меч должен яко рука твоя стати, а конь – яко ноги твои. И тогда, княже, авось доживёшь до того, чтоб государю верно послужити.
Так начались годы учения – суровые, изнурительные, но наполненные тем особым счастьем, которое испытывает человек, чувствуя, как в его теле и разуме пробуждаются новые силы. Каждое утро, едва забрезжит рассвет, Михаил вставал с жёсткой постели, умывался ледяной водой из медного таза и спешил во двор, где его уже ждал Измайлов. Там, в просторном дворе, обнесённом высоким частоколом, под присмотром опытного воина, мальчик осваивал азы ратного дела: учился владеть мечом и копьём, стрелять из лука, ездить верхом – сперва на смирной кобыле, а потом на норовистом жеребце, который не раз сбрасывал его на мёрзлую землю, оставляя синяки и ссадины, но вместе с тем закаляя волю и характер.
Зимой тренировки не прекращались. Напротив, Измайлов утверждал, что зима – лучшее время для воина, потому что она учит терпению и выносливости. Они выезжали за город, в леса, покрытые глубоким снегом, и там, среди застывших елей и молчаливых берёз, Михаил учился выслеживать зверя, разводить огонь в лютый мороз, строить укрытия из веток и снега. Иногда к ним присоединялись другие молодые дворяне – сыновья боярских родов, будущие воеводы и ратники, – и тогда устраивались настоящие потешные бои, где мальчики, разделившись на две партии, сражались друг с другом деревянными мечами и палицами, а Измайлов стоял в стороне, наблюдая за схваткой и время от времени крича указания или насмешливые замечания.
Но не только воинское мастерство постигал юный Скопин. Не менее важной частью воспитания было умение держаться при дворе, вести себя на пирах и приёмах, разбираться в сложной паутине родовых связей, милостей и немилостей, интриг и союзов, из которых состояла жизнь московской знати. Этому учила сама жизнь – каждый выход в город, каждое посещение Кремля, каждая встреча с родственниками и знакомыми превращались в урок, где нужно было угадать, кто в фаворе, кто в опале, чьё слово сейчас имеет вес, а чьё – лишь пустой звук.
Михаил быстро научился замечать эти тонкости. У него был острый, цепкий ум, схватывавший на лету самые сложные вещи, и память, способная удержать в себе множество деталей. Он замечал, как меняются лица бояр, когда при дворе заходит разговор о том или ином человеке, как тускнеют глаза одних и загораются глаза других, как в воздухе повисает невидимое напряжение, словно перед грозой. Он запоминал имена, родственные связи, старые обиды и новые союзы – и всё это складывалось в его сознании в сложную, но понятную картину, в которой каждый играл свою роль, а сам он, Михаил Скопин-Шуйский, был лишь одной из фигур на огромной шахматной доске, управляемой невидимыми руками судьбы и власти.
Московский двор был местом, где сходились все нити государственной жизни. В Грановитой палате, под высокими сводами, расписанными библейскими сценами, собирались бояре и дьяки, воеводы и приказные люди, чтобы обсуждать дела ратные и мирские, судить провинившихся и награждать отличившихся. Сам царь Фёдор Иоаннович, тихий и богомольный, мало вмешивался в государственные дела, предоставив управление своему шурину, Борису Годунову – человеку умному, расчётливому и безжалостному, чья фигура уже тогда бросала длинную тень на всё, что происходило в Московском государстве.
Михаил впервые увидел Годунова, когда ему было двенадцать лет. Это было на приёме в Кремле, куда отец взял его с собой. Они стояли в толпе бояр и дворян, ожидая выхода царя, и вдруг в зале появился он – Борис Фёдорович, в богатом кафтане из золотого атласа, с высокой горлатной шапкой на голове, с лицом умным и непроницаемым, в котором читалась сила воли и готовность идти к цели любыми путями. Годунов прошёл мимо, не удостоив никого взглядом, и в его следе остался лёгкий запах мускуса и какая-то холодная, властная аура, от которой становилось не по себе.
– Се есть он, княже, – тихо промолвил отец, чуть склонившись к самому уху Михаила. Его голос был низким, как гул далёкого колокола, а взгляд – настороженным и холодным. – Запечатлей сей лик в памяти своей. Сей человек Русью правит паче самого царя. И доколе он жив и у власти пребывает – никто из нас покоя не имеет.
Михаил медленно повернул голову. Среди толпы придворных, словно отделённый от них невидимой стеной, шёл Борис Годунов. Его походка была уверенной, плавной, и в каждом жесте чувствовалось достоинство человека, привыкшего приказывать. Но что-то ледяное, неуловимое, было в его лице – как в гладкой поверхности зимнего озера, под которой таится глубина и мрак.
– Почто, батюшка? – вопросил Михаил, не сводя очей с удаляющейся фигуры.
Отец помедлил, будто взвешивая слова, и ответил уже тише, почти шёпотом:
– Понеже не есть он боярин по крови, а человек выскочный. И того ради всегда ему надобе доказывати, яко достоин есть сидети близ венценосного. Многое творит он для Руси – умён, расчётлив, не ленив, не безумен: пути устрояет, казну бережёт, порядок держит крепко. Но всё сие – дабы власть в руках своих утвердити покрепче.
Он выпрямился, глядя вслед Годунову, и тихо добавил, с горечью, почти пророчески:
– Токмо вот государь… не возможет он заслонити его собою. Не возможет, Михаил. Борис правит Русью, а не покроет царя – ни делом, ни сердцем. И того ради страх идёт от него, а не мир. Запомни сие.
Михаил кивнул, и в его душе шевельнулось какое-то смутное чувство – не то страха, не то презрения, не то интереса к этому человеку, который одним своим присутствием мог заставить умолкнуть целую палату знатнейших бояр.
Но самым важным событием тех лет – событием, которое определило многое в дальнейшей судьбе Михаила, – стал случай, произошедший весной 1601 года, когда ему было пятнадцать. К тому времени он уже был не мальчиком, а юношей – высоким, стройным, с тёмными волосами и серыми глазами, в которых светился острый, пытливый ум. Он хорошо владел мечом и копьём, прекрасно держался в седле, знал латынь и немного немецкого, разбирался в основах фортификации и пушкарского дела – словом, был именно таким, каким и должен быть молодой боярский сын, готовящийся к службе государю.
В тот год при дворе зашла речь о реформах в войске. Годунов, всегда озабоченный укреплением государства и собственной власти, решил ввести новые порядки в ратном деле – по образцу немецкому и шведскому, где пехота и конница действовали в строгом порядке, где пушкарское дело играло решающую роль, а не было просто подспорьем для лихих наездов дворянской конницы. Для обсуждения этих вопросов был созван военный совет, на который пригласили не только старых воевод, но и молодых дворян, дабы приучать их к ратной думе.
Отец взял с собой Михаила. Они пришли в приказную избу, где уже собрались человек двадцать бояр и воевод, среди которых Михаил узнал князя Мстиславского, князя Воротынского, окольничего Романова и других знатных людей. Все они сидели за длинным столом, покрытым сукном, а во главе восседал сам Борис Годунов, перед которым лежали свитки с планами и расчётами.
– Господа бояре, – начал Годунов голосом ровным и твёрдым, – дело, о немже днесь глаголати хощем, касается самаго нужнейшаго – бережения государьства нашего. Весте вси, яко суседи наши – ляхове, свеи, крымцы – не дремлют и токмо чают удобна времени, дабы нападати на Рускую землю. А мы что? Мы по-прежнему надеемся на старые обычаи, на конницу дворянскую, яже добра есть в набегех, но не пригодна для бранеи великих. Подобает преимати художество западных держав, идеже воинство устроено по науке ратной. Мышлю учинити полки новаго строю – солдатские, навычены офицерами немецкими и голландскими. Что на се речете?
Воцарилось молчание. Старые воеводы переглядывались, и на их лицах было написано недовольство. Наконец, один из них, князь Мстиславский, седобородый и грузный, прокашлялся и заговорил:
– Борисе Феодоровичу, с должным почитанием к тебе, обаче мнится ми, яко затея сия – дело опасливое. Мы, людие руские, искони воевахом по-своему, и Бог нам поспешествовал. На что нам переимати обычаи немецкие? Да ещо и ратников чужеземных призывати? Они ни веры нашея православныя не ведают, ни Руси не радеют. Како можно им верити?
Годунов усмехнулся – холодно и чуть презрительно:
– Княже Иване Феодоровичу, разумею опасения твоя. Обаче дело не в вере, но в умении ратном. Немцы воевати горазды – сие есть ведомо. И аще хощем противостати ляхом и свеем, подобает учитися у них. А ратницы – они служат за жалованье, и верны будут, дондеже им плату дают исправно. Да и не едины немцы – суть и свои люди, ихже можно навыкнути строю новому.
– А аз вот мышлю, – вмешался другой боярин, князь Воротынский, человек помоложе Мстиславского, но не менее консервативный, – яко все сие замышлено не к пользе государьства, но ко возвеличению твоему, Борисе Феодоровичу. Учинишь полки новые, подчинены тебе единому, и будешь с помощию их держати в страсе бояр и весь народ.
Годунов вспыхнул – впервые за весь разговор в его глазах мелькнул гнев:
– Княже Михаиле Петровичу, забываешися! Служу аз государю и государьству, а не себе самому. И аще кто от вас, господа бояре, не разумеет сего, то тем горше ему!
Напряжение в избе достигло предела. Все замолчали, и в этой тишине вдруг раздался голос – молодой, но твёрдый:
– Попусти ми слово рещи, боярине Борисе Феодоровичу?
Все обернулись. Говорил Михаил Скопин-Шуйский. Отец схватил его за рукав, пытаясь остановить, но было уже поздно. Годунов удивлённо поднял брови:
– А ты кто таков еси?
– Михаило Васильевич Скопин-Шуйский, сын князя Василия Михайловича.
– Ну что ж, уноше, глаголи. Любопытно послушати, что мыслит племя младое.
Михаил встал, и все взгляды устремились на него. Он чувствовал, как колотится сердце, как пересыхает во рту, но заставил себя говорить ровно и внятно:
– Мнится ми, яко спор сей безплоден есть, понеже и сии, и оны правы. Ей, немцы воюют по науке ратной, и нам есть чему у них поучитися. Но и старые воеводы правы, глаголюще, яко Русь искони воевала по обычаю своему. Вопрос в том, како совокупити едино с другим. Думаю, яко не подобает отметатися конницы дворянской – она искони была крепостию рати нашея. Но подобает прибавити к ней полки новаго строю – пехоту, навычену стреляти залпами, и наряды огнестрельные, могущие пробивати стены градские. И главное – подобает, дабы конница и пехота действовали сообща, аки един состав. Тогда будем крепчае и немцев, и ляхов.
Воцарилось молчание. Михаил стоял, ощущая на себе десятки взглядов – одни насмешливые, другие задумчивые, третьи откровенно враждебные. Наконец, Годунов медленно кивнул:
– Любопытно. Зело любопытно. Значит, предлагаеши не ломати стараго, но дополняти его новым?
– Именно тако, боярине Борисе Феодоровичу.
– А како, по мнению твоему, достигнути того, дабы конница и пехота действовали сообща? Ведаеши ли, яко дворяне презирают пехоту, почитают ея делом низким, холопским?
Михаил на мгновение задумался, потом ответил:
– Подобает показати им на деле, яко пехота может решити исход брани. Учинити учения воинская, идеже конница и пехота будут действовати вкупе. Да узрят, яко строй пехотный может удержати конницу вражескую, а наряды огнестрельные – разорити укрепления. Тогда и гордыня поубавится.
Годунов усмехнулся – на этот раз без холодка, почти по-доброму:
– Млад ты, княже Михаиле Васильевичу, и многаго ещо не ведаеши. Обаче мысль у тебе верная. Запомню аз тебе. Может статися, ещо пригодишися.
Но не все разделяли одобрение Годунова. Князь Мстиславский поднялся, и лицо его было красным от гнева:
– Что се есть за безобразие?! Отрок, млеко на устнах не обсохло, а он туды же – поучает старейших! Да како дерзаеши ты, щенок, лезти в дела, ихже не смыслишь?! У нас, бояр, обычай есть: младые внемлют старейшим и молчат. А ты возмечтал о себе, яко паче всех мудр еси!
Михаил побледнел, но не отступил:
– Прости, княже Иване Феодоровичу, но не хотел никого обидети. Токмо изрек мнение свое, понеже меня вопрошали.
– Не вопрошал тебе никто! – возгласил Мстиславский. – И вообще, кто ты таков еси? Шуйские искони горделивцы были и крамольники. Вот и ты в отца уродился!
Отец Михаила вскочил, и рука его легла на пустые ножны:
– Княже Иване Феодоровичу, не дерзаю тебе прерывати, обаче молю не оскорбляти ни мене, ни сына моего. Мы, Шуйские, служим верою и правдою, и никто не смеет покидати на нас поношения в измене!
Зал взорвался криками. Бояре вскакивали с мест, размахивали руками, кричали друг на друга. Годунов поднял руку, призывая к тишине, но его не слушали. И вдруг посреди этого хаоса Михаил почувствовал, как в нём поднимается волна ярости – не на Мстиславского, не на Годунова, а на всю эту систему, где молодым не дают слова, где старые обычаи душат всякую попытку думать по-новому, где родовая спесь важнее пользы государства. Он сжал кулаки, но промолчал. Промолчал, потому что понял: здесь, в этой избе, его слова ничего не изменят. Но когда-нибудь – когда-нибудь он докажет, что был прав.
Вечером того же дня отец вызвал его к себе. Они сидели в тёмной горнице, освещённой только одной свечой, и между ними лежала тяжёлая тишина.
– Безумство учинил еси, Михайло, – наконец сказал князь Василий Михайлович, и голос его был усталым. – Стяжал еси себе недругов средь боярства. Мстиславский не отпустит тебе сего. И Годунов такожде – нынешним днём похвалил тя, обаче не льстися. Запечатлел тя в памяти своей, и се – зло есть, понеже Борис Фёдорович николиже не забывает тех, кои разумом его превосходят.
– Отпусти ми, батюшко, – тихо ответил Михаил. – Но не мог аз безмолвствовати. Препирахуся бо о том, како спасти Русь, а воистину кийждо помышлял токмо о своих корыстех. Срам ми бысть велий.
Князь Василий Михайлович вздохнул и положил тяжёлую руку на плечо сына:
– Разумею тя, чадо. Разумею. Сам в младости таковым бых – пламенным, правдолюбивым. Обаче житие научи мя, яко правда не присно побеждает, а честность многажды путь кажет на плаху. Подобает тебе запомнити: живём во времена страшлива. Государь немощен, Годунов всесилен, бояре грызутся меж собою, аки псы о кость. И в брани сей удобь есть погибнути, аще не навыкнеши безмолвствовати, егда потребно, и глаголати, егда се безопасно есть.
Михаил поднял глаза на отца, и в сумраке горницы их взгляды встретились – взгляд старшего, умудрённого горьким опытом, и взгляд младшего, ещё не растерявшего веры в то, что мир можно изменить к лучшему.
– Но аще вси безмолвствовати будут, батюшко, – медленно проговорил он, – то кто же речёт истину? Кто помыслит не о себе самом, а о государстве?
Князь Василий Михайлович усмехнулся – печально и как-то обречённо:
– Воистину тако. Кто? И сего ради те, кои дерзают истину глаголати, зле кончают. Воззри на судьбу тех, кои прекословили Годунову. Богдан Бельский – в ссылку послан. Романовы – в опале. Много ли их осташася, смельчаков-то? Ни, чадо, не подобает лезти поперёк батьки в пещь. Служи верою и правдою, обаче главу береги.
– А аще единожды доведётся избирати – служити верою и правдою или главу беречи?
Отец долго молчал. Свеча оплывала, и тени в горнице становились всё гуще, всё глубже, словно сама тьма наползала на них, предвещая грядущие беды.
– Тогда избирай по совести, – наконец сказал князь Василий Михайлович. – Обаче веждь: избрание се может стояти тебе живота. И мне такожде. И всему роду нашему.
Михаил кивнул. В ту ночь он долго не мог заснуть. Он лежал на своей постели, глядя в темноту, и перед его мысленным взором проходили лица – Годунова с его холодным умом и железной волей, Мстиславского с его боярской спесью и старческим упрямством, отца с его усталой мудростью и скрытой болью. И он понял, что та Москва, в которой он вырос, та Русь, которую он любил детской, безоглядной любовью, – всё это стоит на краю пропасти.
Следующие годы пролетели быстро. Михаил продолжал учиться – и воинскому делу, и дипломатии, и той сложной науке придворного выживания, где одно неверное слово могло стоить карьеры, а то и жизни. Он взрослел, мужал, превращаясь из юноши в молодого мужчину. К восемнадцати годам он уже был высок ростом, широк в плечах, с тёмными волосами, которые он носил по боярской моде – до плеч, и с серыми глазами, в которых светились ум и решительность. Он отлично владел всеми видами оружия, превосходно держался в седле, мог совершить марш-бросок на двадцать вёрст и не выбиться из сил. Но главное – он умел думать. Умел анализировать обстановку, просчитывать ходы противника, находить неожиданные решения там, где другие видели только тупик.
Измайлов, его старый учитель, говаривал с гордостью:
– Из тебе, княже, толк выйдет. Не на всякий день доведётся сретити человека, в немже глава и руки вкупе трудятся. Обычне либо едино, либо друго. А у тебе – и се, и оно. Блюди себе, не расточай всуе дара сего.
А дьяк Хворостинин добавлял, листая очередной латинский трактат о военном искусстве:
– Можеши стати великим воеводою, Михайло Васильевич. Имаши всё потребное – разум, храбрость, способность учитися. Недостаёт токмо единаго – искуса брани истинныя. Обаче, боюся, искус сей приимеши ранее, нежели восхотел бы.
Глава 3: Шёпот Углича
Зима 1603 года легла на Москву тяжёлым саваном – небо свинцовым пологом нависало над кремлёвскими башнями, а в узких переулках Китай-города студёный ветер гнал колючую поземку, забивался в щели деревянных срубов, выл в печных трубах, словно предвещал недоброе. Морозы стояли лютые, такие, что даже в государевых палатах, где жарко топили изразцовые печи, на стенах выступала изморозь тонкими кружевными узорами. По утрам слюдяные оконца покрывались густым инеем, и сквозь них едва проникал мутный свет короткого зимнего дня.
В эти студёные дни двадцатилетний князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский впервые переступил порог государевых покоев в качестве служилого человека. Юный боярин шёл по длинному переходу Грановитой палаты, где под сводами, расписанными золотом и киноварью, стояла гулкая тишина, нарушаемая лишь мерным скрипом его сафьяновых сапог по каменным плитам. Сердце билось часто, но не от страха – от волнения иного рода, от той торжественной тревоги, какую испытывает молодой сокол, впервые выпущенный с руки сокольничего в большое небо. Михаил знал: отныне каждый его шаг, каждое слово, каждый взгляд будут подвергаться пристальному наблюдению придворных соглядатаев, ибо род Шуйских – не просто знатный, но опасный для царя Бориса Годунова, чья власть, хоть и крепка пока железной рукой, всё же зиждется не на крови Рюриковичей, а на боярском избрании и хитрости.