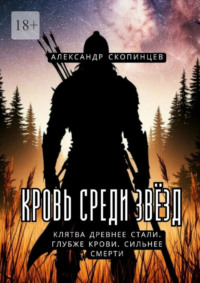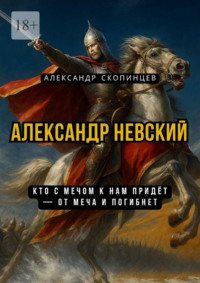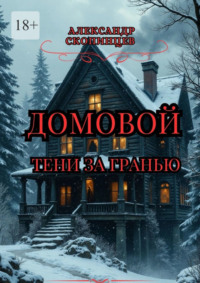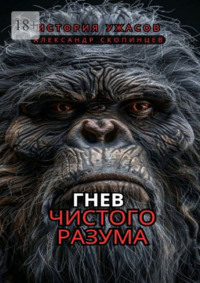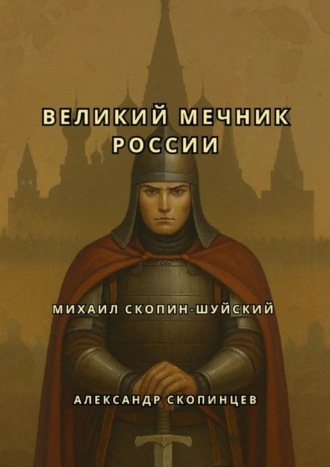
Полная версия
Михаил Скопин-Шуйский. Великий Мечник России
– Несть се сеча, Иване, – тихо сказал Михаил. – Се убийство.
Иван пожал плечами.
– Тебе, може, и убийство. Мне же – правда. Ляхове пришли, мняще себе государи зде. Ино пусть уведают, кто государь на Руси.
Михаил промолчал. Он понимал: для Ивана всё просто. Для него же – нет.
Ночь с 16 на 17 мая 1606 года выдалась душной, несмотря на позднюю весну. Луна пряталась за облаками, и тьма была почти осязаемой. Москва спала беспокойным сном – в Кремле гремел пир, устроенный Дмитрием в честь своей свадьбы с Мариной Мнишек. Польские гости, раскрасневшиеся от вина, горланили песни, а русские бояре сидели с каменными лицами, скрывая ненависть.
Михаил не был на пиру. Он стоял в дозоре у Спасских ворот, где Василий Шуйский велел ему ждать сигнала. Рядом толпились стрельцы – человек двадцать, все верные Шуйским, с бердышами и пищалями. Они молчали, но напряжение было таким густым, что его можно было резать ножом.
Иван Змеев стоял рядом с Михаилом, постукивая рукоятью сабли о стену.
– Вскоре будет, – пробормотал он. – Чую нутром своим.
И тут раздался набат.
Колокола Ивана Великого загудели, как голос самого Страшного Суда, заполняя ночь гулким, леденящим душу звоном. За ними подхватили другие колокола – сначала в Кремле, потом в Китай-городе, потом по всей Москве. Звон был таким мощным, что земля, казалось, дрожала под ногами.
– Ляхове бьют! Ляхове бояр православных истребляют! – заорали стрельцы, бросаясь в ворота Кремля.
Михаил стоял, застывший, словно его приковали к земле. Он видел, как стрельцы рванулись вперёд, как из домов повыскакивали горожане с вилами и топорами, как улицы заполнились толпой, что ревела: «Бей ляхов!»
– Михайло Васильевич! – крикнул Иван, хватая его за плечо. – Гряди! Велено нам князя Василия оберегати!
Михаил очнулся и кинулся следом.
Кремль был объят хаосом. Поляки, разбуженные набатом и криками, выскакивали из теремов в одном исподнем, хватаясь за оружие. Но их встречала толпа – озверевшая, беспощадная. Стрельцы рубили без разбора, горожане добивали раненых вилами. Кровь лилась ручьями, смешиваясь с грязью.
Михаил бежал, сжимая рукоять сабли, но не обнажал её. Он видел, как поляка, молившего о пощаде, швырнули с кремлёвской стены, как другого зарубили прямо на крыльце терема. Крики, стоны, запах крови и пороха – всё это обрушилось на него, как лавина.
– Михайло! Семо! – Иван указал на терем, где засели заговорщики.
Они ворвались внутрь. В горнице стоял Василий Шуйский, окружённый боярами. Он был спокоен, почти равнодушен, словно всё происходящее было лишь театральным представлением.
– Государь? – коротко спросил Голицын.
– Убиен, – ответил кто-то из стрельцов, входя в горницу. Лицо его было забрызгано кровью. – Князь Татев и Воротынский сами его животу лишиша. В хоромах его.
Шуйский кивнул.
– Добро. Ныне народу подобает правду уведати.
Михаил смотрел на дядю, и в душе его что-то оборвалось. Он видел перед собой не спасителя Руси, а человека, что хладнокровно отдал приказ на убийство и теперь готовился пожать плоды.
Утро 17 мая выдалось серым и холодным, словно само небо скорбело о произошедшем. Дождь моросил, превращая Красную площадь в болото, где толпились тысячи москвичей. Они стояли молча, угрюмо, не зная, радоваться ли падению «ляхов» или плакать о царе, которого ещё вчера многие считали истинным Дмитрием.
На Лобном месте – высоком каменном помосте, что возвышался над площадью, – стоял Василий Шуйский. Он был облачён в боярское платье – тяжёлый бархатный кафтан, отороченный соболем, с золотым крестом на груди. Рядом с ним толпились бояре – Голицын, Татев, Воротынский, все в парадных одеждах, но лица их были напряжены.
Михаил стоял в стороне, рядом с Иваном Змеевым и другими стрельцами. Он смотрел на дядю и на толпу, и в сердце его росла тяжесть, что не давала вздохнуть.
Князь Василий поднял руку, и толпа притихла. Голос его был громким, но в нём не было торжества – только суровая решимость.
– Людие православнии! – начал он. – Бог избави нас от беды великия! Той, егоже почитахом государем, бысть самозванец – Гришка Отрепьев, инок беглый, иже продася ляхом! Хотяше веру нашу искоренити, боярство истребити и Русь под власть римскую предати!
Толпа загудела – кто-то в ужасе, кто-то в недоверии.
– Мы, бояре, избавихом вас! – продолжал Шуйский. – Мы Москву от ляхов очистихом! И ныне, по воли земли русския, аз, Василий Иванович Шуйский, князь от роду Рюрикова, венчаюся на царство!
Бояре на помосте грянули:
– Многая лета! Многая лета государю Василию Ивановичу!
Но толпа молчала. Кто-то робко подхватил клич, но большинство стояли, как истуканы, не зная, что делать. Михаил видел лица: одни были испуганы, другие – озлоблены, третьи – просто безразличны. Это не было торжество. Это был кризис.
Старый мужик в рваном зипуне, стоявший неподалёку от Михаила, сплюнул в грязь.
– Вот те на, – пробормотал он. – Вчера государь бяше, днесь самозванец. А завтра кто? Шуйский? Да кто же его избра?
Иван Змеев услышал и повернулся к нему, сверкнув глазами.
– Молчи, старче, аще жити хощеши.
Мужик замолчал, но в глазах его светилось презрение.
Михаил отвернулся. Он понимал: дядя получил корону, но не получил сердец народа. Эта власть была захвачена, а не дарована Богом. И это было начало конца.
Венчание на царство состоялось через два дня, в Успенском соборе. Патриарх Игнатий – сам ставленник Дмитрия, но быстро переметнувшийся к Шуйским, – возложил венец Мономаха на голову Василия. Церемония была пышной, но короткой, словно все спешили закончить её побыстрее.
Михаил стоял в соборе среди бояр и стрельцов. Свет свечей играл на золотых окладах икон, запах ладана был густым, почти удушающим. Он смотрел на дядю, что преклонил колени перед алтарём, и пытался почувствовать гордость, но вместо этого чувствовал лишь пустоту.
Когда патриарх провозгласил:
– Благословен еси, Василие Иванович, царю и великий княже всеа Русии!
Бояре грянули «аминь», но в голосах их не было радости. Только долг.
После церемонии, когда все разошлись, Михаил задержался в соборе. Он стоял перед иконой Спаса Нерукотворного, глядя на суровое, но милосердное лицо Христа, и молился – впервые за много дней.
– Господи, – шептал он, – не вем, прав ли дядя мой. Не вем, праведно ли се, что сотворися. Но молю Тя: не даждь Руси погибнути. Не даждь ей в крови потонути.
Он не получил ответа. Только тишина, густая и тяжёлая, как саван.
Первые дни царствования Василия Шуйского были отмечены не ликованием, а разбродом. Новости о перевороте разлетелись по Руси, как искры от пожара, и каждая искра рождала новый мятеж.
На юге объявился ещё один самозванец – некий Пётр, что выдавал себя за сына царя Фёдора. В Путивле восстал Иван Болотников, казачий атаман, что собрал вокруг себя толпы холопов и недовольных. В Польше шептались о новом походе, чтобы отомстить за убитого «царя Дмитрия».
Михаил видел, как дядя пытается удержать власть. Василий Шуйский рассылал грамоты, клялся перед Богом, что Дмитрий был самозванцем, даже приказал перенести мощи царевича Дмитрия из Углича в Москву, чтобы доказать: истинный Дмитрий давно мёртв. Но эти меры не помогали. Русь не верила. Русь раскалывалась.
Однажды вечером, в конце мая, Михаил сидел с Иваном Змеевым в харчевне на Ильинке. Они пили кислый квас и жевали чёрный хлеб, слушая разговоры за соседними столами.
– Слыхать ли, в Туле Болотников рать собирает? – говорил какой-то торговец, краснолицый от водки. – Сказывают, сам государь Дмитрий Иванович повелел ему на Москву идти!
– Каков Дмитрий, юрод ты этакой? – огрызнулся другой. – Того убиенным учинили! Се новый вор объявился!
– А хто ведает сие? Авось, и вправду царевич спасеся. Авось, Шуйский во лжи глаголет!
Иван хмыкнул и отпил квасу.
– Тако вот и зачинается, – тихо молвил он Михаилу. – Никто уже не ведает, кому веру иметь. Все меж собою супротивники.
Михаил кивнул. Он чувствовал: дядя открыл ящик Пандоры. Убив Дмитрия, он не спас Русь, а обрёк её на годы войны.
– Что будет далее, Иван? – спросил он.
Иван пожал плечами.
– Бог весть. Война, чаю. Долгая да кровавая. – Он посмотрел на Михаила, и в глазах его мелькнуло что-то вроде сочувствия. – А ты, боярин, изготовляйся. Тебе ещё ратовать и ратовать. Зане дядя твой на царство возшёл, а стало быть, и тебе покою не будет.
Той ночью, вернувшись в свою келью, Михаил долго не мог уснуть. Он лежал на постели, глядя в темноту, и перед глазами его проходили картины последних дней: кровь на кремлёвских улицах, мёртвые тела поляков, брошенные в грязь, лицо дяди – торжествующее и холодное, толпа на Красной площади – безмолвная и испуганная.
Он думал о невесте, Александре. Они виделись редко, но её письма были для него опорой – нежные, полные веры и надежды. Она писала о молитвах, о том, что Бог защитит их и Русь. Но теперь Михаил не был уверен, что Бог услышит эти молитвы.
Он закрыл глаза, пытаясь уснуть, но сон не шёл. Вместо него пришло видение: горящая Москва, орды врагов, льющиеся на Русь со всех сторон, и он, Михаил, стоящий один среди руин, с мечом в руке, но не знающий, кого защищать и кого бить.
Он открыл глаза и тихо прошептал в темноту:
– Господи, подаждь ми силы. Подаждь ми премудрости. И отпусти ми, аще грешен есмь.
За окном ветер выл всё сильнее.
Глава 6: Тверской замысел
В теремах Кремля, где воздух был густ от ладана и тревоги, царь Василий Иванович Шуйский водил костлявым перстом по свитку с именами воевод. За спиной его, в полумраке, где свечи едва пробивали сентябрьскую сырость, стояли бояре – старые волки московского двора, чьи лица, изрезанные морщинами интриг, застыли в масках учтивого безразличия.
– Михаила Васильевича Скопина-Шуйскаго, – произнёс царь глухо, будто выдавливая из себя каждый слог, – племянника нашего, отныне воеводою большого полку поставляем. Ему вручаем рать на усмирение бунтовщиков под Москвою.
Тишина, последовавшая за этими словами, была тяжелее колокольного благовеста. Князь Иван Семёнович Куракин, чей седой ус свисал до пояса, а в глазах плескалась холодная ненависть к молодости, медленно, словно нехотя, склонил голову. Рядом с ним князь Дмитрий Михайлович Пожарский Младший сжал губы так, что они побелели. В углу, у окна с мутными слюдяными оконцами, стоял князь Фёдор Иванович Мстиславский, старейший из воевод, участник всех войн от Ливонской до Казанской, и лицо его, покрытое багровой сетью лопнувших жилок, оставалось неподвижным, как у мёртвого.
– Государь, – начал было Куракин, и голос его, привычный к приказам на полях сражений, дрогнул от сдерживаемой ярости, – отрок сей, не видевши двадесяти вёсен ещё…
– Доволе! – оборвал его Василий Шуйский, и в этом окрике прозвучала не столько власть, сколько отчаяние человека, цепляющегося за последние нити родства в море измен. – Михаила Васильевич – кровь наша есть. Род Шуйских древен, аки сама Русь. Ему – полки. Вам же – служити под началом его. Али хощете к Болотникову прибегнути, аки инии бояре?
Последние слова прозвучали ядом, и бояре, стиснув зубы, поклонились. Но Куракин, выпрямляясь, бросил через плечо, едва слышно, но так, чтобы услышали все:
– Чаю, воевода наш юный ведает, с коего конца копие держати.
Смешок пробежал по рядам, короткий, злой, как лязг сабель.
Михаил Васильевич Скопин-Шуйский принял назначение в своём тереме на Варварке, где пахло свежим дубом и воском от новых икон – подарок тётки, княгини Марьи Владимировны. Он стоял у окна, глядя на Москву, что расползалась от Кремля узкими улицами, задымлёнными кузницами и банями, и чувствовал, как внутри него борются два чувства: гордость – жгучая, как первый глоток хлебного вина, – и страх, глухой и липкий, словно болотная трясина.
Он был стольником, участником пиров и охот, где топили в медовухе скуку боярского бытия. Он учился у дьяков грамоте латинской и славянской, читал «Александрию» и жития святых, спорил с греческими монахами о природе Троицы и с немцами-ротмистрами о тактике рейтарского строя. А теперь – воевода. Полки. Тысячи жизней, что пойдут за ним, как стадо за пастухом, не зная, ведёт ли он их к спасению или на бойню.
– Михаила Васильевич, – окликнул его старый дядька Семён, сгорбленный казак, служивший ещё его отцу, – ратнии людие чают. Смотр указан на заутреню.
Михаил кивнул, не отрываясь от окна. За стеклом, в сером свете сентябрьского утра, виднелись крыши посадских изб, а за ними – чернота лесов, где, как говорили гонцы, рыскали отряды Болотникова, жгли боярские вотчины и сзывали холопов под знамёна «истинного царя Дмитрия Ивановича».
– Семёне, – произнёс Михаил тихо, и в голосе его дрогнула струна, которую он пытался скрыть, – не пойдут за мною они. Куракин право молвил. Аз – отрок. Племянник царёв. Назначение моё – милость есть, а не заслуга.
Дядька подошёл, положил тяжёлую ладонь на плечо юноши.
– Не пойдут за тобою, доколе не узрят, яко ты – не токмо племянник. А сие, княже, явишь токмо делом. Словеса в сечи – ничтоже. Меч – всё.
Михаил обернулся, встретился взглядом с дядькой, в чьих глазах плескалась суровая правда человека, пережившего столько войн, что смерть стала для него привычной, как смена времён года.
– Аще же не управлюся?
– Тогда, – Семён усмехнулся кривой усмешкой, обнажив чёрные от табака зубы, – глава твоя станет чашею для коего-либо ляха или мятежника. Но доколе дышиши – мысли не о страсе, но о том, како победити.
Смотр войска был назначен на Девичьем поле, за Москвой-рекой, где осенние дожди превратили землю в месиво грязи, что чмокала под сапогами и копытами. Михаил ехал во главе небольшого отряда – дядька Семён, два оруженосца и дьяк Игнатий, сухой старик с лицом, словно высеченным из вяза, что вёл реестры полков.
Утро было серым, как саван. Небо – низким, тяжёлым от туч, что ползли с северо-запада, неся запах дождя и первого снега. Ветер трепал полы долгополого кафтана Михаила, подбитого соболем – дар царя, слишком тяжёлый для его плеч, но необходимый для того, чтобы ратники увидели: перед ними воевода, а не мальчишка.
Когда они выехали на поле, Михаил замер.
Перед ним стояли полки. Тысяча двести человек – стрельцы в красных кафтанах, с бердышами и пищалями, дворянское ополчение в разномастных доспехах, от старых бахтерцев дедов до кирас немецкой работы, казаки с саблями и копьями, что сидели на низкорослых лошадёнках, и, в стороне, наряд – восемь пушек, обслуживаемых пушкарями в закопчённых зипунах. Запах был удушающим: пот, конский навоз, дым от костров, что курились вдоль строя, прокислый квас и ещё что-то – тлен, гниль, словно сама Беда просочилась в плоть этой рати.
Михаил спешился, ноги его дрогнули от напряжения, когда он ступил в грязь. Дьяк Игнатий развернул свиток:
– Государев воевода большого полку, князь Михаила Васильевич Скопин-Шуйский! – прокричал он старческим, но звонким голосом.
Тишина. Ратники смотрели. Кто-то – с любопытством, как на диковину; кто-то – с плохо скрытой насмешкой. Михаил видел, как у костра стрельцы переглядываются, как один из них – бородач с лицом, обожжённым солнцем и порохом, – сплюнул в огонь. Видел, как дворяне в латах, стоявшие поодаль, сгрудились и шептались, а один из них – молодой, с залихватски закрученными усами – усмехнулся, глядя на Михаила так, будто оценивал жеребца на торгу.
Михаил шагнул вперёд. Сердце билось где-то в горле, руки вспотели под перчатками, но он заставил себя выпрямиться, поднять голову.
– Ратнии людие, – начал он, и голос его прозвучал тоньше, чем хотелось, но твёрдо, – ведаю, о чём помышляете. Зрите предо мною отрока, не обонявшаго зелия огненнаго. Зрите племянника царёва, емуже полки даны по милости, а не по заслугам.
Он сделал паузу. Ветер трепал его волосы, выбившиеся из-под шапки. Где-то в строю кто-то хмыкнул. Михаил продолжил, и теперь в голосе его зазвучала сталь:
– И право глаголете. Не есмь аз Мстиславский, иже ратоваше при Иване Грозном. Не есмь Куракин, иже взя Казань. Но есмь Шуйский. Род мой древен есть, аки земля сия. Учихся у лучших дьяков, чел хроники Александра Македонскаго и Кесаря, слушах немецких ротмистров и греческих иноков. Едино вем: брань – не место гордыни ради. Брань – место победы ради. И аще кто от вас мнит, яко поведу вас на смерть славы имени моего ради, той прельщается. Поведу вас к победе. Или усну.
Тишина стала другой. Настороженной.
– Не молю вас веровати ми. Молю вас последовати за мною. И аще окажуся недостоин – можете оставити мя на поле брани и идти ко царю с челобитием. Но доколе жив есмь – вы мои есте. И аз – ваш.
Он замолчал. Дьяк Игнатий за его спиной тяжело дышал. Дядька Семён кашлянул – то ли одобрительно, то ли скептически.
Первым заговорил старый стрелец – тот самый бородач, что плюнул в костёр. Он встал, опираясь на бердыш, и голос его был грубым, как кора дуба:
– Княже, словеса – баба-ворожея на торгу: всяк обещает, да не всяк держит. Яви нам дело – тогда и судити станем.
Михаил кивнул:
– Дело явлю. Заутра на разсвете подвизаемся ко Коломенскому. Болотников жжёт сёла у Каширския дороги. Мы остановим его.
– А како остановим, княже? – возопил кто-то из дворян, и в голосе его звучала издёвка. – Станем ли чести ему Александрию?
Смех прокатился по рядам, короткий, нервный.
Михаил повернулся к голосу. Это был тот самый молодой дворянин с усами. Михаил смерил его взглядом, холодным, как лёд на Москве-реке:
– Не Александрию, но урок, каковый бывает цена насмешки над воеводою. Имя твоё како?
Дворянин помялся, потом выпалил:
– Степан Годунов, сын боярский.
– Годунов, – повторил Михаил, и в голосе его не было злобы, только ледяное спокойствие. – Заутра ты поведеши передовой полк. Аще насмехатися умееши паче, нежели битися, – уразумеем сие первые.
Годунов побледнел. Смех оборвался. Ратники переглянулись.
Михаил развернулся и пошёл к своему коню. Сердце стучало бешено, но на лице его не дрогнул ни один мускул. Он знал: они смотрят ему в спину. Он знал: они ждут, когда он споткнётся, упадёт, выкажет слабость.
Но он не споткнулся.
Ночь перед походом Михаил провёл без сна. В его шатре – наспех поставленном на Девичьем поле, где войско готовилось к выступлению, – горела сальная свеча, чадящая и чёрная, словно предвестник того, что ждало впереди. Он сидел за столом, заваленным картами, что принёс дьяк Игнатий, – грубые, неточные чертежи окрестностей Москвы, где реки текли не там, где надо, а сёла стояли на местах, где их никогда не было.
– Коломенское, – бормотал он, водя пальцем по пергаменту. – Каширская дорога. Болотников жжёт Тёплый Стан и Узкое. Значит, он движется к Москве с юга. Но где его главный стан? Где пушки? Где…
– Княже, – окликнул его Семён, входя в шатёр с ковшом кваса, – не спиши третию нощь. Заутра брань. Подобает крепости.
Михаил поднял глаза. Лицо его было бледным, под глазами залегли тени.
– Семёне, не вем, что творити. Карты – лож есть. Вести – слухи. Ратнии людие – не веруют. А аз… – он осёкся. – Боюся.
Дядька поставил ковш, сел напротив. Свеча между ними плясала, бросая тени на стены шатра.
– Чего боишися?
– Яко поведу их не тамо. Яко умрут. Яко посрамлю имя Шуйских. Яко…
– Яко не окажешися храбром? – Семён усмехнулся. – Княже, храбрии – в былинах. В животе – токмо тии, иже творят еже подобает, аще и страшно. Мнишися ли, Мстиславский не бояшеся под Казанию? Или Воротынский под Молодями? Бояхуся. Но идяху. И ты пойдеши. А страх – не враг есть. Сей – компас. Являет, идеже ставка велика.
Михаил кивнул, хотя слова дядьки не прогнали тьму из его души. Он взял ковш, выпил квас – кислый, холодный, обжигающий горло. За стенами шатра слышались голоса ратников, смех у костров, бряцание сабель. Жизнь шла своим чередом, равнодушная к его страху.
Он вернулся к картам. И тут, в мерцании свечи, его взгляд зацепился за одну деталь. Река. Пахра. Она текла от Коломенского к югу, петляя меж холмов. Если Болотников шёл по Каширской дороге, он должен был пересечь её. Но где? Где бродов достаточно для обоза?
– Семёне, – позвал Михаил, и в голосе его зазвучала новая нотка – не страх, а азарт, – обрящи ми коего-либо, иже ведает Пахру. Местнаго. Крестьянина, купца – всё едино. Требую бродов.
Дядька кивнул и вышел. Михаил остался один. Он смотрел на карту, и в голове его начинали выстраиваться линии, словно шахматные ходы: если Болотников у Пахры, если броды здесь, то удар с фланга… Если пушки поставить на холме…
Он не заметил, как прошла ночь. Когда Семён вернулся с крестьянином – стариком в залатанном зипуне, что пах дёгтем и навозом, – за стенами шатра уже брезжил рассвет, серый и холодный, как клинок.
Марш к Коломенскому начался на рассвете, когда туман ещё стелился по Москве-реке, превращая мир в призрак. Ратники выступили строем: впереди – казаки-разведчики, что скакали лёгкой рысью, высматривая засады; за ними – авангард, где Степан Годунов, бледный и молчаливый, вёл сотню дворян; в центре – стрельцы, чьи красные кафтаны были единственным ярким пятном в сером утре; позади – обоз с припасами и пушками, что скрипели на колёсах, вязнув в грязи.
Михаил ехал во главе, на вороном коне – подарок царя, слишком горячем для неопытного всадника, но красивом, с белой звездой на лбу. Рядом с ним – дядька Семён и дьяк Игнатий, что вёл роспись полков. За спиной – стрелец Иван Змеев что был приставлен к Михаилу как телохранитель и, как подозревал князь, соглядатай Куракина.
Дорога петляла меж лесов – дубрав и ельников, что стояли чёрной стеной, откуда доносились крики птиц и треск валежника. Воздух был влажным, пахнущим гнилыми листьями и дымом от далёких пожаров. Михаил видел на обочинах следы войны: сожжённые избы, чьи остовы торчали, как чёрные зубы; брошенные телеги; труп лошади, раздутый, облепленный воронами.
– Болотников зде мимоходом был, не далее сего, – пробормотал Семён, глядя на дым вдали. – День един, не боле того.
– Стало быть, близко есмы, – ответил Михаил. Его ладони вспотели под перчатками, сжимающими поводья. Он чувствовал, как внутри него туго скручивается пружина – не страх, а что-то иное. Предчувствие.
К полудню они вышли к Пахре. Река текла медленно, тяжело, цвета ржавчины от осенних дождей. На том берегу, среди ив и камышей, Михаил увидел следы: лошадиные копыта, колеи от телег, сломанные ветки костров. Лагерь. Свежий.
– Стояли тамо, – сказал Семён. – Да отошли. Камо же?
Михаил спешился, подошёл к кромке воды. Он вглядывался в противоположный берег, пытаясь увидеть то, что знал из карт и слов крестьянина. Там, за ивами, должен был быть холм. Невысокий, но достаточный, чтобы поставить пушки и контролировать брод.
– Игнатие, – позвал он, не оборачиваясь, – где, по твоим росписям, главная рать Болотникова?
Дьяк развернул свиток:
– Гонцы возвещают: у Тёплаго Стана. Три тысящи воров, двенадцать пушек.
– Три тысящи, – повторил Михаил. – Мы же – тысяща двести. И ведают они, яко идём.
– Княже, – подал голос Иван Змеев, подъехав ближе, – не лучше ли послати гонца ко государю? Просити подмоги?
Михаил обернулся. Стрелец смотрел на него настороженно.
– Подмога идёт три дни, – ответил Михаил. – За три дни Болотников дойдёт до Москвы-града. Не буди тому. Ударим ныне.
– Како же? – Голос был резким, почти грубым. – Княже, мы в меншестве. Они на своей земле суть. У них наряд пушечный.
Михаил посмотрел на Змеева долго, не мигая. Потом медленно улыбнулся – улыбкой, в которой не было радости, только холодная решимость:
– У них наряд пушечный есть. А у нас – нечаяние. И ведание мест. Собери воевод. Зело скоро.
Совет был коротким. Михаил стоял у импровизированного стола – доски, положенной на два чурбана, – а вокруг него теснились командиры: Степан Годунов, всё ещё бледный; сотник стрельцов Афанасий Бутурлин, коренастый, с руками, как у кузнеца; атаман казаков Иван Заруцкий, чернобородый и насмешливый; дьяк Игнатий и Семён.
– Болотников у Тёплаго Стана, – начал Михаил, ткнув пальцем в карту. – Три тысящи. Мы же – тысяща двести. Коли поидём в прямое дело, сомнут нас.
– Про что же пришли есмы? – усмехнулся Заруцкий. – Княже, али воротимся ко государю-батюшке, испросим благословение?
Михаил не ответил на провокацию. Он продолжил, водя пальцем по карте:
– Но Болотников не чает нас зде. Мнит, яко придём с севера, по Каширской дороге. Право. Яко все воеводы пред мною.
– А мы не поидём право? – подал голос Бутурлин.
– Ни. Обоидём. Зде, – Михаил ткнул в точку на карте, где Пахра петляла, – есть брод. Мужик сказывал: мелок, а проходим. Переберёмся нощию. Тихо. Без огней. К утру выидем к Тёплому Стану с востока. Болотников будет зрети на север. Мы же ударим во тыл.