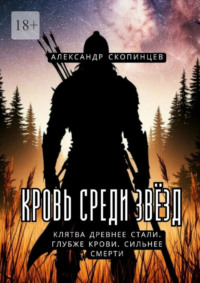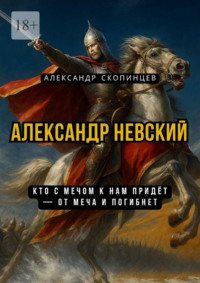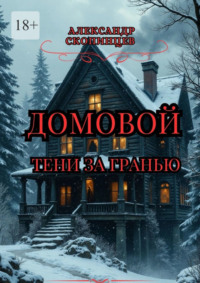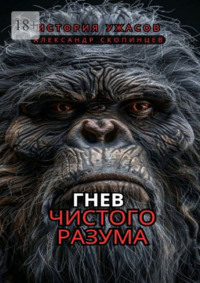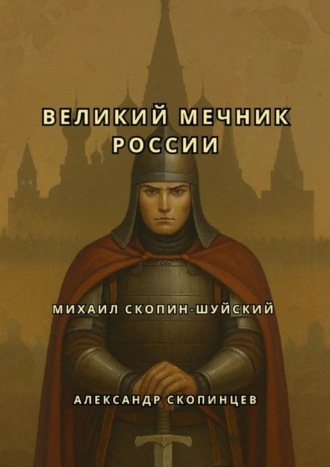
Полная версия
Михаил Скопин-Шуйский. Великий Мечник России

Михаил Скопин-Шуйский. Великий Мечник России
Александр Скопинцев
Иллюстратор Александр Скопинцев
© Александр Скопинцев, 2025
© Александр Скопинцев, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0068-6066-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРОЛОГ
Век шестнадцатый догорал, словно свеча в промёрзлой келье, и пламя его чадило зловещим дымом над всей Европой. Солнце, что прежде щедро дарило тепло нивам и виноградникам, внезапно утратило свою милость – будто сам Господь отвернулся от грешного мира. С исхода восьмидесятых годов зимы становились всё свирепее, лета – короче и холоднее, а небеса словно окаменели, источая не благодатные дожди, но ледяные ливни и град, что побивал всходы на корню. Учёные мужи в Падуе и Праге шептались о странных знамениях: ледники в Альпах наползали на деревни, как белые чудовища; Темза и Рона замерзали так крепко, что по льду водили ярмарки; а на севере, в землях скандинавских, рыбаки находили в морозных водах рыб, застывших в толще льда, словно в янтаре.
Это было время, когда природа сама восстала против человека – малый ледниковый период, как нарекут его потомки, обрушился на Европу с яростью библейских казней. Неурожаи следовали один за другим, подобно волнам цунами. В Испании, где золото Нового Света текло рекой, крестьяне питались корой и травой, ибо хлеб стоил дороже серебра. Во Франции, истерзанной религиозными войнами, голод пожирал целые провинции – Бретань и Нормандия обезлюдели, как после чумы, а дороги кишели толпами беженцев, что брели на юг, гонимые холодом и отчаянием. Германские княжества, раздробленные на сотни мелких владений, стонали под бременем неурожаев: в Баварии вспыхнули крестьянские бунты, подавленные с такой жестокостью, что реки окрашивались кровью; в Саксонии города запирали ворота, не пуская голодных из деревень, и у стен гремели проклятия обречённых.
Старый мир, держав и династий трещал по швам, словно обветшалое здание под напором бури. Империи, что веками казались незыблемыми, вдруг обнаружили, что их фундаменты подточены – голодом, религиозными распрями, войнами за престолонаследие. Священная Римская империя, некогда могучая, превратилась в лоскутное одеяло из враждующих княжеств, где католики и протестанты точили ножи, готовясь к большой войне. Испания, владычица морей и Нового Света, увязала в нескончаемых конфликтах с Англией и Нидерландами, растрачивая американское золото на наёмников и флотилии. Франция, истерзанная гугенотскими войнами, едва держалась на плаву под властью Генриха IV, что с трудом мирил католиков и протестантов. Османская империя, гигантский левиафан на юге, продолжала давить христианские государства, но и в её недрах зрели смуты – янычары бунтовали, провинции отпадали, а султаны менялись с пугающей частотой.
На севере Европы разворачивалась своя драма. Швеция и Дания, вечные соперники за господство на Балтике, бились не на жизнь, а на смерть. Польша, величавая Речь Посполитая, что считала себя оплотом христианства меж православным Востоком и протестантским Севером, переживала свой золотой век – но золото это было хрупким, ибо державу раздирали внутренние противоречия. Магнаты, польская знать, правили страной почти без оглядки на короля, и каждый из них мнил себя государем в своих владениях. Сейм, парламент шляхты, где любой депутат мог наложить вето на любое решение, превращал управление страной в бесконечный торг. А король Сигизмунд III Ваза, что унаследовал польскую корону в девяносто втором году, мечтал о большем – он был сыном шведского короля и претендовал на шведский престол, утраченный в борьбе с дядей. Его амбиции простирались далеко: три короны – Польши, Швеции и, быть может, ещё какой-нибудь державы на востоке – вот что грезилось ему в бессонные ночи.
В самой Польше голод терзал Мазовию и Малопольшу не меньше, чем прочие земли Европы. Морозы выжигали посевы, и паны, привыкшие к роскоши, вдруг обнаружили, что их амбары пусты, а крепостные разбегаются в леса, предпочитая волчью жизнь неволе. В Кракове и Варшаве ходили слухи о странных видениях: мол, в небе являлись кресты и мечи, предвещая войны, а в Вильно, говорили, из реки Вилии вышел огромный бык, чёрный как ночь, и исчез в лесах, оставив на берегу следы, что дымились серой. Народ крестился и шептал молитвы, чувствуя, что грядут перемены. А магнаты и шляхта, собираясь в своих палатах за кубками венгерского вина, поглядывали на восток с интересом, что день ото дня становился всё острее. До них долетали обрывки вестей – осколки слухов, что передавали купцы, возвращавшиеся с ярмарок в Смоленске и Пскове, шпионы, что слонялись по пограничным корчмам, беглые монахи и авантюристы, что искали счастья в чужих землях.
Говорили, что в Московии творятся странные дела. Царь Иван Грозный, что полвека держал державу в железном кулаке, умер в восемьдесят четвёртом году, оставив трон слабому сыну Фёдору. Новый царь, говорили, более склонен к молитвам и колокольному звону, нежели к ратным делам и управлению государством. Власть перешла в руки бояр, что грызлись меж собой, словно псы над костью. Династия Рюриковичей, что правила веками, истончалась, как нить, готовая оборваться. А ведь у Фёдора не было наследника – был, правда, младший брат, царевич Дмитрий, но он был дитя, и судьба его туманна. Если царь умрёт бездетным, кто займёт престол? Этот вопрос витал в воздухе, как коршун над полем битвы, и каждый, кто слышал о нём, понимал: там, на востоке, назревает что-то большое.
Для польских магнатов эти вести были как мёд на язык. Московия – огромная держава, что простиралась от Балтики до Урала, от Белого моря до Дикого поля, – всегда была и врагом, и соблазном. Веками Речь Посполитая и Московское государство бились за пограничные земли: Смоленск, Северщину, Псков. При Грозном Москва воевала с Польшей и Литвой за Ливонию, и война та длилась четверть века, изнурив обе стороны. Потом был мир, шаткий и ненадёжный, но теперь, когда Московия слабела, а её правители казались неспособными удержать власть, паны нашёптывали друг другу: «Пришла пора. Пора взять своё – Смоленск, Псков, Новгород. Пора утвердить католическую веру в схизматическом царстве. Пора завладеть богатствами, что Москва копила веками: мехами, воском, пенькой, а быть может, и золотом, что прячут в кремлёвских подклетях». Речь Посполитая видела в ослабленной Московии не просто соседа в беде – она видела добычу, возможность, шанс расширить свои пределы и утвердить своё величие.
Швеция же смотрела на восток с иными чувствами – не с алчностью, но с тревогой, как смотрит хозяин на соседский дом, где начинает тлеть пожар. Король Карл IX, жёсткий и прагматичный правитель, что отвоевал престол у племянника Сигизмунда III в ожесточённой борьбе, понимал: если Польша вцепится когтями в Московию, Швеция окажется меж двух огней. Балтийское море, которое шведы считали своим внутренним озером, превратится в поле битвы, а торговые пути на Русь – в руины. Сигизмунд не оставил надежд вернуть шведскую корону, и если он подчинит себе Московию, то получит ресурсы для новой войны против Швеции. Потому Карл, сидя в своём мрачном замке, точил сабли и копил войска, готовый вмешаться – не из любви к московитам, но из страха перед поляками. Для него кризис в Московии был не возможностью, а угрозой, что могла поглотить и его королевство.
Голод и холода терзали и шведские земли не меньше, чем остальную Европу. Стокгольм и Упсала жили впроголодь, крестьяне в Смоланде и Норланде бунтовали, требуя хлеба, а финские провинции, что недавно вошли в состав королевства, грозились отложиться. Казна была пуста после войн с Данией и Польшей, а наёмники, что составляли костяк армии, требовали жалованья. Карл понимал, что его держава хрупка, и любое потрясение может расколоть её. Потому он следил за событиями в Московии с неусыпной бдительностью, посылая шпионов и дипломатов, чтобы знать, куда дует ветер.
Дания, вечная соперница Швеции, тоже не дремала. Король Кристиан IV, молодой и амбициозный, жаждал славы и земель. Он следил за событиями на востоке, готовый ухватить свой кусок, если соседи ослабнут. Священная Римская империя, раздираемая религиозными распрями меж католиками и протестантами, ещё не оправилась от потрясений Реформации и лишь вполглаза поглядывала на восточные дела, но и там находились авантюристы, готовые отправиться за наживой или приключениями в дальние земли. Османская империя, что веками давила христианские государства, тоже не оставалась в стороне. Султан Мехмед III, сидя в стамбульском дворце, получал доклады от татарских ханов Крыма – верных вассалов Порты. Крымцы, что десятилетиями жгли и грабили русские земли, теперь прислушивались к слухам о беспорядках в Московии, готовые ринуться на север, едва представится случай.
А в самой Московии, в сердце огромной державы, тучи сгущались неумолимо. Царь Фёдор Иоаннович, сын Грозного, правил уже более десяти лет, но это было правление тени, а не государя. Добрый, набожный, более склонный к молитвам и колокольному звону, нежели к государственным делам, он оставил власть в руках своего шурина – боярина Бориса Годунова, человека умного и энергичного, но ненавидимого родовитой аристократией. Годунов, выходец из незнатного рода, возвысился благодаря хитрости и брачному союзу – его сестра была женой царя, – и теперь держал бразды правления, тогда как Фёдор предавался благочестию. Боярские роды – Шуйские, Мстиславские, Воротынские, Голицыны – древние, гордые, что помнили времена, когда их предки стояли у престола, – точили ножи в тени, ожидая момента, чтобы свергнуть выскочку.
Но самое страшное было не в боярских распрях, а в том, что у царя не было наследника. Царица Ирина, сестра Годунова, не могла родить, и династия Рюриковичей висела на волоске. Был, правда, младший сын Грозного – царевич Дмитрий, что жил в Угличе с матерью, но он был дитя, и судьба его была туманна. А если Фёдор умрёт без наследников, что тогда? Кто займёт престол? Годунов? Шуйские? Кто-то иной? Этот вопрос не давал покоя никому, кто думал о будущем державы. И все чувствовали, что время уходит, что песок в часах почти иссяк.
Девяносто восьмой год принёс катастрофу. Семнадцатого января, в праздник Рождества Христова, царь Фёдор Иоаннович преставился в Кремле, и с ним оборвалась нить, что связывала Русь с её прошлым. Династия Рюриковичей, что правила веками – от Рюрика, легендарного варяга, что пришёл на Русь в девятом веке, до Ивана Грозного, – пресеклась, словно река, ушедшая в песок. Это был конец эпохи, и все понимали, что грядут перемены. Какие – никто не знал, но в воздухе висело предчувствие беды, тяжёлое, как грозовая туча.
Над Европой и Московией висело тяжёлое небо, свинцовое, безжалостное, что не сулило ни тепла, ни милосердия. Холода крепчали, голод терзал народы, державы точили мечи, готовясь к войнам за выживание и добычу. Мир стоял на грани перемен, и никто не знал, взойдёт ли вновь солнце над этой землёй, или тьма поглотит её навсегда. Но одно было ясно: старый порядок рушился, и на его обломках поднимется нечто новое – неведомое, страшное, быть может, великое. И в этом хаосе каждый – от королей до последних крестьян – искал свой путь, свою судьбу, свой шанс выжить или возвыситься.
А где-то в глубине московских теремов, в боярских палатах и монастырских кельях, в шведских замках и польских магнатских дворцах уже зрели планы, интриги, мечты и кошмары, что скоро выплеснутся на русские просторы бурей, какой мир ещё не видал.
Глава 1: Дом Шуйских
Январская метель, воя над Москвой, швыряла снежные заряды в почерневшие от времени стены боярских хором Шуйских, стоявших неподалёку от Кремля, словно сама природа гневалась на беды, обрушившиеся на Русскую землю. В просторной горнице, где воздух был густ от дыма восковых свечей и запаха мехов, собрались представители древнейшего рода – суздальской ветви Рюриковичей, чья кровь восходила к самым истокам державы. На лавках, покрытых узорчатыми подушками, расположились мужи разных лет: одни – с посеребрёнными временем бородами, другие – в расцвете сил, с горящими честолюбием очами. За дубовым столом, изукрашенным резьбой искусных мастеров, разливали мёд в чеканные кубки, но веселья в этом застолье не было – только тяжкое молчание да глухое потрескивание поленьев в печи.
Князь Иван Пуговка Шуйский, старший в роде, сидел во главе стола, опустив на грудь седую бороду, что веером расстилалась по бархату кафтана. Лицо его, иссечённое морщинами как древняя береста, хранило печать былых сражений и боярских распрей. Глаза под нависшими бровями тлели угольками недовольства. Рядом с ним, выпрямившись так, что казалось – вот-вот сломается под тяжестью собственной гордости, восседал князь Василий Иванович Шуйский, чьё лицо, острое и бледное, напоминало клинок, отточенный на камне придворных интриг. Напротив них сидел князь Василий Фёдорович Скопин-Шуйский, – человек средних лет, с широким открытым лицом и живыми карими глазами, в которых читалась не боярская спесь, а какая-то иная сила – готовность принять удары судьбы и отвечать на них действием, а не жалобой.
– Что ж еси умолкл, Иване Михайловиче? – наконец прорычал старый Пуговка, обращаясь к кому-то из младших родичей, сидевших поодаль. – Али язык твой онемел, зря како Годунов над нами ругается?
Тишина сгустилась ещё более, словно сама зима вползла в горницу и сковала уста присутствующих. Василий Фёдорович Скопин-Шуйский медленно поднял голову, встретился взглядом со старым князем и, прежде чем тот успел продолжить, заговорил ровным, но твёрдым голосом:
– Батюшка Иван Михайлович, не гнев ли твой вещает вместо разума? Борис Феодорович – государь помазанный, аще и не от крови Рюриковы. Противитися ему – то противитися воле Божией и ввергнути род наш во пагубу вящую.
Старик вспыхнул, словно подожжённая лучина. Он ударил ладонью по столу так, что зазвенели кубки и плеснулся мёд на скатерть.
– Воля Божия?! – взревел он, и голос его, хотя и дрожал от старости, всё ещё гремел властно. – Воля Божия – то егда на престоле седит той, кому по крови прилично! А не некий выскочка, татарский приспешник, иже выполз из худости, аки змий из норы! Годунов – самозванец по духу, аще и венчан бысть! И род наш, древний, яко сама Русь, должен преклонятися пред ним?!
Лицо Василия Ивановича Шуйского оставалось бесстрастным, но губы его чуть дрогнули – то ли в улыбке, то ли в презрении. Он знал, что слова старика – это эхо прошлого, голос тех времён, когда удельные князья были вольны распоряжаться своими землями, как им заблагорассудится. Но то прошлое кануло в прошлое, как талая вода уходит в реку весной, оставляя лишь грязь и воспоминания.
– Дядюшка, – вступил он наконец, и голос его был холоден, как январский лёд, – глаголеши о крови, а кровь наша ныне не стоит ни полушки ломаной, коли не имеем силы. Годунов окружися опричною силою, выдвинул служилых людей, иже готовы сечи нас, не мигнув оком. Кая польза в происхождении нашем, аще окажемся в земли прежде, неже успеем употребити оное?
Василий Фёдорович Скопин-Шуйский вздохнул тяжело, словно на плечи его легла невидимая тяжесть. Он налил себе мёду, отпил медленно, смакуя густую сладость, и, поставив кубок, заговорил снова – на этот раз обращаясь ко всем собравшимся:
– Послушайте мене, родичи. Не прекословлю, яко Годунов прииде к власти окольными стезями. Но мир претворися. Ныне не время удельных князей, егда кийждо мог правити вотчиною своею аки малым царством. Иоанн Грозный, светлая ему память и упокоение вечное, сломи хребет ветхому чину. Он создаде державу, идеже воля царева – закон, а бояре – токмо слуги. Годунов продолжи дело сие. И род наш либо должен приняти новые уставы, либо сгинет, яко многие инии.
Старый Пуговка захрипел от негодования. Он поднялся с лавки, качнулся – старые ноги плохо держали – и, схватившись за край стола, проговорил, почти задыхаясь от ярости:
– Тако глаголет той, иже готов лобызати сапоги выскочке! Василие Феодоровиче, забыл еси, откуду изшёл! Праотцы наши обладаху Суздалем, егда Годуновы свиней ещё пасяху! Мы – Рюриковичи! Кровь наша – то кровь Владимира Святаго, Ярослава Премудраго, Александра Невскаго! И восхотел еси, дабы аз преклонил главу пред сим… сим…
Он захлебнулся, не найдя слова достаточно презрительного. Василий Иванович Шуйский поднялся тоже, и его движение было так плавно и неторопливо, что казалось – он готовился к этому моменту заранее. Он подошёл к старику, положил руку ему на плечо – жест, который мог быть и утешением, и предупреждением.
– Дядюшка Иван Михайлович, – произнёс он тихо, но так, что каждый в горнице услышал, – прав еси. Мы – Рюриковичи. И сего ради должны быти мудрейши, лукавейши и терпеливейши. Годунов не вечен. Царство его держится на страсе и подаяниях. Треснет оно – вопрос токмо времени. И егда сие случится, мы должны быти готовы подъяти власть. Но для сего надобе нам выжити. Разумееши ли? Выжити.
Старик вырвал плечо из-под руки Василия Ивановича, отшатнулся, словно от прокажённого, и, тыча в него дрожащим пальцем, выкрикнул:
– Ты… ты готов ждати, аки шакал, дабы подобрати мертвечину! Несть у тебе чести, Василие! Несть совести! Ты таков же, яко Годунов – алчущий власти, готовый на вся!
Лицо Василия Ивановича не дрогнуло. Он лишь усмехнулся чуть заметно, и в этой усмешке была вся его суть – холодная, расчётливая, безжалостная.
– Может, и тако, дядюшка. Но аз буду жив. А ты, с гордынею твоею, сгниеши в земли, не узрев, како род наш возвысится паки.
Воздух в горнице, казалось, накалился до предела. Казалось, вот-вот вспыхнет пожар, хотя в печи лишь тлели угли. Василий Фёдорович Скопин-Шуйский поднялся решительно, встал между двумя спорщиками и, распахнув руки, словно желая оградить их друг от друга, заговорил громко:
– Доволно! Мы – един род, едина кровь! Не Годунову нас разлучати! Иван Михайлович, ты – старейший в роде, и чтим мудрость твою. Но мир, в немже возрастал еси, отъиде безвозвратно. Василий Иванович прав во едином – надобе нам приспособлятися, да не погибнем. Но не значит сие, яко должны забыти, кто есмы. Мы – Шуйские. И прийдёт день, егда Русь паки обратится к нам за помощию. А до тоя поры должны беречи силы, растити чад наших, учити их не токмо гордости, но и осторожности.
Старый Пуговка смотрел на него долго, тяжело дыша, и в его глазах медленно гасла ярость, уступая место чему-то другому – тоске, усталости, горечи. Он медленно опустился обратно на лавку, провёл рукой по лицу, словно смахивая невидимую паутину, и проговорил тихо, почти шёпотом:
– Прийдёт день… Ей, Василие Феодоровиче, прийдёт. Но боюся, не узрю его аз. И ты, може, не узриши. А узрят чада наши. И что узрят они? Русь, растерзанную смутою, залитую кровию. Зане Годунов – государь неправедный. И дондеже он на престоле, благословение Божие отъято от державы. Беды прийдут, вем. Глад прийдёт. Брань прийдёт. И тогда, може, воспомянете глаголы моя. Но будет уже поздно…
Тишина, что последовала за этими словами, была столь плотной, что слышно было, как за окном завывает метель, как где-то в доме скрипнула половица, как потрескивают угли в печи. Все сидевшие в горнице почувствовали – в словах старика было нечто пророческое, словно не он говорил, а сама судьба устами его возвещала о грядущем.
Василий Фёдорович Скопин-Шуйский отвернулся к окну, за которым метель плясала в бешенстве, заметая улицы Москвы. Он думал о сыне – о Михаиле, который рос умным, способным мальчиком, с живым умом и горячим сердцем. Ему было сейчас лишь десять лет, но отец уже видел в нём задатки воина и правителя. Он учил его грамоте, водил на службы в Успенский собор, рассказывал о славных предках. И в эти минуты, слушая спор стариков и прозорливое пророчество Пуговки, он думал: «Какую Русь увидит мой Миша? Какие беды обрушатся на него? Сможет ли он выстоять?»
Он обернулся к собравшимся и сказал, уже спокойнее:
– Что бы ни случилося, должны воспитати чад наших тако, дабы были готовы служити Руси – не ради власти, не ради богатств, но ради самоя земли нашея. Зане род Шуйских – то не токмо знатность. То долг. Долг пред теми, иже жили прежде нас, и пред теми, иже будут жити по нас.
Василий Иванович Шуйский усмехнулся снова, но на этот раз в его усмешке не было прежней холодности – было что-то иное, почти уважение.
– Красно глаголеши, брате. Даст Бог, дабы Миша твой оправдал словеса сия. Зане времена грядут тяжкие. И аще окажется слабейший, неже потреба, – сгинет, яко многие.
Старый Пуговка поднял глаза на Василия Фёдоровича и, глядя ему прямо в душу, произнёс медленно:
– Не слабым будет сын твой, Василие Феодоровиче. Вижду се аз. Крепким будет. Да токмо вот беда – зело честным. А честность во времена наша – что лёд весною: красен, да ненадёжен. Тает борзо…
Он замолчал, опустил голову, и больше в ту ночь никто не произнёс ни слова. Лишь метель выла за окнами, и казалось – сама судьба Руси выла вместе с ней, предвещая лихолетье, которое обрушится на державу через несколько лет.
Но пока что в горнице Шуйских тлели угли, потрескивали свечи, и будущее, страшное и величественное, ещё не вступило в свои права.
Через несколько дней после того спора Василий Фёдорович Скопин-Шуйский сидел в своей светлице, разбирая грамоты. За окном стояла ясная морозная погода – метель утихла, и солнце, бледное, но всё же солнце, пробивалось сквозь облака, заливая снег ослепительным блеском. Дверь отворилась негромко, и в комнату вошёл мальчик лет десяти – Михаил. Он был одет в простой домашний кафтан, волосы его, тёмно-русые, были аккуратно подстрижены, а лицо, ещё детское, но уже с намёком на будущую мужественность, светилось любопытством.
– Батюшко, – молвил он тихо, – мочно ли мне к тебе?
Отец поднял голову, улыбнулся и кивнул.
– Войди, Мишенька. Что приключилося?
Мальчик подошёл, остановился у стола, глядя на исписанные грамоты, и спросил:
– Батюшко, а правда ли то есть, что мы – Рюриковичи? Что предки наши державствовали Русью?
Василий Фёдорович отложил перо, откинулся на спинку стула и посмотрел на сына долгим, задумчивым взглядом.
– Правда то, чадо. Происходим мы от князей суздальских, а те – от Владимира Мономаха, а тот – от самого Владимира Крестителя. Кровь наша – древняя и славная есть.
– А почто же тогда, – продолжал Михаил, нахмурившись, – почто тогда на престоле седит Годунов, а не кто от нас?
Отец вздохнул. Он знал, что придёт день, когда сыну придётся узнать правду – горькую, сложную правду о мире, в котором они живут. И, может быть, этот день настал именно сейчас.
– Сядь, Миша, – сказал он, указывая на лавку рядом. Мальчик сел, глядя на отца широко открытыми глазами. – Видишь ли, чадо, мир устроен не тако просто, яко мнится. Ей, мы – Рюриковичи. Но се не являет, что престол нам принадлежит по праву. Престол – не вотчина, еже можно передати по наследию, аки поле али усадьбу. Престол – се власть есть. А власть емлет тот, кто сильнее, лукавее, удачливее. Годунов оказался таковым человеком. Был он близок к государю Фёдору Ивановичу, умел угождати, сумел оттеснити всех соперников – и нас в том числе.
– Но се несправедливо! – вырвалося у Михаила.
– Справедливость, – медленно произнёс отец, – се слово, еже всяк разумеет по-своему. Для иных справедливость – егда правит тот, кто от древнего рода происходит. Для других – егда правит тот, кто способен державу в порядке держати. Для третьих – егда правит тот, кого сам народ избра. Кто от них прав? Не вем, Миша. Но вем едино: в любом случае род наш должен служити Руси. Не царю – Руси. Разумеешь ли разность?
Мальчик кивнул медленно, хотя было видно, что не всё ему понятно. Василий Фёдорович положил руку на плечо сына и сказал тихо:
– Будешь ты возрастати во время лихое, чадо. Може, ещё лихолетнее, нежели ныне. И тебе доведётся выбор чинити – многажды. И всякий раз ты должен будешь вопрошати себе: творю ли се ради себе али ради Руси? Аще ради Руси – иди вперёд, не сумняся. А аще ради себе – останавливайся и мысли.
Михаил слушал, затаив дыхание. Он не понимал ещё всех слов отца, но чувствовал – это важно. Это то, что запомнится на всю жизнь.
– Батюшко, – сказал он наконец, – а смогу ли? Смогу ли служити Руси?
Василий Фёдорович улыбнулся – той тёплой, отеческой улыбкой, которая грела душу лучше любого огня.
– Возможешь, Миша. Не сумнюся в том. Понеже в тебе есть то, чего недостаёт многим от рода нашего – честность. И храбрость. И сердце благое. Береги сии. Они дражайшие всякой знатности.
Мальчик кивнул, и в глазах его блеснули слёзы – не от горя, а от переполнявшего сердце чувства, которое он пока не мог назвать. Это было что-то вроде клятвы, данной самому себе, – быть достойным имени Шуйских, быть достойным отца, быть достойным Руси.
Метель за окном стихла окончательно. Солнце заливало светлицу, и казалось – в этот момент время остановилось, давая отцу и сыну ещё немного покоя перед грядущими бурями.