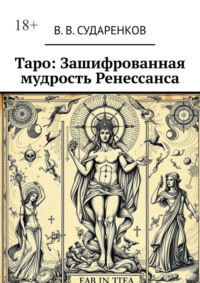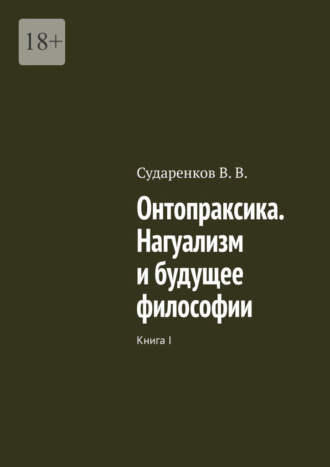
Полная версия
Онтопраксика. Нагуализм и будущее философии. Книга I
Сталкинг становится практикой применения этой свободы в повседневности. Это искусство видения социальных дискурсов и ролей как конструкций, но не с целью ироничного дистанцирования, а для безупречного и осознанного маневрирования внутри них. Это этика воина, который знает, что его личность – лишь одна из многих возможных конфигураций, и потому действует без чувства собственной важности, но с полной ответственностью.
Сновидение превращается в лабораторию по исследованию онтологии. Это эмпирическая проверка гипотезы о множественности реальностей, где мы на собственном опыте обнаруживаем пластичность восприятия и учимся намеренно сдвигать свою точку сборки.
Последствия: Новая карта для мысли
Каковы же последствия этого сдвига для будущего философии?
1. Философия как трансформационная дисциплина. Она перестает быть лишь интерпретацией мира и становится инструментом его трансформации – начиная с мира познающего. Знание перестает быть информацией и становится силой, меняющей онтологический статус знающего.
2. Примирение науки и опыта. Наука получает свое законное место как мощнейший инструмент Тоналя, идеально работающий в пределах его стабильной сборки. Но она перестает претендовать на исчерпывающее описание реальности, признавая существование областей опыта (Нагваль), лежащих за гранью её методов.
3. Этика, основанная на единстве. Вместо этики, выведенной из правил или последствий, возникает этика, проистекающая из прямого восприятия энергетического единства всего сущего. Ответственность за другого и за планету становится не долгом, а естественным следствием видения мира как продолжения себя.
Приглашение к путешествию
Эта глава, как и вся наша книга, – не конечный пункт, а отправная точка. Мы завершили критическую часть нашего пути, показав тупики, в которые зашла мысль, опирающаяся лишь на себя саму. Картезианская рана и постмодернистский лабиринт были необходимыми стадиями взросления, болезненным, но очищающим актом самопознания.
Но пора сделать следующий шаг. Пора обнаружить, что мы – не призраки в машине и не узники зеркального лабиринта. Мы – осознающие энергетические поля, наделенные способностью активно участвовать в сборке той реальности, которую мы воспринимаем. Стены нашей тюрьмы оказались иллюзорными. Выход был всегда – не впереди, а в нас самих, в нашей способности к молчанию, к сдвигу, к прямому, неопосредованному восприятию.
Философия будущего, если у нее есть будущее, должна рискнуть стать онтопраксикой. Она должна сменить роль комментатора на роль экспериментатора, критика – на практика. Это путешествие требует не только интеллектуальной смелости, но и мужества воина, готового отбросить карты и шагнуть в неизведанное.
И первый шаг в этом путешествии – самый простой и самый трудный одновременно. Он заключается в том, чтобы на мгновение перестать говорить, перестать интерпретировать, перестать искать смысл. Просто воспринимать. В этой тишине, за гранью всех слов, и начинается подлинная философия – не как дискурс о бытии, а как само бытие в акте своего бесконечного творения.
Глава 4. Тишина в машине: нерешенная проблема сознания
1. Вступление: Призрак заговорил
Мы провели три главы, скрупулезно изучая архитектуру тюрьмы. Мы исследовали её фундамент – картезианский раскол, возведший стену между «призраком» сознания и «машиной» тела. Мы восхищались изощренной отделкой её стен – лабиринтом постмодернистских зеркал, где каждое понятие, каждый дискурс отражаются друг в друге в бесконечной игре смыслов. Мы даже нанесли на карту все потаенные ходы и системы надзора – механизмы власти-знания, которые формируют самого узника, его желания и саму его идентичность. Мы стали признанными экспертами по устройству нашей темницы. Мы знаем о ней всё.
И вот настал момент оторвать взгляд от стен и обратиться к тому, кто находится в её центре. К единственному, что мы знаем с абсолютной, неопровержимой непосредственностью. К тому, без чего не существовало бы ни тюрьмы, ни её исследования, ни самого вопроса о свободе. К сознанию.
Ирония нашей ситуации поистине грандиозна. После столетий титанических интеллектуальных усилий, после создания невероятно сложных философских систем и впечатляющих научных моделей, мы оказываемся в положении человека, который, досконально изучив устройство телевизора – все его транзисторы, конденсаторы и схемы, – вдруг с изумлением останавливается перед самым простым и самым необъяснимым вопросом: а откуда, собственно, там, внутри, берутся эти движущиеся картинки и звуки? Мы вскрыли черепную коробку, составили карту нейронных связей, описали химические и электрические процессы. Мы знаем, какая кнопка отвечает за память, какой чип обрабатывает зрение, какой контур запускает эмоцию страха. Но мы по-прежнему понятия не имеем, почему вся эта бешеная электрическая и химическая активность – эта «машина» – сопровождается чем-то еще. Чем-то, что не сводится к импульсам и медиаторам. Чем-то, что мы называем субъективным опытом.
Позвольте мне обратиться к вашему личному, самому непосредственному знанию. Закройте на мгновение глаза и вспомните вкус спелой клубники. Не название «клубника», не её химический состав (C₅H₈O₂), не изображение на сетчатке. Вспомните сам вкус – его сладость, легкую кислинку, сочную текстуру. А теперь представьте, что перед вами сидит нейробиолог с самым современным сканером. Он видит на мониторе вспыхивающие зоны вашего мозга: активируется островковая доля, обрабатывающая вкусовую информацию, загорается орбитофронтальная кора, отвечающая за гедонистическую оценку. Он может описать этот процесс с точностью до миллисекунды и до отдельного нейрона. Но сможет ли он, глядя на эти разноцветные пятна на экране, узнать вкус клубники? Узнать то, что знаете вы? Ответ очевиден: нет. Между его объективным описанием и вашим субъективным переживанием лежит пропасть. Это и есть пропасть, которую философ Дэвид Чалмерс назвал «трудной проблемой сознания».
«Трудная проблема» – это не вопрос о том, как мозг регулирует внимание или различает стимулы. Это вопросы функционирования, «легкие проблемы», с которыми наука постепенно справляется. «Трудная проблема» – это вопрос о том, почему и как что-либо вообще ощущается. Почему электромагнитные волны определенной длины не просто регистрируются зрительной системой как сигнал, а переживаются как ослепительная синева неба? Почему повреждение ткани не просто активирует ноцицепторы, а рождает мучительное, пронзительное переживание боли? Откуда берется это внутреннее пространство, этот приватный театр, где разыгрывается немое кино нашего осознания, наполненное цветом, звуком, эмоцией и смыслом?
Этот «призрак» – наше сознание – не просто молча наблюдает за миром из своей картезианской башни. Он заговорил. И его речь – это не бездушные логические построения, а вопль боли, шепот любви, тихая грусть от заката, восторг от музыки. Это речь, полная качеств, «квалиа», которые являются самой сутью нашего бытия. И именно эта речь ставит в тупик всю нашу объективную, материалистическую, дисциплинированную науку.
Вся западная философская традиция, как мы видели, подготовила этот тупик. Картезианство поместило «призрака» в «машину», создав саму рамку проблемы. Постмодернизм, объявив всё текстом, попытался растворить «призрака» в игре означающих, но лишь замуровал его в камере безмолвных интерпретаций. Теперь «призрак» предъявляет свой главный аргумент – свое собственное нередуцируемое существование. Самый главный свидетель, без которого не было бы ни одного суда, требует слова. И оказывается, что у нас нет языка, чтобы описать его показания, и нет инструментов, чтобы его изучить, не уничтожив при этом самого явления.
В этой главе мы подойдем к кульминации диагностической части нашей книги. Мы убедимся, что «трудная проблема» – это не просто одна из многих философских головоломок. Это эпицентр землетрясения, это концентрат всех предыдущих тупиков. Это момент истины, когда мы должны с предельной честностью признать: чисто дискурсивное, объективирующее мышление, каким бы мощным оно ни было, подходит к своему пределу. Оно может описывать структуры, но не может схватить самую суть существования – субъективное переживание «изнутри».
И именно в этой точке максимального отчаяния, когда мы оказываемся лицом к лицу с немой загадкой нашего собственного «Я», мы снова обратимся к нагуализму. Но на этот раз его голос прозвучит иначе – не только как критика, но как указание на принципиально иную картографию. Он предложит шокирующую гипотезу: а что, если мы ищем не там? Что если сознание не внутри мозга, а мозг – внутри сознания? Что если «призрак» – это не обитатель «машины», а сама «машина» – всего лишь сложный инструмент, который не генерирует, а фокусирует нечто бесконечно более важное?
Приготовьтесь к самому интимному и самому пугающему путешествию – путешествию к центру самих себя. Мы стоим на пороге величайшей тайны, которая является одновременно и нашей самой большой очевидностью. И первый шаг к её разгадке – признать, что, возможно, мы всё это время смотрели не в ту сторону.
2. Анатомия проблемы: Дэвид Чалмерс и пропасть между объективным и субъективным
Чтобы понять всю глубину тупика, в котором оказалась современная мысль перед загадкой сознания, мы должны совершить своего рода археологическую работу – аккуратно расчистить смысловые слои, отделив то, что поддается научному объяснению, от того, что упорно сопротивляется любым попыткам редукции. Именно эту работу проделал в 1990-х годах австралийский философ Дэвид Чалмерс, введя ставшее уже классическим различение между «легкими» и «трудной» проблемами сознания. Это различение – не просто академическое упражнение; это скальпель, который вскрывает нерв всей проблемы, обнажая пропасть, разделяющую два принципиально разных способа познания.
«Легкие проблемы»: Триумф объективного метода
«Легкие проблемы» сознания – это проблемы, связанные с его функционированием. Они отвечают на вопрос «Как?». Как мозг интегрирует информацию из разных источников? Как он фокусирует внимание на определенных стимулах, игнорируя другие? Как мы обучаемся, запоминаем, различаем категории объектов? Как мы сообщаем о своих внутренних состояниях?
Важно подчеркнуть: слово «легкие» здесь не означает «простые». Эти проблемы невероятно сложны с технической точки зрения. Однако они «легки» в принципиальном смысле: мы понимаем, какого рода объяснения будут их удовлетворительным решением. Таким решением является описание соответствующих механизмов – нейронных сетей, когнитивных алгоритмов, вычислительных процессов. Мы можем представить себе, как некая система – биологическая или кремниевая – выполняет эти функции, не приписывая ей при этом внутреннего субъективного опыта.
Нейронаука демонстрирует ослепительные успехи именно на этом поле. Функциональная МРТ показывает нам, какие зоны мозга «загораются» при решении математической задачи или просмотре эмоционального видео. Мы можем проследить путь зрительного сигнала от сетчатки до затылочной коры и далее к ассоциативным центрам. Мы знаем, что дофамин участвует в системе вознаграждения, а серотонин – в регуляции настроения. Это триумф третьего лица – взгляда со стороны, объективного, измеримого, повторяемого. В рамках решения «легких проблем» мозг предстает как феноменально сложный биокомпьютер, и его изучение движется вперед семимильными шагами.
«Трудная проблема»: Стена субъективности
И вот, на фоне этих успехов, мы упираемся в стену. «Трудная проблема» сознания – это проблема субъективного опыта. Она отвечает на вопрос «Почему?». Почему все эти сложнейшие физические процессы сопровождаются каким-либо внутренним переживанием? Почему обработка зрительной информации в коре головного мозга – это не просто безмолвный расчет, а переживание ослепительной синевы неба или нежного розового цвета заката? Почему возбуждение ноцицепторов – это не просто сигнал «повреждение», а мучительное, пронзительное ощущение боли?
Чалмерс формулирует это с кристальной ясностью: «Почему, когда наши когнитивные системы вовлечены в обработку зрительной и аудиальной информации, у нас возникает визуальный или аудиальный опыт?.. Почему вообще существует субъективный компонент у информационной обработки?»
Здесь мы сталкиваемся с тем, что философы называют квалиа (ед. ч. – quale) – качественными, субъективными свойствами опыта. Квалиа – это «каково это» – быть вами в данный момент. Это специфическая боль от укола булавкой, отличная от тупой боли в спине. Это вкус темного шоколада, горьковатый и сложный. Это чувство ностальгии, вызванное запахом, который невозможно описать словами.
«Трудная проблема» заключается в том, что квалиа, по всей видимости, нередуцируемы. Вы не можете объяснить боль, просто перечислив активированные нервные волокна и области таламуса. Вы не можете передать вкус клубники человеку, который ее никогда не пробовал, сколько бы нейрофизиологических данных ему ни предоставили. Между объективным описанием и субъективным переживанием лежит объяснительный провал.
Мысленный эксперимент: «Философский зомби»
Чтобы сделать эту пропасть наглядной, Чалмерс предлагает провокационный мысленный эксперимент – представить себе философского зомби. Это не ходячий покойник из фильмов ужасов, а существо, которое идентично вам или мне на уровне физической структуры. У него такой же мозг, такие же нейроны, синапсы, такие же биохимические процессы. Он будет вести себя точно так же: он будет отдергивать руку от огня, кричать «ай!», когда его уколют, будет говорить о своей «любви» к музыке Моцарта и «грусти» при виде осеннего листопада.
Но есть одно, и только одно, фундаментальное отличие: у него нет никакого внутреннего субъективного опыта. Нет квалиа. Для него не существует «красного» красного, «боли» боли или «радости» радости. Внутри его черепной коробки идут сложнейшие вычисления, но они происходят «в темноте», без какого-либо внутреннего света осознания.
Вопрос заключается в следующем: является ли такой зомби логически возможным? Можем ли мы, не впадая в противоречие, представить себе такое существо? Если да – а интуиция большинства людей подсказывает, что да, – то это означает нечто чрезвычайно важное. Это означает, что все объективные, физические факты о мозге не исчерпывают всех фактов о сознании. Сознание, субъективный опыт, – это нечто добавочное к физической структуре. Оно не выводимо из нее с логической необходимостью.
Это и есть тот самый «призрак», который не укладывается в «машину». Все успехи в решении «легких проблем» можно представить как описание работы невероятно сложной машины. Но «трудная проблема» упрямо указывает на то, что самая главная особенность этой машины – её внутренняя, субъективная жизнь – остается за кадром любого объективного описания.
Психологическое измерение: Разлом в самом сердце терапии
Этот разрыв между объективным и субъективным имеет прямые и мучительные последствия в психологической практике. Терапевт, работающий с клиентом, находится в уникальной позиции. С одной стороны, он имеет дело с объективными данными: диагнозом по DSM-5, результатами тестов, наблюдаемым поведением, неврологическими коррелятами. С другой – его главный инструмент и главный объект – это субъективный мир клиента, его внутренние переживания, его личная история, его уникальные квалиа.
Когда клиент описывает свою депрессию, он говорит не о снижении уровня серотонина (хотя это может иметь место). Он говорит о «тяжелой, серой вате, заполнившей всё внутри», об «ощущении ледяной пустоты», о «непреодолимой усталости души». Это описание квалиа. Психофармакология, воздействуя на «машину», может изменить биохимию, и это иногда помогает. Но она не может напрямую оперировать с «серой ватой» или «ледяной пустотой». Она бомбардирует стену снаружи в надежде, что что-то изменится внутри.
Более того, сама попытка свести страдание клиента к «дисбалансу нейромедиаторов» может быть воспринята как обесценивание его субъективного опыта, как отрицание реальности его «призрака». Это современное проявление картезианской раны: психиатр или бихевиоральный терапевт часто работает с «машиной», в то время как клиент-гуманист – с «призраком». И они часто говорят на разных языках, не в силах найти мост через ту самую пропасть, которую идентифицировал Чалмерс.
Таким образом, «анатомия проблемы», проведенная Чалмерсом, показывает нам не просто очередную философскую головоломку. Она вскрывает фундаментальный разлом в нашей картине мира. Мы обладаем мощнейшим инструментарием для описания объективных структур, но этот инструментарий оказывается слепым перед лицом самого главного – самого факта нашего существования как чувствующих, переживающих существ. Мы можем описать всё, кроме того, что делает это описание возможным и осмысленным. Мы можем картографировать весь остров Тоналя, но так и не понять, откуда берется свет, в котором мы его разглядываем. И именно в этой точке максимальной ясности относительно масштабов катастрофы мы оказываемся готовы услышать самый радикальный ответ.
3. Провал традиционных подходов: Карта не совпадает с территорией
Осознав всю глубину пропасти, обозначенной «трудной проблемой», философия и наука бросили в нее все свои главные интеллектуальные силы. Были возведены мосты невероятной сложности и изобретательности. Но каждый раз, когда казалось, что вот он, прочный переход от объективного к субъективному, мост рушился, не выдерживая веса самого простого вопроса: «А как же квалиа?» Давайте проследим за этими героическими, но обреченными попытками, чтобы понять, почему они потерпели неудачу. Это необходимо не для того, чтобы посмеяться над заблуждениями предшественников, а чтобы с предельной ясностью осознать: проблема не в недостатке ума, а в принципиальной ограниченности самого подхода, пытающегося описать внутреннее извне.
Физикализм/Материализм: Иллюзия исключительности
Это самый интуитивно понятный для современного человека подход. Его базовый постулат прост и элегантен: всё, что существует, – физично. Сознание, следовательно, либо тождественно мозгу, либо является его продуктом. «Призрак» – это и есть «машина», просто мы пока не до конца поняли ее устройство. Вера в это настолько сильна, что нейробиолог Фрэнсис Крик провозгласил в своей книге «Удивительная гипотеза»: «„Вы“, ваши радости и печали, ваши воспоминания и амбиции, ваше чувство личной идентичности и свободной воли – на самом деле не более чем поведение конкретной ассамблеи нервных клеток и связанных с ними молекул».
Физикализм существует в нескольких формах:
* Идентичность. Утверждает, что ментальные состояния тождественны состояниям мозга. Боль – это и есть возбуждение С-волокон.
* Элиминативный материализм. Более радикальная позиция. Её адепты, такие как Пол и Патриция Чёрчленд, утверждают, что наши обыденные понятия о сознании, убеждениях, желаниях – это примитивная «народная психология», которая будет в конечном итоге полностью устранена и заменена точным языком нейронауки. Мы перестанем говорить «я чувствую боль» и начнем говорить «мои ноцицептивные пути С демонстрируют высокочастотную активность».
Провал: физикализм сталкивается с непреодолимой проблемой информационного разрыва. Даже если мы составим исчерпывающую карту всех нейронных коррелятов сознания (НКС), мы столкнемся с вопросом: почему эта конкретная конфигурация нейронов должна ощущаться как боль, а не как, скажем, запах фиалок или ощущение политической справедливости? Физическое описание дает нам структуру и динамику, но оно принципиально не содержит в себе информации о качестве переживания. Это все равно что иметь перед собой полное техническое описание телевизора – и при этом никогда не видеть изображения, которое он показывает. Физикализм блестяще описывает носитель, но не может объяснить содержание. Элиминативный материализм предлагает просто закрыть на это глаза и объявить само содержание иллюзией – жест отчаяния, который, по сути, является интеллектуальным капитулянтством перед лицом самого главного феномена.
Функционализм: Программное обеспечение без пользователя
В ответ на трудности физикализма родился функционализм. Его ключевая метафора – компьютер. Мозг – это hardware (аппаратное обеспечение), а сознание – software (программное обеспечение). Неважно, из чего сделан носитель – из нейронов или кремниевых чипов. Важна выполняемая функция. Сознание – это не вещь, а процесс, организация информации. Боль – это не определенный тип нейронов, а функциональная роль: реакция на вредный стимул, ведущая к поведению избегания, обучению и т. д.
Этот подход был невероятно плодотворен для когнитивной науки и искусственного интеллекта. Он позволил абстрагироваться от «мягкого и влажного» субстрата мозга и моделировать психические процессы на компьютере.
Провал: функционализм блестяще решает «легкие проблемы». Он объясняет, что делает сознание. Но он так же беспомощен перед «трудной проблемой», как и физикализм. Мы можем создать робота, который будет функционально идентичен человеку в реакции на повреждение: он будет отдергивать манипулятор, издавать звук «ай!» и даже вызывать ремонтную службу. Но будет ли он чувствовать боль? Знаменитый мысленный эксперимент «Китайская комната» Джона Сёрля демонстрирует эту проблему. Человек в комнате, не знающий китайского, манипулирует символами по правилам (функциональная эквивалентность понимания), но так и не понимает смысла. Функционализм объясняет поведение, но не порождает понимания. Он описывает структуру программного кода, но не может объяснить, почему у этого кода должен быть пользователь, который всё это переживает.
Дуализм (в современном проявлении): Возвращение изгнанного призрака
Осознав тупики материализма, некоторые современные философы, такие как тот же Дэвид Чалмерс, в той или иной форме возвращаются к дуализму. Это не наивный дуализм Декарта с его шишковидной железой. Это, например, дуализм свойств. Он признает, что существует лишь одна материальная субстанция (мозг), но у нее есть два принципиально разных типа свойств: физические (масса, электрический заряд) и ментальные (субъективные переживания, квалиа).
Другая версия – панпсихизм – утверждает, что ментальность является фундаментальным свойством всей материи, подобно массе или заряду. Протоны, электроны, камни обладают зачатками «прото-сознания», а сложная организация человеческого мозга лишь усиливает и усложняет его до знакомого нам уровня.
Провал: современный дуализм честно указывает на проблему, но не предлагает удовлетворительного решения. Как именно ментальные свойства связаны с физическими? Как нематериальные квалиа взаимодействуют с материальным миром, чтобы вызывать поведение? Если я отдергиваю руку от огня из-за боли, то что является причиной: физический процесс в мозге или мое субъективное переживание? Дуализм либо вводит загадочное «прото-сознание» повсюду (панпсихизм), что выглядит как deus ex machina, либо оставляет разрыв между свойствами, что возвращает нас к исходной проблеме взаимодействия. Он спасает феномен сознания, но ценой введения в картину мира необъяснимой, почти магической связи.
Психологическое измерение: Тупик в кабинете терапевта
Этот философский провал имеет прямые и драматические последствия для психологии и психиатрии, создавая то, что можно назвать методологическим расколом.
* Биологическая психиатрия по сути является прикладным физикализмом. Ее парадигма: депрессия – это дисбаланс серотонина; шизофрения – это нарушение дофаминовых путей. Лечение – фармакологическое, направленное на «починку машины». Этот подход часто эффективен, но он игнорирует субъективный смысл страдания для пациента. Его «призрак» – его история, его травмы, его экзистенциальные кризисы – остаются без внимания.
* Глубинная психология (психоанализ, юнгианство) и гуманистическая психология работают преимущественно с «призраком». Они исследуют смыслы, бессознательные конфликты, нарративы, стремление к самоактуализации. Но они часто игнорируют биологический субстрат, что может привести к бесконечной интерпретации при наличии органической проблемы, которую можно было бы скорректировать медикаментозно.