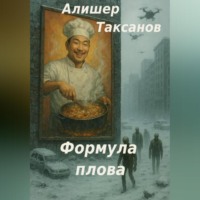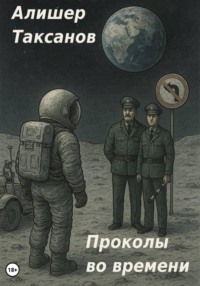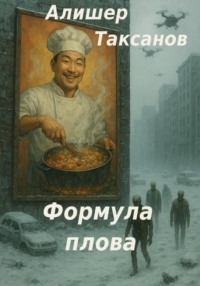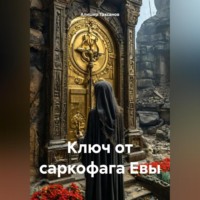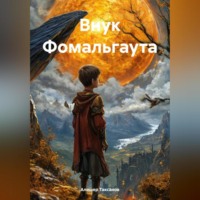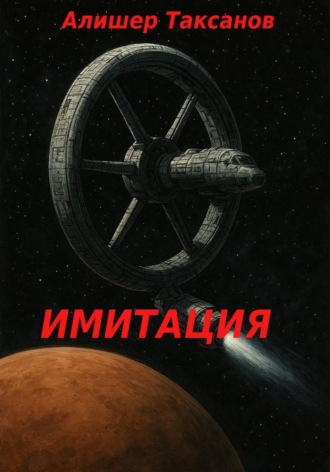
Полная версия
Имитация
Получив итоговые результаты, Хамков, который наблюдал за происходящим со своего монитора, находясь в Москве, дал команду:
– Внимание…
– Есть внимание! – одновременно ответили Саркисов и дежурный оператор Тестово-испытательного центра. В воздухе витало напряжение: слышались лёгкое дребезжание кабелей, приглушённый гул приборов, мелькание индикаторов, сжатые руки на пультах, дыхание участников – все одновременно готовились к имитации старта.
– Ключ на старт!
Мягко загудели моторы. По обшивке прошла лёгкая дрожь, но стабилизаторы в креслах гасили колебания. Индикаторы на пультах мигали как светомузыкальные установки в ритм клапанам моторов. С мониторов подавались обзорные картины корабля-макета: загружались системы стабилизации, электропитания, термоконтроля, проверялись датчики давления, включались насосы и сервоприводы. Компьютеры поочерёдно активировали программы взлета, симуляции курса на орбиту, управления маршевыми и взлетными двигателями, проверяли связь с центральной системой управления. Каждое движение механизмов выглядело почти живым, создавая ощущение реального запуска.
– Есть!
– Продувка!
Гул усилился. На экране мы наблюдали, как раскрылись купола над макетом, и яркое солнце осветило Тестово-испытательный центр. За дюзами электрореактивных двигателей вспыхнул яркий синий свет – иссине-яркий факел, свидетельствующий о прогреве и готовности моторов к имитации разгона. Свет отражался от металла корпуса, переливался на панелях, словно оживляя каждый сантиметр корабля. Все движения, шумы и световые эффекты создавали почти осязаемую реальность старта – настолько, что на мгновение казалось: мы уже в космосе.
– Есть!
– Протяжка один!
– Есть!
– Протяжка два!
– Включается рельсотрон! – раздался голос диспетчера ТИЦа. Этот механизм должен был разогнать корабль по рельсам и выбросить его в стратосферу, а там уже включались бы маршевые двигатели на подъемном режиме.
Я наблюдал, как цифры на индикаторах подтверждали готовность рельсотрона. Галеон, покоившийся на нем, должен был «пройти» пятикилометровый путь вверх – теоретически. На практике корабль оставался на месте: рельсотрон, гидравлические амортизаторы, вибраторы и кинематические платформы создавали иллюзию ускорения, колебаний и подъема. Каждое дрожание, скрип и мягкая вибрация под креслами имитировали реальные перегрузки, создавая стопроцентную иллюзию взлета. Даже воздух в кабине слегка напрягался, словно подстраиваясь под «ускорение».
– Пять… четыре… три… два… – начал отсчет диспетчер. С экранов на нас смотрели взволнованные лица сотен сотрудников Тестово-испытательного центра. Они так увлеклись имитацией, что казалось: перед нами настоящий старт. Я невольно отметил, как тщательно каждый следил за пульсами, показаниями датчиков, движениями рычагов.
Хмурым оставался лишь Хамков. Улыбки я его не видел ни разу: скользкий, хитрый, жестокий и наглый – впечатление от Даниила Дмитриевича меня не покидало. Масляков переживал искренне, и это ощущалось, словно он держал нас под защитой, несмотря на всю сложность имитации.
– Один… Старт!
Загудели моторы, и я почувствовал, как мягкая, почти невидимая рука будто вталкивает меня в кресло – эффект ускорения, созданный гидравликой и виброустановками. Макет оставался на месте, но вся кабина вибрировала и дрожала с такой точностью, что мозг принимал это за реальное ускорение. Мониторы показывали «взлет»: горизонт менялся, облака проплывали мимо, приборы мигали в ритме подъема.
На нас сработали противоперегрузочные костюмы: плотные матерчатые брюки с встроенными резиновыми трубчатыми камерами, обхватывающими живот, бедра и голени. Камеры автоматически наполнялись воздухом при перегрузках, обжимая тело и препятствуя притоку крови к голове, предотвращая потерю сознания. На головы были надеты специальные шлемы, поддерживающие давление вокруг шеи и черепа при продольных отрицательных перегрузках.
Кресла, в которых мы сидели, были сконструированы с учётом анатомии: спинки повторяли изгибы позвоночника, подушки поддерживали таз и плечи, распределяя давление на максимально возможную площадь. Кабина располагалась под определённым углом, чтобы нагрузка приходилась в направлении, наиболее безопасном для человеческого организма.
Помимо костюмов и кресел, мы полагались на собственную физическую форму: регулярные тренировки и развитая мышечная масса помогали выдерживать нагрузки, мышцы удерживали тело, сосуды не позволяли крови застаиваться, а дыхание оставалось стабильным. Каждый вдох и выдох, каждое движение рук и ног тщательно контролировалось как нашими внутренними ощущениями, так и мониторингом системы, обеспечивая полное погружение в имитацию настоящего старта.
На мониторе мелькали изображения нашего разбега по рельсам. Виртуальная перспектива показывала, как галеон покидает пределы купола, а под нами чернела тёмная, почти бескрайняя Сибирь. Лесные массивы и реки сливались в тёмные пятна, едва различимые в свете иллюминаторов. В вышине горела Луна, крупная и яркая, с серебристым сиянием, отбрасывающим блики на кабину. Звёзды сверкали холодным светом, чистым и острым, будто указывая путь вдаль, ещё не затронутые пеленой облаков и ночной дымкой, скрывающей Землю.
Рельсотрон ускорял нас, и сила давила на спины, грудь и ноги, создавая ощущение, что каждый мускул и внутренний орган участвует в этом движении. Я вспоминал уроки в ТИЦе: продольные перегрузки от ног к голове смещают внутренние органы, создавая риск затруднения работы сердца и лёгких, а обратное направление прижимает органы к диафрагме. Поперечные и боковые перегрузки переносились легче, но всё равно ощущались: грудь сжималась, плечи прижимались к креслу. Взлет требовал точной позы – так, чтобы на нас действовали преимущественно поперечные перегрузки, минимизируя вред организму. Странно, что эти знания оказались полезными даже для имитации, но ощущение было почти реальным.
Индикаторы стремительно меняли цифры: 100… 300… 500… 700… 1000… 1200 километров в час… И вдруг галеон слегка вздрогнул – рельсотрон остановился, а мы продолжили «взлет» по инерции. Двигатели включились автоматически, и экраны показали облачный покров под нами: высота превысила десять километров.
Луна ярко светила нам в глаза, её холодный свет контрастировал с жаром, исходившим от приборов и кресел. Образ освещённых лесов и рек казался почти фантастическим, но эффект был усиливающим ощущение подъёма. От работы двигателей нас сильнее прижало к креслам, грудь и плечи слились с упругими подушками, а ноги упирались в мягкие подставки. Я видел, как кровь слегка оттекла от лиц моих товарищей – бледные щеки и напряжённые глаза отражали и волнение, и восторг.
Хотя ощущение ускорения было ощутимым и местами драматичным, каких-либо экстремальных неприятностей, как на вертикально стартующих ракетах, мы не испытывали. Ни тошноты, ни боли, ни резкой потери ориентации – всё было дозировано, тщательно продумано. Подобное «давление» скорее вызывало адреналин, чем страх: тело ощущало перегрузку, но разум понимал её искусственность. И всё же чувство полета, полное погружение в имитацию, заставляло сердце биться быстрее, создавая впечатление, что мы действительно покидаем Землю.
Галеон сотрясался, проходя через атмосферу, и каждая вибрация чувствовалась в креслах, подрессоренных под перегрузки. Металлический корпус слегка прогибался под воздействием аэродинамических сил, но не разрушался: стойкая сталь и многослойная обшивка поглощали ударные колебания, а компенсаторы вибрации гасяще передавали силу на каркас. Кабина слегка подпрыгивала на упругих амортизаторах, воздух внутри казался плотнее, почти как в горячем куполе. Лёгкий гул турбулентных потоков доходил сквозь обшивку, а датчики вибрации фиксировали микросмещения панелей и соединений – всё это выглядело крайне реалистично, хотя мы оставались на месте.
Мы продолжали снимать показания с датчиков, фиксируя давление, температуру, токи и напряжения. Ашот держал рычаги, готовый в любой момент перейти на ручное управление – хотя вероятность отказа автоматики считалась минимальной. Даже представить себе пилотирование такой махины на этих скоростях было сложно: масса корабля, инерция, силы сопротивления – всё это при ручном управлении требовало бы мгновенных решений и точности. Только командир имел допуск к этой операции, и, к сожалению, ему не придётся применять свои навыки в реальности – всё происходило в безопасной имитации.
– Точка невозвращения пройдена, – произнёс Саркисов, внимательно следя за приборами.
– Вас понял! Продолжайте взлет! – откликнулся диспетчер.
Под нами тянулся темный фон поверхности Земли, местами прерываемый огоньками городов, поселков и движущихся автомобилей. Они словно образовывали светлячковый хоровод, мерцающий и извивающийся среди ночной тьмы. Показания приборов и мониторов создавали ощущение реального продвижения по пространству, а команда «продолжать взлет» была чисто условной: остановка возможна была только при экстренной ситуации и только с переходом на ручное управление.
Перегрузка достигала 2g – ощутимо, но терпимо. Ушаков комментировал:
– Температура обшивки: триста градусов… триста пятьдесят… Конструкция устойчива, нагрузка на несущие стержни в пределах нормы…
Кресла продолжали трясти, создавая неприятное, но знакомое ощущение турбулентности, как в салоне пассажирского лайнера при штормовом воздухе. На самом деле, наш Центральный пост был не только командным пунктом, но и камерой спасения: в случае угрозы можно было отстрельнуть отсек от корабля и безопасно спуститься на поверхность с помощью пяти встроенных парашютов. Человеческого вмешательства в этих случаях не требовалось – компьютер просчитывал угрозы быстрее любого экипажа, автоматически принимая решения и управляя системами в рамках программы. Система была надежна, но ощущение силы и контроля, которое возникало, делало имитацию почти реальной, создавая полное погружение в полёт.
Другое дело – синдром Кесслера, когда космический мусор образует цепную реакцию столкновений, создавая лавину обломков, которые невозможно предугадать. В реальном полете это представляло бы смертельную опасность, ведь даже маленькая металлическая осколка на скорости нескольких километров в секунду способна пробить корпус. Меня же успокаивала мысль, что в имитационном полете нет смысла моделировать возможность столкновения с каким-либо фрагментом обвалившегося космического зонда. Эту угрозу предстоит учитывать только экипажу «Радуги», хотя я был уверен, что в «Роскосмосе» уже разработаны алгоритмы обхода и маневрирования, позволяющие минимизировать риск столкновений, включая автоматические корректировки траектории и защитные экраны.
Мы находились на высоте ста километров, и панорама Земли раскрылась в своей величественной красоте. Воздух почти исчезал, оставляя лишь тонкий голубой слой атмосферы, за которым простирались сине-зеленые материки с коричневыми участками суши, озёра и реки, сверкающие как драгоценные камни под солнечными лучами. Слева на небе горела Луна – неяркая, как мы привыкли видеть её с Земли, а ослепительно белая, почти металлическая, отражавшая свет солнца, будто подвешенная над бездонной чернотой космоса. Каждый кратер и горная цепь её поверхности были видны четко, а из-за отсутствия воздушной дымки она сияла удивительно, заставляя сердце замирать.
Я аж задохнулся от восхищения. 3D-мониторы создавали полное ощущение присутствия в космосе: казалось, протяни руку – и можно дотронуться до облаков или солнечных бликов на горизонте. Я огляделся и заметил, что Сергей и Марина реагировали точно так же: они махали руками, пытаясь «трогать» голограмму планеты, и их восторг был настолько искренним, что вызвал у меня легкий смех – всё казалось одновременно и нереальным, и абсолютно живым.
Круглая Земля – в это трудно поверить, оставаясь на поверхности. В средние века люди утверждали, что она плоская; возможно, это было не столько заблуждение, сколько ограничение мышления. Уже в 330 году до н.э. Аристотель приводил доказательства сферичности, а в I веке нашей эры Плиний Старший называл это общепринятой истиной. На самом деле планета не является идеальным шаром: она слегка приплюснута на полюсах из-за вращения, а материки и океаны располагаются неровно из-за приливных деформаций.
Из-за этого понимание высот и размеров становится относительным. Например, Эверест – самая высокая гора, если отсчет вести от уровня моря, но если от подножья, то Мауна-Кеа (свыше 10,2 км), большая часть которой скрыта под водой; а если от центра Земли, тогда самой высокой следует считать Чимборасо, вершина которого благодаря экваториальному «выпячиванию» планеты находится дальше всех от центра. Вот такие познания порой дает подготовка к имитационному полету: мельчайшие детали, неожиданные факты о Земле, её формах и масштабах – всё это заставляет воспринимать планету иначе, словно впервые видишь её с высоты.
Тем временем диспетчер сообщил:
– Первый этап завершен. Вы достигли низкой орбиты!
На этой высоте мы ощущали легкое сотрясение атмосферы, едва уловимые вибрации и колебания конструкции, словно корабль пробивался сквозь невидимые волны. По обшивке проходили электрические разряды, имитирующие ионизацию верхних слоев воздуха, создавая ощущение реального сопротивления. Угроза заключалась в том, что при неверной работе двигателей мы могли быстро потерять скорость и сорваться вниз, в плотные слои атмосферы, где перегрузки и трение буквально разнесли бы корабль на части. Всё это выглядело и ощущалось крайне реалистично, хотя на самом деле мы оставались на месте, а все эффекты создавались симулятором.
Под нами раскинулся Атлантический океан – темно-синий, почти черный, со сверкающими вспышками солнечных бликов. Мы двигались по направлению вращения планеты, и огромное пространство воды вызывало у меня ассоциации с его обитателями: косяками плавали рыбы в моей памяти, всплывали образы китов и дельфинов, вспоминались картины морских путешествий, пиратских сражений, штормов и открытий, связанных с мореплаванием. Эти воспоминания накатывали сами собой, как если бы океан под нами оживал, демонстрируя историю человечества и природы одновременно.
Водная поверхность отражала солнечные лучи, превращаясь в гигантское зеркало, которое рассыпало свет на тысячи ярких бликов. Вдали виднелись заснеженные хребты, золотистые пятна пустынь и густые зеленые массивы лесов и джунглей, где природа бурлила и развивалась. Было бы у меня краски, я бы попытался запечатлеть эти контрасты: холодные снежные вершины, жаркое солнце пустынь и сочные оттенки растительности – всё это наполняло чувство захватывающей гармонии.
Между тем, нам предстояло перейти ко второму этапу – подъему на более высокую орбиту. Это необходимо для выхода на траекторию межпланетного полета, чтобы ускорение было достаточным для дальнейшего разгона и выхода на маршрут к Марсу, а также для проверки работы всех систем в условиях низкой и высокой орбиты.
– Перевести режим двигателей на фазу «два», – приказал диспетчер.
Выполнял этот приказ бортовой компьютер, а мы лишь фиксировали действия системы. Ашот продолжал сжимать рычаги, демонстрируя готовность перейти на ручное управление в случае отказа автоматики. Я наблюдал за функциональной работой компьютеров, Сергей следил за агрегатами и приборами, а Марина контролировала наше самочувствие через датчики, встроенные в комбинезоны. На ее дисплее отображались показатели: учащенное дыхание, повышенный пульс, интенсивное потоотделение. Уверен, она видела, что мы взволнованы, и каждая клетка нашего тела реагировала на имитацию старта, почти как если бы это был реальный полет.
Спустя несколько секунд заработали двигатели – громче, мощнее, с вибрацией, которая прошла по корпусу, будто внутри пробудился живой зверь. Металлические панели под ногами дрожали, воздух заполнился низким, давящим гулом. Вибрации усиливались, и нас снова вдавило в кресла – ровно, но ощутимо, так что я чувствовал, как ремни чуть впиваются в грудь и плечи. Кабина будто запульсировала от энергии, от натиска мощнейшей тяги.
На мониторах перед глазами замелькали линии траекторий – разноцветные дуги, пересечения орбит, координатные сетки. Камеры, установленные «вовне», показывали наш галеон с разных ракурсов – будто он действительно летит, отсоединяясь от голубой планеты. Казалось, ещё немного – и мы преодолеем притяжение, оставим Землю позади. Конечно, по-настоящему курс отслеживали не спутники и не станции «Роскосмоса», а компьютеры Тестово-испытательного центра, но их реализм поражал. Всё выглядело до невозможности правдоподобно: даже колебания освещения, мелькание отблесков на панелях, слабое гудение – всё напоминало настоящий полёт.
Центральный пост был залит светом. Индикаторы и лампы переливались зелёным, янтарным, синим; дисплеи мигали координатами и параметрами; тени на наших лицах менялись от бликов приборов, отчего казалось, будто мы сидим внутри самой радуги.
Макет-галеон «поднялся» на высоту пятьсот километров над Землёй. Двигатели стихли, вибрация прекратилась. Наступила тишина – чистая, плотная, словно из вакуума. Даже привычный гул вентиляторов будто исчез. Воздух в кабине казался неподвижным, время – остановившимся. Это было странное ощущение – будто корабль завис в вечности.
Мы переглянулись. У Сергея – бледное, но ликующее лицо; у Марины – улыбка облегчения; даже невозмутимый Ашот позволил себе короткий смешок. Начало было великолепным. Эксперимент шел идеально. Но вставать с кресел нельзя – по программе следовал разворот корабля на траекторию полета к Марсу, затем включение механизмов внутренней гравитации.
Я взглянул на пульт – и обомлел. Оставленная там авторучка… плавно поднялась в воздух. Сначала медленно, как будто кто-то невидимый осторожно толкнул её снизу, потом зависла между мной и панелью, покачиваясь. Я ошарашенно смотрел, не веря глазам. Невесомость? Как? Это невозможно! Мы ведь на Земле, в ангаре! Мозг отказывался принимать происходящее.
Я закрыл глаза, решив, что это просто усталость, галлюцинация от переизбытка впечатлений. Но стоило открыть их вновь – ручка всё ещё парила, блестя в мягком свете экранов.
И тут раздался спокойный голос диспетчера:
– Внимание, включается искусственная гравитация!
Из глубины корпуса донеслось жужжание моторов – ровное, нарастающее. Это приводились в движение имитаторы вращения, «колесо» должно было закрутиться, создавая иллюзию центробежной силы. При определённой скорости – около тридцати оборотов в минуту – человек ощущал бы привычное притяжение. У меня на мгновение закружилась голова, но это быстро прошло: моторы работали вхолостую, гравитация на Земле не нуждалась в подмене.
Когда я вновь открыл глаза, авторучка уже валялась на полу, как ни в чём не бывало. Получив разрешение отстегнуться, я вскочил, наклонился и поднял её, чувствуя, как холодный металл приятно ложится в ладонь. Никому не сказал о том, что видел. Списал всё на усталость, хотя глубоко внутри осталась дрожь – как от прикосновения к чему-то необъяснимому.
В этот момент в наушниках раздался ликующий голос Маслякова:
– Дорогие друзья! Поздравляю! Вы на околоземной орбите! Наши локаторы и станции слежения держат вас под наблюдением! Все параметры кругового движения соответствуют расчётным! Отклонения минимальны! Теоретически вы – в космосе!
По стандартам НАСА космосом считалась высота в сто километров – именно эта граница, называемая линией Кармана, определяла переход из атмосферы в безвоздушное пространство. ВВС США, более щедрые к своим астронавтам, признавали космос уже с восьмидесяти километров, а вот «Роскосмос» установил планку выше – сто двадцать километров над уровнем моря. Именно там, где воздух окончательно теряет плотность и звук замирает в вакууме, начиналась граница мира, разделяющая Землю и тьму.
Но наш галеон, каким бы совершенным он ни был, на деле оставался в Тестово-испытательном центре, среди бетонных стен и приборов, а мы – астронавтами только условно. Я вздохнул, когда эта мысль пришла в голову. И всё же – пусть даже имитация, пусть бутафория, но мы были частью большой программы, важной для страны, частью истории, пусть и в прологе к настоящему космосу.
Я поймал себя на мысли: как бы я хотел взглянуть с высоты сотни километров на Великую китайскую стену. Говорят, её видно из космоса – извивающуюся каменную ленту, пересекающую горы и равнины, как шрам древней империи. Представил её – тонкую, почти светящуюся жилку, проходящую по телу Земли. Но Ашот, услышав мой восторженный шепот, хмыкнул и пояснил, что это миф.
– Стена хоть и огромная по длине, но слишком узкая – всего девять метров. К тому же цветом сливается с землёй, – сказал он, не отрывая взгляда от приборов. – Не разглядишь. Даже пирамиды в Мексике или Египте не увидишь – слишком малы, хотя человеку на поверхности кажутся гигантами. Космос – он всё ставит на место.
Я кивнул, хотя в душе не хотелось верить в такую прозаичность. Ведь хотелось, чтобы чудеса всё-таки оставались чудесами.
– Спасибо, – сказали мы почти хором, когда Масляков поздравил нас. И только теперь, когда тишина после «старта» наполнилась ровным дыханием приборов, я осознал, что чувствую.
Это было похоже на эйфорию, перемешанную с гордостью и тихим страхом. На нас смотрели сотни, если не тысячи людей – инженеры, конструкторы, врачи, программисты, рабочие. За нами стояла вся Госкорпорация, вся страна, весь тот труд, который вкладывали десятилетиями, мечтая вернуть России былую космическую славу.
И я, Анвар, человек, выросший под узбекским солнцем, сидел здесь, среди приборов, и знал: это не просто имитация. Это – начало пути, в котором и моя кровь, и мой народ теперь участвовали. Я хотел доказать наблюдающим за нами, что не подведу. Что оправдаю доверие, что имя узбекского парня, пусть и не летевшего в космос, но участвовавшего в подготовке, войдёт в историю. В конце концов, ведь кто-то должен стать первым из нас, кто увидит Марс своими глазами.
Я даже представил, как где-нибудь в Ташкенте, в новостях или в учебниках, появится короткая строка: «Анвар Холматов – участник первого имитационного старта корабля „Радуга“, будущего миссии к Марсу». И что, может быть, сам президент, улыбаясь, отметит мой вклад.
Тем временем на главном мониторе вновь появилось лицо Даниила Дмитриевича Хамкова – нашего куратора, человека из самого центра Москвы. Он сидел в своём кабинете на улице Новый Арбат, в небоскрёбе из стекла и стали, с видом на серое небо столицы. Хмыкнул, посмотрел на нас с привычной надменной холодностью, ничего не сказал – и отключился. Видимо, его роль в этом спектакле завершилась.
Теперь ответственность переходила к Маслякову и его команде. Он внимательно наблюдал за каждым нашим движением, но я уловил в его глазах грусть – как будто то, что радовало нас, его, наоборот, тяготило. Наверное, он знал, насколько труден будет настоящий полёт, каково это – выйти за пределы земного притяжения, без страховочных ремней и гарантий. Но ведь кто-то должен идти первым. Мы сейчас, пусть и условно, протаптывали дорогу туда, где однажды вспыхнет след «Радуги».
– С вами всё в порядке, Геннадий Андреевич? – спросил я, шагая по кабине, ощущая под ногами лёгкую дрожь пола, словно корабль ещё дышал после старта.
Тот встрепенулся – экран четко показал, как Масляков выпрямился в кресле, будто его внезапно поймали на чем-то постыдном, и торопливо, с нервной улыбкой, ответил, стараясь придать голосу бодрость:
– О, Анвар, конечно, всё хорошо! Просто, понимаешь… – он кашлянул, поправил микрофон, – …мы теперь должны работать так, чтобы ваши тесты прошли безупречно. Все показатели, все параметры должны быть идеальными. Ведь от вашей имитации зависит, состоится ли настоящий полёт «Радуги». Если да – то Россия, да и всё человечество сделает шаг к Марсу! – И, видимо, почувствовав, что сказал чересчур пафосно, он поспешно добавил, уже сухим тоном: – А теперь я отвлекусь. Вам дается полдня для отдыха и проверки всех бортовых систем. Помните, что в сектора от «L» до «S» вход строго запрещён: там минусовая температура и минимальное давление – атмосферы почти нет, кислорода тоже. Это необходимо для корректной работы внешних агрегатов и охлаждающих контуров корабля.
– В 01:30 мы произведём включение маршевых двигателей для разгона, – вставил диспетчер ровным, немного механическим голосом. – С этого момента вы считаетесь летящими к Марсу.
Имени его я так и не знал, хотя голос запомнился – в нём звучала какая-то странная смесь усталости и скрытого любопытства, будто он сам не верил, что сидит не за монитором, а за симуляцией. Впрочем, познакомимся позже. Как я понял, он был лишь одним из дежурных координаторов.
Теперь мы были свободны. Центральный пост перестал напоминать нервный центр вселенной – только мерцание индикаторов и слабое гудение системы жизнеобеспечения. Ашот, как всегда собранный, раздал краткие указания: