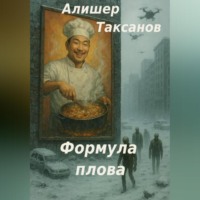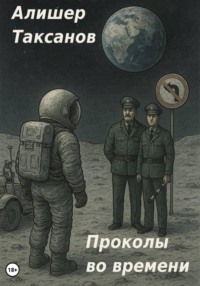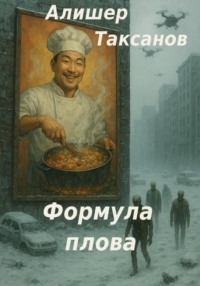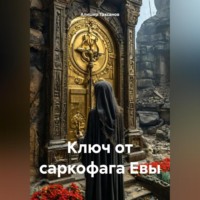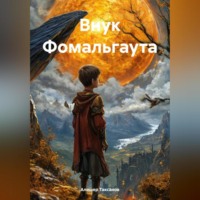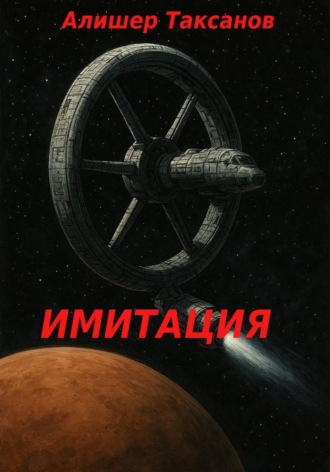
Полная версия
Имитация
– Проверка всех бортовых систем – через два часа. Не опаздывать.
Я взглянул на главный экран. Там медленно вращалась Земля – огромная, живущая, дышащая. Её облачные слои струились, словно белые реки, впадающие в океаны. На тёмной стороне мерцали огоньки городов, будто кто-то рассыпал по континентам россыпь алмазной пыли. А Луна висела рядом – близко, почти осязаемо. Я видел каждый кратер, каждую трещину на её серебристо-серой поверхности, причудливые тени гор и глубокие чаши метеоритных воронок. Снизу она казалась холодной и мёртвой, но теперь, вблизи, выглядела скорее древней и печальной, как лицо старого бога, наблюдающего за потомками.
Да, картинка была удивительно чёткой и объёмной – технологии Тестово-испытательного центра действительно творили чудеса. Экраны, работающие в режиме 3D-голографии, создавали эффект почти полного присутствия. Казалось, стоит только протянуть руку – и почувствуешь ледяную пыль лунных равнин, ощутишь на пальцах вакуум.
Астрономические приборы галеона сканировали небо, считывая координаты звёзд, пульсары, спектры света от планет и астероидов. Каждый сигнал, каждая звезда имела свой уникальный отпечаток – и по этим «звёздным отпечаткам» компьютер вычислял точное положение корабля, после чего пересчитывал параметры на траекторию к Марсу. Конечно, всё это было лишь имитацией, но какой тонкой, какой продуманной! Даже погрешности приборов моделировались – чтобы мы ощущали реальность космоса не как идеальный симулятор, а как живую, непредсказуемую среду.
Я потянулся, размял плечи и с усмешкой сказал:
– Эх, по мне бы лучше невесомость. Ходить не надо, вещи летают, красота.
Марина, сидевшая у медицинского пульта, подняла глаза и удивлённо посмотрела на меня поверх очков:
– Невесомость – первый враг астронавта. Ты разве не знал?
– А что враг? В невесомости всё легко даётся, – недоумённо ответил я. Мне это всегда казалось чем-то вроде детской забавы: летишь, вращаешься, делаешь сальто в воздухе – романтика же!
Она нахмурилась, её тон стал почти лекционным – строгим, как у профессора перед нерадивым студентом:
– Тогда позволь просветить тебя в медицинских вопросах. Невесомость – это не весёлые картинки из фильмов. Прежде всего, это рост человека и деформация его органов. – Она выдержала паузу и добавила: – Я не шучу, Анвар. В микрогравитации позвоночник распрямляется, ведь он больше не испытывает притяжение. Рост увеличивается на шесть, а то и семь сантиметров. Казалось бы, здорово? Но на деле – боль в спине, растяжение связок, ущемление нервов.
Я уже открыл рот для возражения, но она не дала вставить слова:
– Органы смещаются вверх по телу, – продолжала Марина, – из-за чего талия сужается, а грудная клетка и шея будто распухают. Сердце, лёгкие, сосуды – всё работает в изменённых условиях. Перераспределение крови идёт от ног к голове. Отсюда – отёки лица, повышенное давление, головные боли, тошнота. Американцы даже придумали термин: chicken legs syndrome, «куриные ножки».
Перед глазами тут же возникли эти «ножки» – худые, костлявые, с отвисшими мышцами, словно нарисованные в комиксе. А выше – раздутый торс, огромная шея, красноватое лицо с опухшими щеками и сонными глазами. Я не удержался и фыркнул от абсурдности образа.
– Вот именно, – сказала Марина, заметив мою реакцию. – Космос делает из человека мультяшного героя. Только в отличие от мультфильмов, последствия реальные – ломота, слабость, дезориентация. Синдром космической адаптации – не шутка.
Я кивнул, иронически взглянув на свои ноги:
– Ну что ж… тогда, пожалуй, земная гравитация мне ближе. Хоть фигура останется человеческой.
Марина улыбнулась уголками губ:
– Вот и правильно. Ты нам ещё понадобишься – в здравом уме и нормальной форме.
– Мдя… – протянул Ушаков, который до этого слушал молча, с задумчивым выражением на лице. Он почесал затылок, будто пытаясь прикинуть, как выглядел бы сам, если бы вдруг вырос на семь сантиметров, обзавёлся «куриными ножками» и опухшим лицом. Видимо, воображение у него сработало на славу: он нахмурился, скривил губы и тихо пробормотал что-то вроде «да ну его к чёрту». Видение явно не вдохновляло. Впрочем, и я почувствовал, как внутри зародилось странное чувство – будто бы мы все в этом симуляторе готовимся стать не героями, а жертвами какого-то шутливого эксперимента над человеческим телом.
– Кроме того, – продолжила Марина с невозмутимым врачебным спокойствием, – в условиях невесомости мозг перестаёт нормально воспринимать окружающий мир. Ведь мы всё оцениваем через силу притяжения – положение предметов, падение, подъём, даже равновесие тела. Без гравитации мозг теряет привычные ориентиры, путается, не понимает, где «верх» и где «низ». В результате развивается космическая болезнь, по симптомам очень похожая на морскую: от лёгкой тошноты и дезориентации до приступов рвоты, головокружения и даже галлюцинаций.
Я поморщился: одной мысли о бесконечной тошноте хватило, чтобы желудок неприятно скрутило.
– Астронавты, конечно, используют препараты от укачивания, – продолжала она, – но помогают они не всем и не всегда. Кстати, есть такой термин – Шкала Гарна. Не слышал?
Я развёл руками:
– Нет… просвети меня.
На лице Ульянова, который до этого внимательно слушал, появилась ехидная ухмылка. Он как-то уж слишком живо отреагировал, и я понял – сейчас последует что-то, что непременно заденет меня лично.
Марина усмехнулась:
– Это имя американского астронавта Джейка Гарна, который позже стал сенатором. Так вот, этот человек вошёл в историю не своими достижениями, а… полной, скажем так, неспособностью адаптироваться к космосу. Когда он впервые полетел на шаттле «Дискавери» в 1985 году, у него началась тяжелейшая космическая болезнь. Его так мутило, что он не мог ни работать, ни говорить, ни даже толком двигаться. Говорят, он провёл почти весь полёт, лежа, страдая и мечтая о возвращении на Землю.
Ушаков прыснул, прикрыв рот рукой.
– С тех пор, – невозмутимо продолжала Марина, – среди астронавтов появилось шутливое измерение: один Гарн – это максимум космической некомпетентности, когда человек полностью выведен из строя. Соответственно, половина Гарна – это когда ты уже почти не можешь работать, но хотя бы дышишь самостоятельно.
Я почувствовал, как щеки заливает жар.
– Но я не настолько некомпетентен, – пробормотал я, чувствуя себя школьником, которого застали за двойкой.
Сергей прыснул в кулак, сдерживая смех, но глаза его блестели предательски. Марина, будто ничего не заметив, спокойно добавила:
– Надеюсь, Анвар, ты не перейдёшь по этой шкале больше чем на 0,1 Гарна.
– Ха-ха-ха! – расхохотался Саркисов, хлопнув меня по спине так, что я едва не врезался в пульт.
– Осторожнее, Ашот, – процедил я, сжимая зубы.
Он, поняв, что перегнул палку, поспешно отвернулся к панели и стал старательно разглядывать показания приборов. Но по тому, как покраснели его уши, я понял – слушает он нас всеми своими командирскими локаторами.
Марина тем временем, словно лектор в университете, продолжала:
– В невесомости человек постепенно перестаёт ощущать собственные конечности, у него нарушается восприятие тела. Кажется, будто ты всё время вверх ногами, даже если это не так. А когда астронавты возвращаются на Землю, мозгу нужно время, чтобы «переучиться» жить под гравитацией. Некоторые по привычке пытаются отпустить предмет в воздухе – например, чашку или ручку, – искренне ожидая, что она зависнет. Но, увы, чашка падает. И это всегда шок.
Она сделала паузу, подняла палец, будто собиралась подытожить:
– А теперь о сне. Спать в невесомости – отдельное искусство. Нужно обязательно пристегнуться ремнями к стене или к спальному мешку, чтобы тебя не унесло куда-нибудь в сторону, где можно врезаться в оборудование. Несколько человек реально ломали приборы, а один – чуть не свернул себе шею. Так что безопасность прежде всего.
– Звучит романтично, – буркнул я.
– Есть, впрочем, и положительные стороны, – сказала Марина, на секунду позволив себе улыбнуться. – В невесомости человек не храпит. И риск апноэ во сне минимален.
– Ну, хоть что-то хорошее, – вздохнул я, глядя на Ушакова, который уже начал мысленно примерять к себе спальный мешок и ремни безопасности. Вид у него был такой, будто он вот-вот решит: «лучше на Земле, да в казарме».
– Хм, – протянул Саркисов и снова уткнулся в приборы, делая вид, что сосредоточен на графиках и показателях, но мы-то знали его. Это «хм» прозвучало не просто так – многозначительно, с тем самым кавказским оттенком, когда и слова не нужны. Все переглянулись, и я понял, что каждый из нас подумал одно и то же: Ашоту, пожалуй, действительно лучше жить в условиях невесомости. Там хоть звуки храпа разлетались бы по кабине и не доставали никого лично. Хотя, надо признаться, за все время мы его храпа так и не слышали – может, просто не успевал заснуть. Впрочем, радовало уже то, что каюты в галеоне были полностью звукоизолированы, а значит, каждый мог позволить себе уединение. Конструкторы постарались: стены толстые, двери герметичные, система вентиляции не передаёт ни звука, ни запаха. Каждая каюта – как маленький космический монастырь: собственная капсула покоя, где можно хоть читать, хоть говорить самому с собой, не мешая соседям. Право на личное «я» было соблюдено с инженерной щепетильностью, и в этом заключалась одна из самых человечных сторон технического прогресса.
– Гигиена – важнейший аспект жизни астронавтов, особенно когда они месяцами заперты в тесном пространстве, – начала Марина своим спокойным, уверенным голосом. – Нам, конечно, повезло: в нашем макете используется техническая вода, которая проходит замкнутый цикл фильтрации – очищается, возвращается в систему и может использоваться снова. Мы даже можем стирать одежду, пусть и в ограниченном режиме. А вот в реальных орбитальных условиях всё куда сложнее.
Она подняла палец, как преподаватель в медицинском университете:
– На «Мире», на МКС, да и раньше, астронавтам приходилось каждые три дня менять одежду и выбрасывать старую. Стирать было невозможно – вода ведь на вес золота. Более того, даже обычное мытьё превращалось в инженерный квест. Душ там не работает в привычном смысле: вода не стекает вниз, а превращается в капли и прилипает к телу. Или, что хуже, летает по модулю, пока кто-нибудь не поймает её полотенцем.
– Представляю, – хмыкнул Ушаков. – Плаваешь среди пузырей, как в аквариуме.
Марина усмехнулась:
– Почти. Поэтому вместо душа используют влажные губки, а волосы моют специальным шампунем без ополаскивания. Бритвы – с вакуумными насадками, чтобы волоски не улетали в воздух и не попадали в глаза, рот или аппаратуру. Один неправильно побритый астронавт может обесточить полмодуля. Даже зубная паста – проблема: её нельзя выплёвывать, иначе капли будут летать по отсекам. Поэтому её… глотают.
– Мдя-я… – протянул Ушаков второй раз, и теперь это «мдя» звучало особенно тоскливо. – Не весело.
– Конечно, не весело, – подтвердила Марина. – Особенно если вспомнить, какие были первые туалеты. Самые первые просто втягивали всё внутрь и складировали отходы в специальные пакеты, которые потом либо возвращали на Землю, либо выбрасывали в открытый космос через шлюз. Представь себе: летишь мимо Земли, а рядом с иллюминатором проплывает чей-то завтрак из прошлого дня.
– Романтика, – буркнул я.
– Сейчас всё цивилизованнее, – продолжала она. – Современные туалеты оснащены системами ферментации и обезвоживания, превращая отходы в сухое вещество, пригодное как удобрение для оранжерей. Это часть экосистемы корабля. А мочу фильтруют и подают обратно в питьевую систему.
Меня передёрнуло.
– То есть… уринотерапия в действии?
Марина рассмеялась:
– Можно сказать и так. Но без этого не обойтись: замкнутый цикл воды – это залог выживания в длительных миссиях.
– У нас, между прочим, тридцать тонн дистиллированной воды, – вмешался Сергей. – На «Салюте» вообще была сауна! Воду, конечно, экономили, но всё равно – могли позволить себе немного роскоши.
Мы рассмеялись, представив, как советские космонавты парятся в невесомости. Только Ашот не участвовал – сидел у приборов, будто отгораживаясь от всей этой бытовой темы. Видимо, командир решил, что разговоры о гигиене – ниже достоинства человека, ведущего корабль к Марсу.
Но я прекрасно знал, что нас слушают. Все переговоры, все разговоры – даже личные – фиксировались Тестово-испытательным центром. Не потому, что кто-то хотел подслушать, а просто таков был порядок: всё записывалось, анализировалось, изучалось – и технические показатели, и психологические реакции экипажа. Где-то там, за сотнями мониторов, инженеры, психиатры и операторы сейчас слушали, как мы обсуждаем унитазы и мыльные пузыри. Забавно, конечно, но это тоже часть науки.
– Однако, – продолжала Марина, – если использовать воду без возврата, её просто не хватит даже на полпути к Марсу. А нас здесь четверо, тогда как в реальной экспедиции экипаж будет из восьми человек. Поэтому многое зависит от фильтров – они очищают и воду, и воздух. Последний особенно важен, ведь даже самые современные туалеты не могут полностью устранить запах.
Она поморщилась.
– Для этого созданы вентиляторы и химические фильтры, которые нейтрализуют метан и неприятные ароматы. Без них на борту можно было бы сойти с ума.
– А я-то думал, – протянул Ушаков, – что главное в космосе – астероиды и радиация. А оказывается, враг номер один – туалет и запахи.
Мы дружно рассмеялись. Даже Саркисов, глядя в свои приборы, не удержался – уголки его губ заметно дрогнули.
– Поэтому метан опасен…
– Метан? – не понял я. – О чем ты, Марина?
Ульянова вздохнула и театрально развела руками, словно актриса, играющая трагикомическую роль в постановке «Человек и космос». В её жесте было что-то одновременно усталое и снисходительное – как у человека, объясняющего прописные истины тем, кто вчера впервые открыл для себя закон Архимеда. На лице мелькнула тень иронии: уголки губ изогнулись, глаза прищурились, и она с видом лектора, привыкшего к невнимательным слушателям, произнесла:
– Метеоризм – это частое и, увы, опасное явление в космосе…
Я моргнул, не сразу осознав смысл.
– Ты имеешь в виду метеоритные атаки? – переспросил я, искренне не понимая, к чему она клонит. – Но астероиды угрожают кораблю не меньше…
Марина поморщилась, как человек, который внезапно понял, что его собеседник списал с Википедии не ту статью:
– Ты меня не понял, Анвар. Метеоризм – это термин медицинский, а не астрономический, – она подчеркнула слово «медицинский», – означает испускание газов из кишечника. Метан и водород из человеческого организма – взрывоопасные газы. А в условиях замкнутого пространства это может привести к пожару, который в микрогравитации потушить не так-то просто.
Я невольно представил, как в лабораторном отсеке вспыхивает от искры метановое облачко, и где-то в углу отрабатывают тревогу автоматы пожаротушения. Картинка получилась комичная и жутковатая одновременно.
– Поэтому аппаратура очищает воздух от естественных продуктов жизнедеятельности, – продолжала Марина, как будто читая лекцию по гигиене на орбитальной станции. – Всё рассчитано так, чтобы снизить уровень угроз и повысить комфорт проживания. Даже питание подобрано соответствующее – минимальное газообразование. Исключены бобовые, молочные изделия, капуста…
– Я-то смотрю, нет у нас йогуртов, – протянул Ушаков, лениво почесав шею.
– Космос порождает и запоры, – добавила Марина сухо. – Поэтому слабительные средства входят в обязательный рацион.
– Мдя, – в третий раз выдавил из себя Сергей, видимо, представляя последствия этого разговора в замкнутом отсеке.
– Ещё одна проблема – микроорганизмы, – сказала Марина, уже полностью переходя в роль инструктора. – Грибки, плесень, бактерии – всё это способно мутировать и вести себя иначе в условиях микрогравитации. Из-за смены температур – когда станции то входят в солнечный свет, то оказываются в тени – появляется конденсат. А во влаге прекрасно чувствуют себя микробы, способные разъедать даже нержавейку, вызывать короткие замыкания, выводить из строя электронику и становиться источниками болезней.
– Значит, и на нашем корабле-макете они есть? – уточнил я, с подозрением посмотрев на вентиляционные решётки.
– Конечно, – кивнула она. – Но, к счастью, мы не в космосе, а против земных бактерий есть антибиотики. И всё же я обязана делать вакцинацию каждые три недели. Таковы требования Роскосмоса. Мы испытаем на себе всё, что разработано российскими фармакологами для будущих космонавтов.
– Ещё чем опасна микрогравитация? – спросил я, решив не останавливаться.
Марина улыбнулась уголком губ – взгляд стал мягче, почти учительским.
– Многим, Анвар. Но главное – не тем, что снаружи, а тем, что внутри тебя. – Она слегка постучала ногтем по груди, над сердцем. – Космос выворачивает человека наизнанку – и физически, и психологически.
Я чувствовал себя в тот момент первоклассником, которому впервые объясняют, что мир не плоский, а круглый – и что воздух, которым он дышит, может когда-нибудь взорваться.
– Поскольку нет чередования дня и ночи, то ведет к дисфункции сна, головным болям, тошнотам, потере ориентации. Последнее, что я хочу сказать об особенностях невесомости, это недостоток физической нагрузки. Из-за отсутствия гравитации атрофируются мышцы, со временем ослабевают даже позвоночник и кости, потому что им не нужно поддерживать вес; они становятся тонкими, хрупкими; теряются кальций и калий в костях таза, ребра, рук3. Астронавты, вернувшиеся на Землю, испытывали жуткие боли, не способны были встать, их кости ломались… Да, при длительном полёте потерять до 25% от своей первоначальной массы. Даже обязательные для космоса трехчасовые в день физические упражнения не всегда выручали.
– Значит, с созданием искусственной гравитации все проблемы человеческого здоровья разрешены, так? Ведь на «Радуге» с первого момента выхода за атмосферу Земли включаются моторы, которые раскручивают «колесо» до уровня земного притяжения, и больше ничего не угрожает людям, – подвел я итог нашей беседы, но получил отрицательный ответ:
– Нет, друг мой, это еще не все. Ты услышал лишь небольшую часть проблем.
– А что еще?
Над нами тихо жужжали моторы, словно шептались между собой невидимые духи техники. Их ровное гудение смешивалось с мерным шипением систем жизнеобеспечения, создавая ощущение странного, почти органического дыхания – будто сам галеон жил и чувствовал. В панели мягко мигали зеленые индикаторы, как спокойные глаза, следящие за нашим состоянием. Где-то в глубине корпуса перекликались реле, стучали насосы, прокачивая воздух и воду, и от этого создавалось впечатление, что корабль – не просто макет, а живое существо, гигантский металлический кит, плывущий в чернильной бездне. В отсеке пахло озоном, пластиком и чем-то ещё – едва уловимым, напомнившим мне больницу и лабораторию одновременно: стерильность с примесью человеческого присутствия. Свет был ровный, белёсый, без теней – здесь они попросту не нужны. Всё подчинено контролю, расчёту, режиму.
Мы сидели в креслах, пристёгнутые ремнями, но уже забыв об этом, слушали Ульянову. Она не просто говорила – читала лекцию с тем жаром, который бывает у людей, фанатично влюблённых в своё дело. Её голос был ровен, спокоен, но в нём слышалась энергия человека, привыкшего быть услышанным.
– Радиация, – продолжила она, глядя куда-то мимо нас, словно видела не стены тренажёрного отсека, а звёзды за иллюминатором. – Весь космос пронизан излучениями разного диапазона, и все они опасны для человека. Можно получить смертельную дозу, если бы не защита корабля и специальная электромагнитная оболочка, подобная земному магнитному полю. Ведь Вселенная – это фактически микроволновая печь низкой интенсивности. Чем дольше человек проводит время в космосе, тем больше его тело впитывает радиацию, а это ведёт к разрушению клеток, мутациям, нарушению обмена веществ. Считается, что такие дозы могут даже ускорить развитие болезни Альцгеймера.
Я что-то промычал в ответ, не зная, что сказать. На секунду представил, как миллиарды микроскопических частиц пронизывают плоть, как тонкий слой защиты держит натиск Вселенной, будто кожа против мороза.
– Второе, – продолжила Марина, – это психологическая совместимость. В космосе нельзя просто выйти и проветриться. Нельзя хлопнуть дверью, уйти погулять или побыть одному. Поэтому астронавты проходят длительные тесты, чтобы выявить возможные конфликты.
Она подняла глаза, посмотрела на нас по очереди.
– Даже «Радуга» – корабль огромный, с коридорами, лабораториями, каютами, но всё равно плотность населения здесь выше, чем в Китае. Мы сейчас вчетвером чувствуем себя свободно, а в настоящем марсианском полёте экипаж будет в два раза больше. Стресс, нервозность, депрессия, клаустрофобия, а иногда и срывы – это не редкость. Зафиксированы случаи алкоголизма, истерий, даже попыток самоубийства.
Она говорила спокойно, без пафоса, но от её слов веяло чем-то тревожным, ледяным. Казалось, что за каждым термином стоит чей-то сорванный голос, чей-то взгляд, застывший в иллюминаторе.
Я поймал себя на мысли, что космос, каким бы прекрасным он ни казался, не предназначен для человека. Мы вторгаемся туда как гости, которых никто не ждал – и которым, возможно, никто не рад.
– Лишь бы не сойти с ума, – медленно произнёс я, наблюдая, как на стенах центрального поста блики индикаторов плавно перекатываются, словно дыхание живого организма. – А алкоголизм… Так на борту нет алкоголя… Здесь нет бара или пивнушки.
Марина, чуть отстранившись от консоли, усмехнулась уголком губ, её глаза на миг блеснули мягким светом из-под монитора:
– Есть спирт для медицинских целей. Всё-таки на борту имеется отсек для операций и исследований. Там полно медикаментов и реактивов.
– Есть ещё биохимическая лаборатория, где синтезировать алкоголь несложно, – добавил Ушаков, не отрывая взгляда от пульта. – Так что наш бортврач права. Только я вот что думаю… мы все российские граждане, но этнически разные. Ашот – армянин, Анвар – узбек, я и ты, Марина, – русские…
– Я украинка, – спокойно поправила Ульянова. – Родилась в Киеве.
– Ага, ясно… В любом случае, мы интернациональный экипаж, – протянул Сергей. – Но всё равно у каждого своя культура, традиции, ментальность. Как бы не пересориться из-за непонимания образа жизни и поведения другого… Алкоголь вряд ли здесь хороший советчик.
Я кивнул, собираясь с мыслями, чтобы высказать то, что крутилось на языке:
– Я думаю, что мы – группа испытателей, – начал я медленно, будто проверяя каждое слово на прочность, – перед которыми стоят сложные задачи. И поэтому наша миссия выше всяких раздоров и личных недоразумений. Мы должны действовать по уставу и режиму, который принят в астронавтике, и тогда ни у кого не возникнет соблазна злоупотребления своим статусом, проявления шовинизма и чванства. Субординация и партнёрство, понимание и толерантность – вот наш рецепт от возможных конфликтов. На борту космического корабля это смертельно опасно. Нужно уметь держать себя в руках и концентрироваться лишь на задании. И не забывать, что настоящие астронавты должны иметь готовые формулы поведения, разработанные на нашем опыте, чтобы во время их реального полёта не произошёл бунт, самоубийство или какая-нибудь резня.
Пока я говорил, экраны продолжали жить своей жизнью. На одном вращалась голубовато-зелёная сфера Земли, медленно уходящая в темноту космоса; на другом серебристая Луна блистала кратерами, будто шрамами древней памяти. Цифры на датчиках беззвучно менялись, как дыхание электронного разума: давление, температура, уровни кислорода, импульсы связи. Весь галеон дышал ровно, уверенно, словно гигантская стальная грудь. Где-то в глубине корпуса тихо гудели насосы и вентиляторы – этот низкий гул был нашим фоном, нашей музыкой, напоминанием, что мы внутри машины, имитирующей вечность.
– Экипаж на «Радуге» тоже интернационален, – напомнил Ашот, перекладывая планшет с колен на стол. – Так что Анвар говорит верно. Я с ним согласен.
– Согласен, – кивнул бортинженер, коротко, но утвердительно. Марина тоже чуть улыбнулась и знаком показала, что моё предложение ею принимается.
Правда, никто из нас в тот момент не мог предположить, что всё равно конфликты возникнут – ведь для их проявления достаточно сотни мелочей. Особенно когда живёшь в замкнутом металлическом чреве, отрезанном от всего мира, где даже воздух вырабатывается машиной. Но я уже тогда мысленно расставил психологические «вехи» – отметил черты коллег, темпераменты, слабости и особенности. Разработал про себя схему общения с каждым, чтобы избежать ненужного трения и извлечь максимум пользы: опыта, знаний о корабле и, главное, уверенности, что даже в безвоздушной тишине человек остаётся человеком.