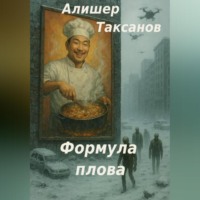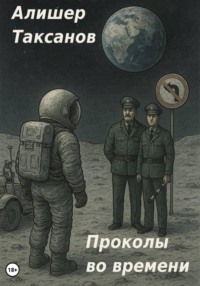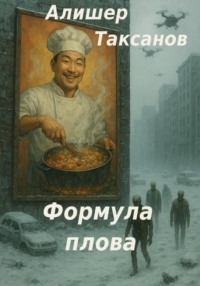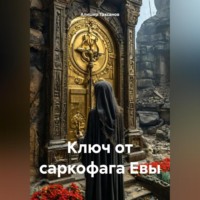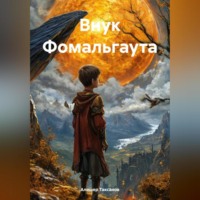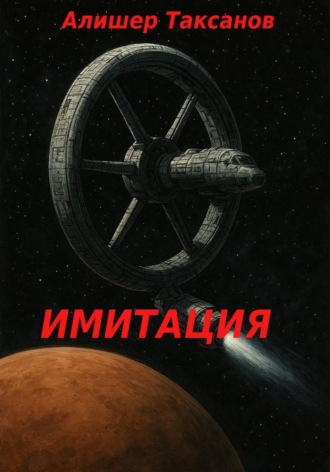
Полная версия
Имитация
– Такое было обозначено в документах, которые мы подписывали? – спросил я с подозрением, ощущая, как внутри всё холодеет. – Возможен ущерб нашему здоровью, получается?
Этот вопрос не давал мне покоя, и я снова пошёл к Марине Ульяновой. Она встретила меня у входа в медотсек, в усталой позе, с рукой, опущенной на металлический поручень. В её взгляде уже не было ни профессионального спокойствия, ни оптимизма.
– Напрямую там об этом не сказано, – произнесла она тихо, но с заметной горечью. – Но ведь мы все подписали согласие испытать на себе все «аспекты космического полёта». А радиация – постоянный спутник таких миссий. Никуда не денешься. Я знаю одно: часть повреждений от излучения необратима. Клеточные мутации, онкология, рак прямой кишки – это не страшилки, а реальные риски. Эксперты утверждают, что при полёте на Марс и обратно человек получит менее одного зиверта…
– Это много? – спросил я, чувствуя, как пересыхает горло.
– Это не смертельно, но и не сахар, Анвар, – резко ответила Марина.
Позже она связалась с диспетчером, чтобы уточнить – действительно ли необходимо обстреливать нас жёстким излучением. В трубке послышалось неловкое молчание. Потом голос ответил уклончиво: «Ваш вопрос будет передан Маслякову». Через час пришёл официальный ответ. Формулировка была выдержана в стиле военной бюрократии: «Опасений нет. Обстрел производится из специальных радиационных пушек Института ядерных исследований. Цель – проверить эффективность экранировки корпуса. Защита задерживает 96,7% излучения. Для экипажа угрозы нет. Просим не акцентировать внимание на технологических вопросах, это зона ответственности инженеров, не испытателей. Лучевая болезнь исключена».
Диспетчер добавил, что антирадиационные препараты принимать всё равно следует – «по протоколу эксперимента», а Марина, будучи врачом, обязана контролировать их воздействие на организм. Она слушала с каменным лицом, потом коротко кивнула, не проронив ни слова.
Мы приняли это как данность, потому что выбора не было. Но, честно говоря, мысль о том, что нас облучают ради эксперимента, не давала покоя. Ведь Тестово-испытательный центр – не пустыня и не полигон. Здесь, за стенами нашего галеона, работали десятки людей, инженеры, лаборанты, охрана. И если лучи действительно били по корпусу, то как быть с ними? С дозиметрами, с накоплением излучения на стенах, с вентиляцией, которая тянет воздух по всему зданию?
Я представил, как спустя годы это помещение, где мы сейчас живём и спим, начнёт светиться на дозиметрах, как в Чернобыле после аварии. Придут люди в белых костюмах, сварят двери, сверху отольют бетонный саркофаг и поставят табличку: «Опасно. Радиация». Абсурдная картина, но почему-то от неё пробежал холодок.
Я сказал Марине, немного нервно усмехаясь:
– Были ли у нас случаи, когда кого-то из-за болезни возвращали домой?
Она вздохнула, опустила глаза и ответила тихо:
– Да, но никогда не признавались, что причина была облучение. Всегда писали – «сердечно-сосудистые осложнения» или «истощение нервной системы»…
И тогда я понял: возможно, мы участвуем в куда более серьёзном эксперименте, чем сами себе представляем.
Однако Ульянова, немного помолчав, вдруг заговорила с неожиданной живостью, словно вспомнила нечто, давно засевшее в памяти:
– Были и другие случаи, связанные со здоровьем, – сказала она, откинувшись на спинку кресла. – В июле семьдесят шестого года пришлось вернуть со станции «Салют-5» двух астронавтов – Бориса Волынова и Виталия Жолобова. Они во время удаления контейнера с отходами отравились парами ядовитого гептила, представляешь? Это топливо, страшная гадость. У Жолобова начались невыносимые головные боли, давление прыгало, рвота. Центр понял – ещё немного, и человек просто умрёт на орбите. Тогда им и дали команду немедленно прекращать миссию и возвращаться. А ведь впереди у них было ещё полтора месяца работы.
Она помолчала, словно решая, стоит ли рассказывать дальше, и всё же добавила:
– Второй случай был уже в восемьдесят пятом, на «Салюте-7». Экипаж – Васютин, Савиных и Волков. Планировалось шесть месяцев, но через два у командира началось тяжёлое воспаление – урологическая инфекция, осложнения. В условиях невесомости это всё усугубляется: лекарства действуют иначе, организм перестраивается, иммунитет падает. Попробовали лечить – не помогло. Состояние ухудшалось буквально с каждым днём. Центр дал приказ: прерывать полёт. Вернулись через шестьдесят пять суток. Васютин потом так и не оправился, на орбиту больше не летал.
Я слушал, затаив дыхание. В голосе Марины чувствовалась не просто осведомлённость, а какая-то личная, почти интимная сопричастность – как у врача, который знает цену каждому случаю и каждой неудаче.
Я моргнул несколько раз, чтобы прогнать резь в глазах, и тихо сказал:
– Марина, я не жалуюсь. Но возвращать экипаж из-за моих вспышек в глазах… ну, это уж слишком. Я переживу, не беспокойся.
– Надеюсь, – ответила она сухо, но глаза её оставались тревожными. Она, казалось, пыталась удержать в себе множество противоречивых мыслей. – Пойми, я тоже не хочу, чтобы нас досрочно снимали. Мы все вложили в этот эксперимент слишком многое. И если его остановят – потеряем не только премию и статус участников имитационного полёта. Мы потеряем доверие. Всё, что нарабатывалось годами, пойдёт насмарку.
Она на секунду отвела взгляд, потом вернулась к деловому тону:
– Но по инструкции я обязана сообщить о твоём состоянии в Тестово-испытательный центр. Не могу скрывать данные. Это не обсуждается.
Я кивнул, пытаясь скрыть раздражение.
– Конечно, – буркнул я. – Правила есть правила.
Но внутри всё сжалось. Я знал, что теперь за каждым моим шагом будут наблюдать особенно пристально. Любое изменение пульса, усталости, сна – зафиксируют, обработают, выведут на экран. И если компьютер решит, что я «не в форме», – то эксперимент могут прервать.
Всё это внушало странное чувство: как будто тебя взяли под стеклянный колпак, поставили в лабораторию и ждут – выдержишь или треснешь. И где-то на другом конце провода, в тихом диспетчерском помещении, кто-то, может быть, уже сделал пометку в протоколе: «Испытуемый №4. Возможные признаки радиационного поражения сетчатки».
Я вышел из медотсека, чувствуя, как холод пробегает по спине. Коридор галеона казался бесконечным, гулкий, пропитанный запахом металла и озона. Шаги отдавались в стенах, как эхо в пустом колоколе. И я впервые подумал, что, может быть, этот полёт – не просто имитация. Может, кто-то решил проверить не только технику, но и границы человеческой выносливости.
А так жизнь протекала в обычном порядке, и скоро мы уже вошли в космический ритм, где все расписано с точностью до минуты: работа, отдых, спорт, приём пищи, медицинские осмотры. Каждый элемент нашего существования был подчинён расписанию – без него система рушилась бы, как плохо отлаженный механизм. Даже разговоры и свободное время были включены в график, словно эмоции тоже можно было отмерить секундомером.
Есть всем вместе не удавалось – один из нас неизменно дежурил на Центральном посту, следя за показаниями приборов, системами жизнеобеспечения и курсом «Радуги». Поэтому в камбузе, отсеке «В», собирались максимум трое, остальные ели потом, меняясь по расписанию. Камбуз был тесный, с низким потолком и звуком постоянного гудения фильтров – будто где-то рядом пчёлы строили свой ультрамодерновый улей.
Не стоит думать, будто пища астронавтов напоминает шедевры кулинарного искусства. Еда у нас была простая, утилитарная и – если называть вещи своими именами – сухая. Её главный плюс – компактность. Чтобы уменьшить массу, продукты замораживали и подвергали возгонке льда, удаляя влагу в вакууме. Этот процесс назывался сублимационной сушкой: до девяноста восьми процентов воды уходило в небытие, оставляя лёгкое, почти невесомое вещество, напоминающее комок пыли, пропитанный запахом оригинала. Перед употреблением его приходилось возвращать к жизни – залить водой, размешать, подогреть. На вкус, конечно, это был не тот борщ, каким его варит бабушка в Казани, но съедобно, даже сносно. Когда проголодаешься, организм перестаёт различать нюансы.
Зато процесс еды при нормальной гравитации доставлял удовольствие – редкое и почти забытое. Ведь даже при том, что мы были «на Земле», условия имитировали невесомость: здесь всё было адаптировано под полёт, словно мы уже парили в глубинах космоса. Любая крошка, капля, соринка, оторвавшись от стола, могла попасть в дыхательные пути и закончить жизнь астронавта самым нелепым образом. Поэтому посуда была особая – герметичная, с крышками, клапанами, ложками, напоминающими хирургические инструменты. Она не билась, не скользила и могла использоваться как при земном притяжении, так и в невесомости, где всё вокруг летает, будто потеряв ориентацию в пространстве. Даже суп мы ели не ложками, а через тюбики – втягивая его, как пасту из тюбика с зубной.
– Сегодня у нас плов, а на десерт – тортик, – сообщила Марина, листая меню, составленное медиками и диетологами. Она следила за нашим рационом с педантичностью аптекаря: всё должно быть по нормам, в нужной пропорции калорий, белков, углеводов и минералов.
Я усмехнулся. Плов – пусть и сублимированный – всё же звучал как нечто праздничное. NASA, как я знал, включало в стандартный рацион космонавтов любимые американские блюда: мясо с картофельным пюре, куриный пирог, оладьи, тыквенный десерт, да ещё и пакетики с печеньем, шоколадом и конфетами – словом, набор для выживания на Марсе и при этом без депрессии.
Наше меню выглядело строже, хотя и не без комфорта: первый завтрак – бисквит, чай с лимоном или кофе; второй – мясо и сок; обед – куриный бульон, чернослив с орехами, иногда молочный суп с овощами и мороженое; ужин – свинина с пюре, печенье, сыр, молоко. Всё это шло строго по графику, который высвечивался на мониторе. Извлечь еду произвольно никто не имел права. Не потому что нас держали в узде, а потому что организм человека в замкнутом пространстве – лабораторный образец: любое отклонение от нормы и результаты эксперимента становятся недействительными.
Меня, правда, радовало, что в рацион включили и азиатскую кухню – рис, лапшу, даже крошечные упаковки соевго соуса. Пусть это и был компромиссный вариант, но всё же нечто родное. Сергей, впрочем, кривился: предпочитал гречку и тушёнку, а ко всему «азиатскому» относился как к экзотике.
– Мы не в ресторане, а в имитационном полёте, – напомнил он однажды, когда я слишком воодушевлённо размешивал сублимированную лапшу. И был прав.
Ежедневно каждому из нас полагалось по 1,6 килограмма еды и обязательная физическая нагрузка: велотренажёр, эспандеры, резиновые петли, имитирующие сопротивление мышцам. Без них мы растолстели бы, несмотря на «космическое» питание.
– А пить что? Минералку или чай? – спросил я как-то, подыскивая кружку.
– На выбор, – пожала плечами Марина. – Только не забывайте: и то, и другое консервировано.
Про вкус она сказала верно. Вода, чтобы не цвела и не теряла свежести, обрабатывалась консервантами – главным образом ионным серебром. Один миллиграмм серебра на десять литров воды делал её пригодной для питья на долгие месяцы, почти полгода. Запах у такой воды был особенный – металлический, с едва уловимым привкусом стерильности, словно пьёшь не воду, а антисептик. Но зато безопасно. На складе у нас хранилась почти тонна этих добавок, аккуратно упакованных в герметичные контейнеры с маркировкой «Ag+».
Иногда, закрывая глаза и делая глоток этой стерильной влаги, я ловил себя на мысли, что где-то там, за стенами Тестово-испытательного центра, миллионы людей просто открывают кран и пьют воду – живую, прохладную, настоящую. А мы пили лабораторный аналог – дистиллированное отражение реальности. И всё же в этом был свой символизм: чтобы добраться до Марса, человечеству, видимо, придётся научиться любить даже вкус стерильности.
Торт и плов, естественно, пришлось «раздувать» водой. Мы залили содержимое пакетов кипятком, подождали, пока обезвоженные комки напитались влагой и обрели вид чего-то, напоминающего пищу. По вкусу это было близко к оригиналам, но, как говорится, лишь с закрытыми глазами. То, что лежало в тарелке, язык не поворачивался назвать привычными словами: плов – это не безликая каша, а музыка специй, жареной моркови, сладкого лука и масла; торт – это аромат ванили и мягкость крема, а не влажный, чуть сладковатый мякиш с привкусом пластика. Здесь же всё было будто прошедшее через фильтр лаборатории, стерильное, обескровленное. Вкус – словно отбелённый, без души. Я вздыхал, ковырял ложкой «плов», напоминавший скорее серовато-жёлтый пюреобразный состав, и думал, что именно такую жратву будут потом поглощать настоящие марсиане – те, кто полетит на Марс всерьёз. А я, после испытаний, первым делом пойду в ресторан восточной кухни на окраине города, где готовят выходцы из Узбекистана. Вот они – мастера. Их плов не просто блюдо, это событие: пар над казаном, треск масла, запах барбариса и зиры, и рис – прозрачный, блестящий, будто крупинки солнечного света.
Работа моя, в отличие от пищи, была однообразной, но не без пользы. Не думайте, что я лишь следил за приборами – хоть это и значительная часть обязанностей. Приходилось трудиться и в оранжерее, где под искусственным светом медленно росли помидоры, морковь, картошка и баклажаны. Всё по науке: питательная смесь, увлажнение по графику, и, что уж там скрывать, удобрение – из переработанных нашими системами фекалий, почти не издающих запах. Поначалу этот факт вызывал лёгкое отвращение, но потом я стал относиться к нему спокойно. В замкнутом пространстве всё должно быть частью цикла: то, что выходит из тебя, возвращается к тебе же в виде урожая.
Кроме того, нам часто приходилось осматривать «колесо» – конструкцию, имитирующую вращающиеся секции с искусственной гравитацией. Мы шли по нему с приборами, отмечая усталость металла, микротрещины, состояние швов между листами, выявляя слабые места, где в реальном полёте потребовалась бы сварка. Пока всё было в норме, и сварочные работы ни разу не понадобились. Но мы были готовы: для этого у нас имелась отдельная экипировка – плотные комбинезоны с многочисленными карманами, магнитными креплениями для инструментов, липучками, светоотражающими полосами. В таких костюмах человек чувствовал себя не исследователем, а механиком с межзвёздной верфи. Когда надевал сварочную маску и щёлкал зажигателем, в отсеке запахло не металлом, а чем-то ностальгически земным – трудом.
Повседневная одежда была другой – простая, но продуманная. Лёгкие майки, шорты, спортивные костюмы из ткани, впитывающей пот и не раздражающей кожу. Обувь – вроде кроссовок, но с твёрдым супинатором, чтобы поддерживать стопу при искусственном притяжении. И всегда – датчики. Маленькие, почти невесомые сенсоры на груди, запястьях, под ключицей. Они круглосуточно снимали показания давления, пульса, температуры, уровня кислорода в крови и передавали их на монитор Марины. Она сводила всё в отчёт, который отправлялся в ТИЦ. Мы, можно сказать, были под медицинским микроскопом: каждый наш вдох, каждый стресс или всплеск эмоций фиксировались с беспощадной точностью. Иногда хотелось сорвать с себя эти липкие пластинки, но в глубине души я понимал: без контроля не будет эксперимента.
Больше всех хлопот доставалось Сергею. У него каждый день что-то ломалось – то датчик, то блок питания, то механизм стыковочного люка. Он чертыхался, лез в нутро приборов, паял, подкручивал, стучал гаечным ключом по панели, и всё это – с тем выражением лица, которое бывает у людей, уверенных, что техника имеет собственный характер и вредничает нарочно. Когда поломки оказывались серьёзными, Сергей связывался с ТИЦом, объяснял, что именно пошло не так, и специалисты внизу фиксировали проблему, чтобы внести изменения в реальный проект «Радуги». Получалось, что мы, по сути, совершенствовали корабль, на котором полетят другие – более удачливые, более молодые, возможно, уже рожденные под звёздным небом.
Иногда я ловил себя на странной мысли: а получат ли они хоть слово благодарности? Или всё останется в отчётах, где будут сухие формулировки вроде «результаты моделирования подтвердили пригодность системы»? Нам хотелось верить, что те, кто полетит, будут помнить о нас. Но в глубине души я сомневался. История космоса редко запоминает имена тех, кто только репетировал полёт.
В свободное время я читал вести с Земли, которые официально высылал мне Тестово-испытательный центр. Информация приходила в виде тщательно составленных подборок – сводки, статьи, репортажи, всё будто прошедшее сквозь сито цензуры. Самостоятельно выйти в Интернет было невозможно: каналы связи проходили через спутники с установленными «фильтрами». Казалось бы, зачем такие предосторожности, если мы всего лишь имитировали полёт, находясь под куполом испытательного комплекса? Но в этом и был парадокс – чем ближе к звёздам, тем дальше от мира. Нам говорили, что ограничение доступа вводится ради психологической стабильности экипажа, чтобы не отвлекаться от миссии, но на деле это походило на мягкую изоляцию. Нам оставляли только то, что считали нужным.
Известия об Африке или Латинской Америке подавались в общих выражениях: «усиливается социальное напряжение», «растёт уровень безработицы», «продолжаются вооружённые столкновения». Мировые биржи – сухие цифры без контекста. Внутренняя политика России – благостные отчёты о прогрессе, строительстве, успехах науки и культуры. Ни интриг, ни скандалов, ни голосов протеста – будто планета целиком превратилась в декорацию. Это вызывало странное ощущение: как будто смотришь на Землю сквозь мутное стекло, где всё ровно, тихо и неправдоподобно спокойно. В какой-то момент я понял, что скучаю не столько по дому, сколько по шуму – по реальному, живому миру, где спорят, смеются, ошибаются и ищут правду.
Марина, устав от безликих официальных выпусков, мечтала о ток-шоу, где люди кричат, спорят, смеются. Ашот тосковал по армянским новостям и военным передачам. Сергей, как всегда, рвался к музыке – ему не хватало концертов, прямых эфиров, фестивалей. Я же хотел видеть политику без прикрас, анализ, слова, за которые цепляется мысль. Но всё, что нам предоставляли, было словно искусственно «обеззаражено» – как пища, прошедшая через сублимационную сушку.
Мы не протестовали открыто – не было смысла. Но каждый ощущал внутреннее раздражение, нарастающее с каждым днём. И вот однажды Марина, поймав момент, тихо сказала мне в коридоре:
– Анвар, найди способ обойти фильтры. Я хочу свободно войти в Интернет.
Я усмехнулся, покачал головой:
– Не так просто… В Тестово-испытательном центре стоят суперкомпьютеры, они блокируют любой несанкционированный трафик. А наши сигналы ещё и опаздывают, поэтому каждая команда проходит через десятки проверок. Это не Интернет, а вязкое болото.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Речь идет о астронавте Салижане Шарипове, выходце из г.Ош., Кыргызстан, гражданине России.
2
Владимир Джанибеков, астронавт, проживавший в детстве в г.Ташкент, Узбекистан.
3
Примерно после 8 месяцев пребывания в невесомости требуется от 2 лет и больше для восстановления на Земле, так как процесс разрушения костей некоторое время происходит и при земной силе тяготения.
4
История российской космонавтики знает случаи, когда вооружались космические аппараты, в частности, на орбитальной станции «Салют-3» была установлена зенитная пушка системы Нудельмана для уничтожения целей, угрожающих станции.