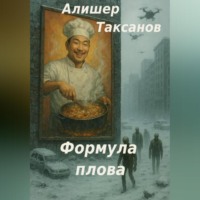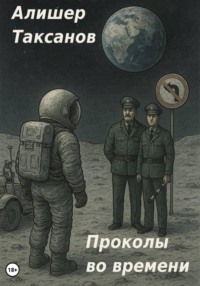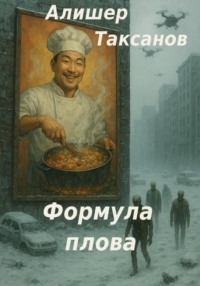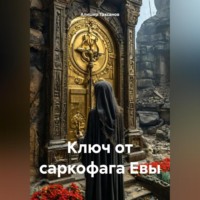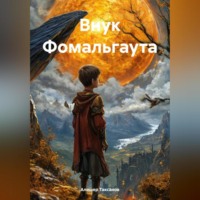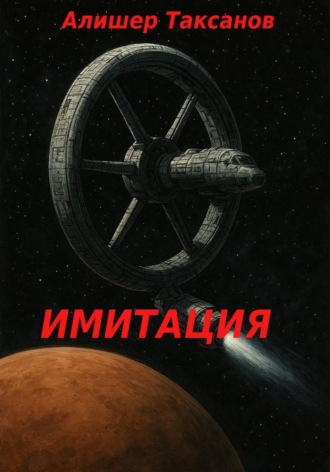
Полная версия
Имитация
Мы не возражали, и через пять минут уже сидели в минивэне «Фольксваген Туран» – аккуратный серебристый автомобиль, просторный, с мягкими кожаными сиденьями и приглушённым светом салона. Его сопровождал второй автомобиль с охраной. Мы ехали по осенней дороге к закрытому объекту: вдоль трассы тянулись редкие деревья с золотыми и багряными листьями, прохладный воздух проникал через слегка приоткрытое окно. Астронавты в своих машинах не повернулись к нам – знакомство так и не состоялось. «А нужно ли оно было?» – мелькнула мысль. Возможно, независимость друг от друга была частью гарантии чистоты эксперимента, элементом психологического замысла.
Пока мы ехали, я спросил у Маслякова:
– Значит, мы первые, кто участвует в имитационном полёте на Марс?
Начальник удивлённо посмотрел на меня:
– Анвар, я уж думал, что вы в курсе, успели, если не «погуглить» в Интернете, то хотя бы спросить у наших сотрудников…
Я покраснел и виновато развел руками.
– Вы не первые, друг мой, – сказал Геннадий Андреевич. – В 1960-х годах по указанию Сергея Павловича Королёва готовилась марсианская программа: создание ракеты-носителя Н-1, марсианского транспортно-пассажирского корабля, тестовые испытания экипажа. В 1967–68 годах состоялся первый эксперимент «Марс-365», в рамках которого трое советских испытателей прожили в замкнутом пространстве, очень небольшом. Всё происходило под грифом «секретно». За год многое случилось с участниками, однако испытания завершились положительно: да, люди смогут выдержать годичный полёт в космосе, если будут заняты работой и не станут отвлекаться на грустные мысли. Хотя это было больше психофизиологическое испытание: условия невесомости никто не моделировал, а это был самый главный и сложный барьер экспедиции. Читал отчёты – там встречались галлюцинации, приступы депрессии, порой даже желание совершить суицид…
Все слушали молча. Я был уверен, что кто-то неплохо знаком с историей подобных испытаний, наверняка Марина Ульянова, ведь именно ей предстоит проводить медико-биологические исследования на нашем корабле-макете.
Машина мчалась по шоссе, останавливаясь лишь на контрольно-пропускных пунктах, где военные лишь всматривались в нас и махали рукой: «Езжайте дальше». Мелькали деревья, освещённые серебристым светом Луны: их голые ветви казались длинными, почти призрачными пальцами, а между ними проглядывали туманные силуэты полей и опустевших дачных участков. Лунный свет придавал осеннему пейзажу странную нереальность – казалось, что дорога уходит в бесконечность.
– Второй эксперимент прошёл в 2010–2011 годах и назывался «Марс-500». Оказалось, что при тех технологиях корабль сможет достичь Марса и вернуться домой за пятьсот дней. Экипаж был интернациональный. Помещения, в которых жили испытатели, не были полностью приближены к реальным, хотя весь процесс обитания, включая обеспечение продуктами, кислородом и прочее, был замкнутым и воспроизводимым. У людей было больше пространства, имелся неплохой досуг, выход в Интернет, возможность заниматься спортом, и всё же срывы имелись. Один из испытателей – гражданин Китая – отказался от участия и покинул команду. И в этот раз руководство интересовали вопросы выживаемости и психологического состояния экипажа. Через 500 дней эксперимент завершился, и также был сделан положительный вывод: человек сумеет добраться до Красной планеты. Вопросы психического состояния были в основном решены… Насколько нам известно, подобные эксперименты ставились и в Китае, и в США, и даже в Индии.
– Тогда к чему наша имитация? – спросил Ушаков. – Если все вопросы как бы устранены?
И он получил честный ответ:
– А ваша – это проверка техники, возможности всех систем галеона, обеспечение не только полёта до Марса и возвращения на Землю, но и безопасности экипажа, его выживаемости. Вы в большей степени испытатели бортового оборудования. Поэтому мы, повторюсь, моделируем всё для вас: и старт, и полёт, и даже метеоритную атаку, и поломку агрегатов, и многое другое. Вы должны будете воспринимать всё как реальность – таково требование чистоты эксперимента. Даже если на борту произойдёт что-то катастрофическое, опасное, вы обязаны решать всё самостоятельно – вплоть до того, что Анвару, к примеру, придётся вырезать аппендицит Ашоту, а Марине менять фильтры в очистительной камере, там, где фекалии. К вам не придёт на помощь ни один сотрудник центра – мы не имеем права до завершения эксперимента вступать на борт макета корабля, даже если нас разделяет всего пятисантиметровая сталь обшивки. С другой стороны, ваше участие минимально, ведь на борту всё автоматизировано, системы дублируются, есть даже «защита от дурака»… Но непредвиденные ситуации возможны, и мы их вам будем создавать – по мере развития нашей фантазии и, скажем прямо, садистской изощрённости.
Масляков улыбнулся – коротко, без тени веселья. В этой кривой усмешке чувствовалась внутренняя тяжесть: он явно не испытывал удовольствия от того, что фактически отправляет нас в психологическую мясорубку. Под глазами у него залегли тени, словно он сам уже не раз проходил через подобные эксперименты и знал, чем они заканчиваются. Его рука машинально потёрла подбородок, а взгляд на миг потускнел – будто он хотел что-то добавить, но передумал.
Тут Саркисов подал голос:
– Имитация посадки будет? А то я учился управлять взлётно-посадочным модулем… на тренажёре, естественно.
Вопрос, похоже, застал шефа врасплох: он заметно побледнел, глаза забегали, и он стал тереть переносицу, будто желая унять внутреннюю дрожь. Потом тяжело вздохнул:
– Нет, на Марс реальные астронавты высадятся без вашей предварительной имитации. Мы не можем моделировать процесс вхождения в атмосферу, нахождения на планете, старта и прочего, с чем столкнутся члены экипажа «Радуги». Зато у нас большой опыт полётов в открытый космос – этот процесс для нас стандартный, приемлемый. Вы просто полетаете на Земле, как в космосе. А ваше желание, Ашот, я понимаю – любой лётчик мечтает испытать марсианский аппарат. Но в вашей программе этого нет, увы…
При тусклом свете плафона в салоне я заметил, как помрачнел Саркисов. Его крупное лицо, обычно спокойное, словно высеченное из гранита, вытянулось; он глядел в окно, где проскальзывали редкие фонари, и пальцы его, с узловатыми суставами пилота, машинально сжимали подлокотник. Было видно: ему хотелось настоящего полёта, не этой театральной имитации. Его самолюбие, вымуштрованное годами в авиации, страдало от осознания того, что ему доверяют лишь роль статиста.
Неожиданно Масляков вздохнул и, будто чтобы разрядить атмосферу, сказал:
– А Марс… Знаете, там есть много чего интересного, то, ради чего стоит тратить двадцать пять миллиардов долларов и терпеть все тяготы… – потом резко осёкся, словно осознал, что сболтнул лишнее. – Ладно, забудем. Вам это не грозит.
– Что не грозит? – Сергей нарочито глупо прищурился, растягивая губы в полуулыбке.
– Не грозит знать то, чего не полагается!
Разговор оборвался, как ножом. В салоне повисла неловкая тишина, звенящая, как натянутая струна. Только двигатель глухо урчал, а фары выхватывали из темноты полосы мокрого асфальта и стволы берёз, поблёскивающих лунным светом.
Я решил сгладить напряжение и спросил, стараясь звучать беззлобно:
– Геннадий Андреевич, а почему в нашей команде только четверо, а не восемь, как в экипаже «Радуги»? Ведь это было бы ближе к реальности.
Лицо Маслякова передёрнулось. Он коротко кашлянул, будто давая себе время собраться, и ответил:
– Нет нужды в восьми испытателях. Четыре – это оптимальный вариант. Если участников меньше, начинаются сложности эмоционального порядка. Двое – через месяц-другой окажутся на грани суицида или межличностного конфликта. Три – значит, двое сдружатся против одного, что разрушает атмосферу. А четверо – это устойчивый психологический квадрат. И вы подобраны не случайно: каждый из вас имеет качества, которые удержат баланс. Помните, что на каждого в день полагается десять килограммов воды и продуктов, не говоря уже о запасах топлива для полёта туда и обратно. Так что вы не потолстеете – но и не похудеете.
Последняя фраза вызвала у нас слабую улыбку. Никто из нас не был склонен к перееданию – наоборот, все в той форме, какую требует космос: сухая мышца, жёсткая дисциплина, нерв как стальной трос. Мы переглянулись: впереди – испытание не желудка, а человеческого духа.
– Но это ведь нужно для экипажа «Радуги», – хмыкнул Ушаков. – Мы-то остаёмся на Земле…
Мы продолжали мчаться в ночной тишине. За окнами скользили стволы деревьев, обсыпанные снегом, как седые старики, выстроившиеся вдоль дороги. Луна висела над лесом тусклым блюдцем, отливая холодным металлом, и казалось, что её свет исходит не с неба, а от самой земли, заледеневшей, мёртвой. Фары резали темноту, выхватывая из неё колдобины, ухабы, обледенелые кочки – дорога шла зигзагами, уводя то вверх, то в ложбину. Машину подбрасывало и покачивало, будто мы ехали не по асфальту, а по старому, забытому трактору времени, ведущему неизвестно куда.
– Да… вы остаетесь на Земле, – произнёс наш руководитель коротко, почти глухо, словно каждое слово ему приходилось выталкивать усилием. – Но надежды на вас возлагаются самые большие. Для полёта нужны четыре профессионала: пилот, который поведёт корабль, будет ориентироваться в космосе и сажать модуль на Марс; бортинженер, который знает все технические процессы и способен починить любой агрегат, даже если от него осталась одна деталь; компьютерщик-айтишник – человек, отвечающий за функционирование всей электроники и программ, ведь без них не работает ничего, даже кислородный клапан; и, наконец, врач – специалист, владеющий терапией, хирургией и психотерапией. Известно, как отрицательно действует космос на мышцы, кости и психику.
Он говорил спокойно, без нажима, но голос его имел ту особую сухость, которая появляется у людей, привыкших принимать решения, от которых зависят жизни. Слова звучали убедительно, и всё же вопросов у нас меньше не становилось.
– Геннадий Андреевич, – подал голос Сергей, чуть растягивая слоги, – почему наша команда не состоит либо только из мужчин, либо только из женщин? Почему среди нас только одна женщина? – и он сделал акцент на слове «женщина», с тем самым оттенком мужского любопытства, который бывает у людей, привыкших скрывать интерес шуткой.
Шеф не уловил интонации или сделал вид, что не уловил, и ответил деловито:
– Да, Ушаков, вопрос не праздный. Мы тоже его рассматривали. По нашим данным, наиболее психологически устойчивым является именно смешанный экипаж. Если говорить о будущем, о колониях на Марсе, то там неизбежно будут и мужчины, и женщины, а затем – дети. И это не вопрос морали, а биологии.
Он повернулся к нам, словно читая лекцию, и продолжил:
– Исходя из расчётов Института космической антропологии, для устойчивого формирования колонии требуется не менее сорока человек – двадцать мужчин и двадцать женщин, при этом половина должна быть репродуктивного возраста от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Такое распределение обеспечивает не только биологическую выживаемость, но и социальную стабильность. Моногендерные группы на длительном изолированном цикле начинают проявлять поведенческие отклонения уже через три-четыре месяца.
Сергей хмыкнул, удовлетворённый. Видимо, ему понравилось, что даже на Марсе всё сведётся к вечной земной теме – мужчине и женщине.
Масляков кивнул, продолжая в том же тоне:
– Мы не хотели, чтобы во время имитации проявились социальные патологии, присущие изолированным однополым коллективам – как в тюрьмах, казармах, подводных лодках. Сексуальная инверсия, агрессия, подмена ролей, доминирование – всё это рушит атмосферу. Поэтому смешанный экипаж – гарантия психологической разрядки и равновесия. В реальном полёте гендерная политика будет соблюдена, но в вашем случае, увы, только одна женщина. Просто не удалось подобрать других кандидатов с нужными параметрами. Не было пилота, бортинженера и программиста женского пола, способных соответствовать вашим уровням. Зато врач Ульянова ничуть не уступает мужчинам – ни по знаниям, ни по выдержке. Хотя, по плану, всё должно было быть 50 на 50… – он развёл руками и пожал плечами.
Марина сидела прямо, как статуя, глядя вперёд невидящими глазами. Свет фар ложился на её лицо скользящими бликами, то выхватывая из тьмы холодную линию скул, то бросая в тень губы, плотно сжатые, будто из металла. В ней было что-то от лётчика и хирурга одновременно – собранность, выученная до автоматизма, и усталое презрение к ненужным эмоциям. Она слушала, не выражая ни согласия, ни раздражения, и в этом молчании чувствовалось больше силы, чем в любом ответе.
Машину снова тряхнуло – колесо угодило в выбоину. Я, глядя в мутное окно, почему-то вспомнил слова Сергея: «Лучше бы эти миллиарды вложили в дороги, хотя бы такие, как эта, по которой мы едем в ТИЦ». И действительно – под колёсами глухо гудела разбитая трасса, и казалось, что именно она, а не Марс, была нашей настоящей планетой-испытанием.
Геннадий Андреевич, словно почувствовав, что разговор зашел на опасную территорию, слегка усмехнулся и перевел дыхание, а затем неторопливо сказал:
– Что касается космической техники и систем управления, то они должны быть эффективны и надёжны, чтобы гарантировать бесперебойную работу всех механизмов и систем корабля на всех этапах длительного полёта. Однако, – он сделал короткую паузу, – запуски космических аппаратов до сегодняшнего дня всё ещё осуществлялись при помощи тех же двигателей, что и 4 октября 1957 года вывели на орбиту первый искусственный спутник Земли.
Он говорил без патетики, но в голосе звучала такая уверенность, будто за каждым словом стояла не просто статистика, а его личный опыт, прожитый и выстраданный.
– Эксперты давно считали, – продолжал он, – что полёт на Марс возможен только при помощи мощных ракет нового поколения. Тогда уже говорили: человечеству нужен качественный скачок в технологиях. Ведь при межпланетных полётах расстояния до Земли будут столь велики, что радиосвязь станет запаздывать на десятки минут, а управление с Земли – попросту невозможным. Следовательно, корабль должен стать сам себе Землёй – уметь решать проблемы без подсказки, без оператора, без «земного дяди». И вот государственная корпорация «Роскосмос» наконец сделала большой рывок в этом направлении. Корабль «Радуга» – это и есть тот ключ, который способен открыть двери на все планеты Солнечной системы. – Он посмотрел в окно, где уже мелькали бетонные плиты и вышки освещения. – Ладно, господа, мы уже приехали. Все беседы – потом, когда эксперимент начнётся.
Машина, мягко урча, въезжала в периметр закрытого городка. Воздух стал плотнее, будто вокруг нас опустилась невидимая сетка. За шлагбаумом поднимались серые модули контрольно-пропускных пунктов, а по обе стороны дороги выстроились глухие заборы, перекрытые рядами колючей проволоки, похожей на застывшую молнию. Когда мы проехали через последние ворота, за нами медленно опустился массивный экран – щит толщиной в метр, облицованный свинцово-графитными панелями. Говорили, что он способен отражать любые радиоволны и глушить сигналы спутниковой разведки, создавая для внешнего мира тишину, в которой глохло всё – и радио, и GPS, и даже мобильники. Казалось, этот щит отрезает не только от космоса, но и от самой Земли.
Солдаты в белых маскхалатах, стоящие у контрольно-пропускного пункта, махнули рукой, показывая направление. Лица у них были неподвижные, будто маски, и даже глаза не следили за нами – пустые, натренированные не замечать тех, кого пропускают. Водитель, не дожидаясь жеста, уверенно свернул направо: дорогу он, очевидно, знал до сантиметра.
И вскоре перед нами, за поворотом, вырос корпус Тестово-испытательного центра – колоссальное сооружение из стекла и бетона, часть которого уходила под землю, как айсберг под воду. Сверху всё выглядело почти обманчиво просто: несколько ангаров, купол из титановых пластин, башня связи и площадка с антеннами. Но под поверхностью простиралась настоящая подземная страна – десять уровней, соединённых лифтами и шахтами, тысячи помещений, лабораторий, складов, технических отсеков, собственная атомная миниэлектростанция, транспортные тоннели и коммуникации. Система связи здесь была автономна и изолирована от внешнего мира: сигналы поступали по оптоволоконным линиям, уходящим на сотни километров под землю.
И всё же главным чудом комплекса был гигантский купол – сердце ТИЦ. Под ним, на специальных ложементах, покоился макет корабля «Радуга» – точная копия оригинала, до последнего винта. Огромное, серебристое тело судна лежало в полумраке, будто заснувший кит, укрытый полотном звёздного света. Лишь редкие огни датчиков мерцали на его корпусе, как живые глаза.
Я не знал, сколько миллиардов рублей было вбухано в этот комплекс, но, глядя на всё это великолепие бетона, титана и стали, я был уверен: на эти деньги можно было построить небольшой город – с домами, школами, парками и больницей. Но государство выбрало другое – вложиться в мечту, в полёт, в имитацию будущего, которое, возможно, никогда не наступит. И всё же, именно благодаря этому выбору я оказался здесь, на пороге тайны, частью программы, в которой смешались наука, амбиция и безумие.
И пока я смотрел на блестящие обводы «Радуги», мне вдруг показалось, что мы уже находимся не на Земле, а где-то там, в преддверии чужой планеты, под куполом, заменившим небо.
ГЛАВА 3. НАЧАЛО ИМИТАЦИИ
На следующий день вставать пришлось в шесть утра. Резкий, пронзительный сигнал будильника, спрятанного где-то в панели стены, напомнил, что теперь наши дни подчинены не солнечному ритму, а строгому расписанию. Воздух в комнате был чуть прохладным – вентиляционная система уже включилась, очищая и наполняя помещение сухим кислородом с едва уловимым запахом металла. За бронированным окном серело раннее утро: тусклое зимнее небо над заснеженным полигоном ТИЦ, где даже птицы, казалось, не решались пролететь.
Умывшись ледяной водой из умывальника, я почувствовал, как сон окончательно ушёл. В коридоре уже слышались шаги – глухие, решительные, в них было что-то военное. Когда мы вышли из своих комнат, то были уже полностью экипированы – готовые к любому испытанию, к имитации полёта, к чему угодно.
На нас были полётные комбинезоны – плотные, удобные, с герметичными застёжками и нашивками. Мой – фиолетового цвета, глубокого, как марсианская ночь; у Ашота – коричневый, словно цвет каменистой равнины; у Сергея – ярко-красный, что вызывало улыбку: «Будет самым заметным на Марсе»; у Марины – зелёный, насыщенный, почти изумрудный, как символ жизни посреди мёртвой планеты. Каждый выбирал цвет заранее, по личным предпочтениям, но в целом мы выглядели, как разноцветный экипаж из фантастического фильма шестидесятых. На груди у каждого – шевроны: «Испытатель такой-то», эмблема «Роскосмоса», стилизованное изображение Марса и девиз программы – Per aspera ad astra.
Перед тем как приступить к утреннему циклу, мы прошли все стандартные процедуры: короткую гимнастику – десять минут растяжки, вращения суставов, дыхательные упражнения по методике центра; затем плавание в небольшом тренировочном бассейне, где вода поддерживалась на уровне 23 градусов – достаточно прохладно, чтобы тонизировать тело, и не слишком холодно, чтобы вызвать дрожь. После этого – завтрак: овсянка с сухофруктами, омлет на пару и капсула с витаминами. Диета строго контролировалась – никакого кофе, соли и сахара по минимуму, никакого жира.
Медицинские тесты проходили в соседнем блоке, где стены сияли стерильной белизной, а приборы тихо гудели, словно дышали. Нам сняли кардиограмму, проверили давление, пульс, насыщение крови кислородом, сделали экспресс-анализ крови, измерили зрение, реакцию зрачков, дыхательный объём лёгких, уровень стресса по колебаниям температуры кожи и даже провели короткий психотест: на экране мелькали картинки, а мы должны были нажимать кнопки по заданному алгоритму. Машина, анализируя результаты, выдавала график эмоциональной стабильности – цифры, от которых зависело допуск к дальнейшему этапу.
Когда все проверки завершились, нам выдали пломбы-допуски, и, облачившись окончательно в комбинезоны, мы направились… в небольшой кинотеатр.
– Это ещё что? – спросил я, растерянно оглядываясь. Зал оказался уютным, с мягкими креслами бордового цвета и бархатными стенами. Пахло новой техникой и лёгким ароматом кофе, который, кажется, всё-таки разрешался сотрудникам, но не нам.
– Покажут фильм, – ответил Сергей, явно зная больше меня и уже устраиваясь в кресле поудобнее.
– Фильм? Мы ведь все учебно-практические уже просмотрели… Или это обращение президента? – попытался я съехидничать, скорее чтобы разрядить внутреннее напряжение, чем из желания блеснуть остроумием.
В ответ из проёма двери раздался знакомый голос Геннадия Андреевича:
– Согласно старой советской, а теперь и российской традиции, вы посмотрите художественный фильм «Белое солнце пустыни».
Он вошёл в зал – не в строгом сером костюме, как накануне, а в униформе сотрудника ТИЦ: тёмно-синей, с погонами, эмблемой на рукаве и множеством значков, говорящих о званиях и выслуге. На груди – бейдж с надписью «Масляков Г. А. – руководитель программы». За ним, как тени, следовали несколько подчинённых с планшетами и папками, шептали что-то, суя документы, но он лишь раздражённо махнул рукой:
– Потом, всё потом! Сейчас – кино.
Свет погас, и на экране появилось старое знакомое зернистое изображение: пески, солнце, верблюды, безмолвная пустыня, сквозь которую пробивается музыка Хачатуряна, переходящая в мотив Шварца. Я улыбнулся – фильм был мне знаком с детства. Восток, чайники, патроны, босоногие басмачи – всё это родное, из узбекской земли, где я когда-то бегал мальчишкой по таким же пескам. Для меня в этом фильме не было ничего нового, но, возможно, для моих коллег он открывал иной мир – пыльный, яркий, абсурдно прекрасный.
– Анвар, – сказал Масляков, уловив моё выражение, – эта традиция идёт с полёта «Союза-12». Перед стартом астронавты смотрели именно этот фильм. Предыдущий полёт, «Союз-11», закончился трагедией – трое космонавтов погибли. С тех пор «Белое солнце пустыни» стало для нас талисманом. Его смотрят все – и наши, и иностранцы. Так что для вас это не просто фильм, а своего рода амулет, символ удачи.
Он сказал это с тем особым оттенком серьёзности, который не позволял смеяться. И в зале, где мерцал свет песков и звенели аккорды старой гитары, вдруг стало тихо, по-настоящему тихо. Каждый понимал, что впереди – дорога без права на отступление, и пусть пока она ведёт не к Марсу, а лишь в его имитацию, но от того она не становится менее реальной.
– А-а-а, ясно, – пробормотал я и уселся поудобнее. Традиции нарушать нельзя. Раз так заведено задолго до меня, значит, это нужно воспринимать не просто как формальность, а как часть культуры, как особый ритуал – культуру образа жизни астронавтов, которые перед полётом словно проходят обряд очищения через экран.
Фильм продолжался, и я слышал знакомые с детства диалоги, будто отголоски другой эпохи:
«Восток – дело тонкое!..»
«Сухов, ты же стоишь одного взвода, а то и роты!..»
«Зухра, Лейла, Гульчитай… Гульчитай! Советская власть освободила вас!»
«Саид, что ты здесь делаешь?» – «Стреляли!»
«Теперь у каждой из вас будет по одному мужу…»
«Гульчитай, открой личико!..»
«Павлины, говоришь? Хэ!»
«Ваше благородие, госпожа чужбина, крепко обнимала ты, да только не любила…»
«Знаешь, Абдулла, я мзду не беру. Мне за державу обидно…»
Эти фразы, перескакивая из сцены в сцену, словно оживали в памяти, а вместе с ними – запах пыли, жар пустыни, медленный плеск волны на берегу Каспия, лицо Сухова – выжженное солнцем, усталое, но спокойное. Всё это не просто кино – это была живая легенда, сплав героизма и тоски, юмора и философии. Советский вестерн, снятый по законам приключенческого жанра, но наполненный внутренней тишиной и одиночеством человека, который несёт службу вдали от дома.
Моим друзьям фильм тоже пришёлся по душе: Ашот тихо хмыкал в моменты, где Сухов философствовал с Абдуллой, Сергей хохотал в сцене с петухом и верблюдом, а Марина внимательно следила за женскими персонажами – за тем, как молчали Зухра и Лейла, как в их глазах мелькало нечто большее, чем просто восточная покорность. Классика советского вестерна – ироничная, доблестная, меланхоличная. Всё как надо, чтобы напомнить: дорога туда, куда мы собирались, – это тоже пустыня, только холодная, красная, марсианская.
Когда фильм закончился, свет в зале медленно вернулся, словно рассвет после долгой ночи. Мы поднялись, не говоря ни слова, и направились вслед за Масляковым по коридору, где пахло металлом, маслом и озоном. Через несколько минут мы вошли в главный полигонный зал Тестово-испытательного центра.