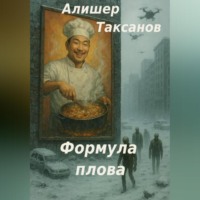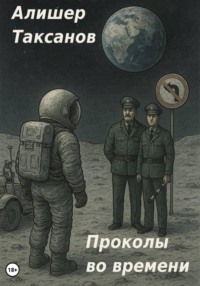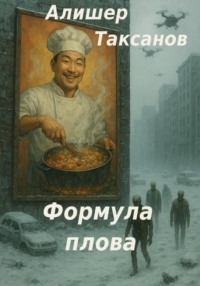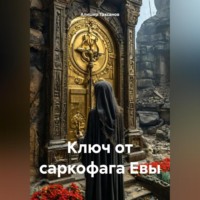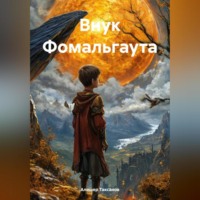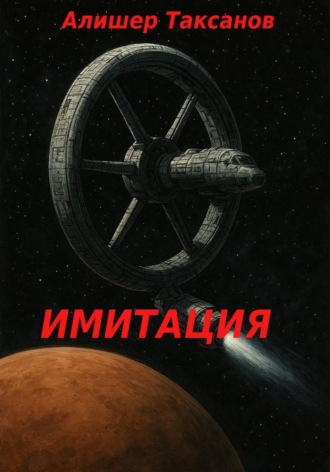
Полная версия
Имитация
Итак, Ашот Саркисов – это человек уравновешанный, выточенный из стального спокойствия, каким обычно бывают военные. Он не спешит с речью, каждое слово взвешивает, не позволяет эмоциям захлестнуть себя. Бесстрашен и силён – не столько телом, сколько духом: такой человек-стержень, которого не согнешь ни силой, ни ложью, ни страхом. Его надёжность ощущается на интуитивном уровне: знаешь, что за ним можно спрятаться, что за его спиной крепкая поддержка, словно стоишь за каменной стеной. Саркисов верен своему слову, и если он что-то пообещал – не свернёт, не подведёт. Он умеет чувствовать правду в людях и готов поддержать того, чья правда видна ему ясно. У него нет привычки действовать импульсивно; решения принимаются только после вдумчивого анализа, а бездумных поступков вы от него не дождётесь. Для нас, как для команды испытателей, это огромный плюс: руководить группой, где каждый ответственен и находится в напряжении имитационного полета, способен лишь человек с железной выдержкой и внутренним стержнем. Думаю, руководство Тестово-испытательного центра приняло абсолютно верное решение, доверив Саркисову управление нашей командой: он не просто лидер по должности, а тот, кто действительно способен держать всех в равновесии и вести к цели.
Сергей Ушаков – полный контраст. Он умен, проницателен, обладает богатой наблюдательностью, однако легко выходит из себя и сам же провоцирует свой гнев. Он импульсивен, реагирует на малейшие раздражители, иногда выплескивая эмоции там, где можно было бы обойтись молчанием. Его энергия постоянно требует выхода, и он пытается закрепить за собой статус неформального лидера, проявляя инициативу в ситуациях, где руководство не просит его вмешательства. Мы с Мариной и Ашотом обычно игнорируем эти попытки, чем сильнее раздражаем Ушакова, хотя сами не ставим перед собой цель кого-то раздражать – просто не позволяем ему взять на себя чужую ответственность. В его поведении ощущается детский комплекс неполноценности: возможно, в детстве его ущемляли, задвигали на второй план, и теперь он старается доказать всем, что он «важен», что он нужен, что он имеет значение. С другой стороны, я стараюсь находить с ним точки соприкосновения, потому что мы в одной команде, и несмотря на его вспыльчивость и амбиции, от его ума, инициативы и смелости есть ощутимая польза. Его легко распознать по энергии: каждое его движение, взгляд или реплика звучат как тест на прочность, попытка понять, кто есть кто.
Марина Ульянова – человек сильный, крепкий, внимательный. Её сила близка к Саркисовой, но проявляется иначе: она чутка, заботлива, всегда держит внимание на деталях. Она любит контролировать, направлять, иногда – воспитывать, и это качество явно передалось ей от матери-учительницы. Она умеет видеть ошибки и недостатки раньше, чем мы сами их осознаём, и требует их исправления. Если мы ворчим или сопротивляемся, Марина может нахмуриться, поднять голос, простимулировать хлопком по спине или резким замечанием – всё во благо миссии. Она храбрая, может дать отпор, если ситуация выходит за рамки допустимого, и это мы убедились во время небольшой потасовки в баре. В то же время она весёлая, любит анекдоты, музыку и танцы, умеет разрядить атмосферу, когда напряжение становится слишком высоким. Её внимание к нам и умение составлять психологические портреты коллег делают её незаменимой в команде: она не только следит за здоровьем и безопасностью, но и помогает каждому понять самого себя и взаимодействовать с другими. Марина сочетает строгий контроль с тёплым человеческим подходом, и это делает её одновременно надёжной и притягательной.
Спустя неделю нашего имитационного полета я, заметив её одну в медотсеке, подошел ближе. Медотсек был оборудован словно миниатюрная лаборатория: высокие шкафы с пробирками и флаконами, прозрачные контейнеры с различными растворами, стенки увешаны панелями с датчиками жизнедеятельности экипажа, на полках аккуратно размещены приборы для анализа крови, слюны, дыхания и других биологических показателей. Свет мягко отражался от блестящей нержавейки оборудования, создавая ощущение стерильной аккуратности. Здесь царила тишина, нарушаемая лишь тихим жужжанием вентиляторов, поддерживающих нужный температурно-влажностный режим. На одном из столов стояли микроскопы, рядом – портативные устройства для биохимического анализа, а в углу мерцал экран с графиками, отображающими показатели каждого из нас.
Я осторожно спросил:
– Слушай, тебе не кажется странным, что в состав нашей команды взяли Ушакова? Он же постоянный раздражитель, мы можем сорваться, психануть, если он начнет лезть в бочку, выставлять нам какие-то неприемлемые требования. Просто интересно, чем же руководствовались психологи ТИЦа?
Марина отложила бумаги, которые держала в руках, и, серьезно посмотрев мне в глаза, ответила:
– Думаю, это сделано намеренно. Ведь люди неодинаковы, мы не инкубаторские. Нужно проверить не только реакцию «непохожего» на нас, но и наши реакции на такую личность. Мы должны разработать механизмы, как гасить возможные конфликты с такими персонами, учиться работать с ними, ибо от этого зависит исход реального полета. Второе – и это мое предположение! – в состав астронавтов включили человека, у которого психологические характеристики близки к Ушакову.
– Да? – поразился я. Трудно было представить, чтобы госкомиссия при «Роскосмосе» могла пойти на такое. С другой стороны, откуда мне знать «тайны мадридского двора»? То, что делается в Госкорпорации, может быть мне просто недоступно.
– Скорее всего, – кивнула Марина. – Ведь первый полет на Марс – это не столько торжество российской науки и высоких технологий, сколько самоудовлетворение элиты в своей значимости и возможностях. Не скрою, большую часть затрат на строительство «Радуги» и наш тестовый полет компенсировали олигархи, и они, сам понимаешь, «оплатив музыку, танцуют девушку». В числе экипажа будет «золотая элита», хотя в профессиональном смысле они обязаны быть не хуже квалифицированных астронавтов. Только их никто не воспитывает, на них не давят. С другой стороны, «Роскосмос» не хочет создавать опасной ситуации во время полета из-за психологического срыва кого-то из астронавтов, поэтому мы обязаны отработать все сценарии поведения. И здесь Сергей сыграет свою роль… роль «подопытного кролика».
В этот момент в пробирках что-то забулькало, но мы не обратили на это внимания. Марина лишь нажала на кнопку на щитке, и испускание пузырьков в стеклянной емкости прекратилось, жидкость стала ровно синей. Интересно, над чем тут колдовала наш бортврач?
– Но он не из элитарной среды, – возразил я. – Не капризный, не высокомерный. То есть его нельзя отнести к аристократам или высокородным, надменным сынкам олигархов и магнатов, правителей человеческих судеб.
– Он, как ты сказал, «раздражитель», а это означает многое, – улыбнулась Марина. – Ладно, не я комплектовала команду испытателей, я просто объясняю причину включения Ушакова в имитационный полет. Хочу сказать, что все происходящее на борту, включая наши разговоры и поведение каждого, я фиксирую и передаю туда, – и она пальцем ткнула куда-то в неопределенность, но я понял, что речь шла о ТИЦе. – Это не шпионаж, а обычная практика по психологии в экстремальной ситуации. Пардон, если не нравится.
– А ты?
– Что я?
– Ты разве не «раздражитель»? Одна в мужском коллективе… – я говорил очевидные вещи. – Сама понимаешь, сто пятьдесят дней – это много времени для воздержания…
– Этот вопрос был проблемным во все космические экспедиции, – согласилась Марина. – И естественный, так как у мужчин в условиях невесомости бывают поллюции, непроизвольная эрекция. В условиях гравитации напряженность снимается, но желание остается. И чтобы его удовлетворить, есть несколько способов. Первый – медикаментозный…
Я сделал удивленное лицо, хотя сразу понял, о чем идет речь. В её спокойном тоне не было ни стеснения, ни смущения, она говорила как врач и профессионал, передавая сухие, но необходимые факты. В этот момент я ощутил смесь неловкости и любопытства, осознавая, что подобные вопросы в космосе решаются заранее, методично и без эмоций, чтобы минимизировать влияние физиологических потребностей на психологическую совместимость экипажа.
– Получаешь таблетки или укол – и сексуальное влечение подавлено. Хотя это ведет к апатии и потере интереса к экспедиции, эксперименту, человек становится равнодушным ко всему, не только к противоположному полу. Второй способ – это тот, что тебе дали в коробке.
– В какой коробке? – я растерялся, честно говоря.
– У тебя под кроватью есть синяя коробка, взгляни, – улыбнулась бортврач.
Я проверил. Действительно, там лежала синяя коробка. Открыв её, обнаружил диски с порнофильмами и ряд пластиковых изделий, имитирующих женские прелести; объяснять назначение этого набора не требовалось. «Прекрасно, – прошипел я, закрывая крышку и возвращая коробку под кровать. – Вот это действительно то, еть твою мать, чего мне не хватало!»
Впрочем, я был не единственным обладателем таких «инструментов», наверняка что-то подобное предназначалось и для Марины. От этой мысли у меня невольно возникла улыбка – не ехидная, а скорее с оттенком невесёлой иронии. Потом я поднял глаза к видеокамере и сказал тому, кто сейчас наблюдал за мной из Тестово-испытательного центра:
– Меня, онанирующим, вы не увидите! Не дам такого удовольствия, пошляки-вуайлеристы!
В первый день, как мы очутились на «орбите», мы разбрелись по своим жилым отсекам, чтобы привести в порядок вещи. Хотя вещи и так были аккуратно уложены, каждый из нас чувствовал необходимость записать свои наблюдения и переживания в личный дневник – обязательный атрибут всех участников испытательного полета. Естественно, про шариковую ручку, летавшую в невесомости, я не сделал ни строчки – зачем подтверждать, что испытатель с первых же минут подвергся галлюцинации? Нет, об этом писать не следовало.
Было о чём писать, и прежде всего – о нашем корабле-макете. Нам говорили, что это двойник реальной «Радуги», но никогда не полетит в космос и поэтому не имеет собственного имени, нумерации, а экипажи на нём – исключительно имитационные. Когда я спросил Геннадия Маслякова: «А почему бы не отправить этот макет следом за „Радугой“ на Марс? Ведь он такой же галеон, у него идентичное оборудование?» – он с лёгкой грустью ответил:
– Ты знаешь об американской космической программе „Спейс шаттл“?
– Да, – удивленно кивнул я. Программа «Спейс Шаттл» – это американская космическая программа многоразовых космических челноков, действовавшая с 1981 по 2011 год. Они выполняли орбитальные миссии, включая доставку грузов, спутников и астронавтов, а также работы на Международной космической станции. Программа была уникальна возможностью многоразового использования кораблей, но сопровождалась катастрофами: «Челленджер» в 1986 и «Колумбия» в 2003.
– Тогда знаешь, что было построено пять кораблей-челноков, но только четыре из них поднимались в космос. Самый первый – «Энтерпрайз» – предназначался для атмосферных испытаний, и хотя он был абсолютно идентичен «Колумбии», «Челленджеру», «Индоверу» и «Атлантису», никому не взбрело в голову запускать его, даже после того, как два шаттла с экипажами погибли в катастрофе. Так же и с нашим макетом. Его стоимость равна «Радуге», но это тестовый корабль – на нём мы отработаем процедуры первого полета, а затем и последующие. На базе таких испытаний будут вноситься новые конструктивные решения, технологии, научные разработки, что способствует совершенствованию других космических аппаратов. Мы не собираемся лишать себя такого испытательного галеона.
И в голосе Геннадия Андреевича проскользнула нотка сожаления, словно он сам расстроен, что нельзя отправить в космос корабль, на котором мы проводим имитационный полет. Это ведь 25 миллиардов долларов – словно пачки, прибитые к столу гвоздями, чтобы ни съесть, ни пустить в оборот, ни сжечь. Золото, металлы, технологии, схемы и материалы – каждый компонент выглядит как драгоценность, за которой охраняют с такой ревностью, что любое прикосновение кажется преступлением. Стоишь рядом – и ощущаешь всю эту тяжесть, не столько материальную, сколько символическую: здесь – сердце испытаний, научный и финансовый гигант, которого нельзя пустить в свободное плавание, но который живёт своим, почти сакральным, образом.
– Ясно, – мрачно ответил я, уже видевший себя в составе реального экипажа, который отправится на… ну, назовем его «Радугой-2» на Марс после возвращения первой экспедиции. Ответ Маслякова меня огорошил.
И все же я радовался тому, что участвую хотя бы в имитации. Макет-галеон изучался еще за месяц до наших испытаний, благо нам не просто разрешали это делать, но и подробно объясняли назначение всех агрегатов. Итак, марсианский корабль представлял собой «колесо» со «втулкой». В отличие от предыдущих космических кораблей и орбитальных станций, на «Радуге» была реализована идея искусственной гравитации через центробежную силу. Конструкция оснащена массивной центрифугой – крутящимся кольцом, которое, вращаясь, притягивает предметы к внутренней поверхности.
Подобные конструкции часто встречались в фантастических фильмах: в «Космической одиссее 2001 года» центрифуга создаёт ощущение гравитации для экипажа, в «Миссии на Марс» и «Марсианине» такие вращающиеся модули позволяли астронавтам передвигаться по внутренней стенке словно по полу. Эффект создается за счёт центробежной силы, которая имитирует привычное притяжение.
Астронавт способен ходить по внутренней поверхности стенок центрифуги, как по полу. В нашем же случае этого не было необходимо: земная гравитация имитировала ту искусственную, которая должна возникнуть на «Радуге» после выхода за атмосферу и достижения заатмосферного пространства. Масляков предупредил, что моторы, вращающие «колесо», будут работать вхолостую – это нужно было для проверки их работоспособности и оценки ресурса времени безотказной службы. С другой стороны, в случае необходимости мы должны были сделать ремонт механизма и заменить изношенные части.
И все же… странности ощущались: головокружение и лёгкое смещение тела влево. Марина объяснила, что это нормальная реакция организма на некоторые медикаменты, которые нам предстояло принимать в течение 150 дней. Препараты воздействуют на вестибулярный аппарат, поэтому у нас возникает иллюзия движения «влево». «Это прописано в инструкциях, – добавила Ульянова, – ничего опасного, со временем организм адаптируется, и вы перестанете обращать на это внимание».
И правда, вскоре мы привыкли: вращение и ускорение перестали ощущаться, головокружение прошло, и можно было спокойно заниматься изучением макета.
«Колесо» представляло собой замкнутую цилиндрическую конструкцию диаметром около десяти метров, разделённую на несколько функциональных отсеков, словно организм, где каждый орган имел своё назначение и ритм.
Первый и главный отсек – Центральный пост, или командный, с латинской литерой «A». Он напоминал нервный центр корабля. Здесь находились панели управления, экраны, сенсорные пульты, приборы навигации, связи и пилотирования. Вдоль стен – мягкие кресла с ремнями фиксации, перед ними – мониторы, мигающие тихими огоньками. С потолка свисали пучки кабелей, аккуратно убранные в прозрачные каналы. На передней панели – большой сферический экран, транслирующий условное изображение внешнего пространства. Это было место постоянного пребывания командира экипажа – именно отсюда он мог в любой момент отдать команду, скорректировать курс или передать сигнал на Землю. Вдобавок, отсек служил капсулой аварийного спасения: при запуске он мог отделиться от остального корпуса и мягко опуститься на парашютах, если симуляция моделировала катастрофу. Внутри всё было продумано до мелочей: даже запах – лёгкий, стерильно-металлический – создавал ощущение технологического уюта.
Следующий отсек – «B», бытовой. Он делился на три подсекции. В первой, «камбузе», всё напоминало кухню из будущего: встроенные панели для подогрева и рекомбинации пищи, ячейки с индивидуальными рацион-пакетами, ультразвуковая мойка посуды. Вторая подсекция – санитарная, включала туалет и душевые кабины с системой вакуумного отвода воды и ароматической фильтрацией воздуха. В третьей размещалась зона стирки и сушки белья: небольшие капсулы-автоматы, которые за десять минут превращали грязное бельё в свежее и тёплое, без капли влаги. Всё пространство было выполнено в тёплых оттенках металла и светло-серого пластика, чтобы у экипажа не возникало ощущения холодной лаборатории.
Третий отсек – «C», жилой. Он состоял из восьми комнат, каждая – персональный уголок астронавта. Небольшие, но уютные: встроенное кресло, стол-трансформер, кровать, экраны связи, лампа с регулируемым спектром света, несколько полок. Каждый оформлял свою каюту по вкусу. Моя, например, превратилась в миниатюрный террариум с голографическими динозаврами – их тени пробегали по стенам, меняясь в зависимости от освещения. На гибком видеопластике стен плыли пейзажи доисторических джунглей, откуда доносились мягкие шорохи и далекие рёвы тираннозавров. Это было забавно, немного детски, но помогало не сойти с ума от однообразия.
Четвёртый отсек – «D», спортивно-развлекательный. Здесь царило движение: тренажёры, эспандеры, беговые дорожки, силовые установки, музыкальные колонки, система голографического проецирования танцпола. В углу стояла компактная установка, имитирующая караоке. Здесь же экипаж отмечал праздники, дни рождения и юбилеи. Отсек имел широкий иллюминатор – сейчас задраенный, но даже за закрытой бронезаслонкой ощущалось присутствие космоса. Пространство не давило, потолок был высокий, а стены окрашены в светлые тона, и даже те, кто страдал клаустрофобией, чувствовали себя здесь спокойно.
Пятый отсек – «E», медицинский. Он напоминал небольшой, но безупречно чистый госпиталь. Изолятор, операционная с подвесными манипуляторами, аптека, холодильные камеры для хранения препаратов, лабораторный отсек, где проводились биохимические и генетические анализы. На стенах – панели со встроенными приборами, анализаторы крови, электронные микроскопы, капсулы-регенераторы. Это было царство Марины Ульяновой. Она здесь жила, работала, проводила эксперименты, иногда спала прямо в лабораторном кресле, если требовалось следить за пробами. Атмосфера там была особая – пахло антисептиком и чем-то сладким, напоминающим эвкалипт. И если остальные отсеки корабля дышали техникой, этот жил дыханием человека, который верил в медицину даже среди металла, вакуума и имитации звёзд.
Шестой отсек, с литерой «I», был особенным – мозг и одновременно панцирь нашего корабля. Его стены были утолщены и покрыты свинцовой изоляцией, а вход – защищён двойным шлюзом и кодовой системой доступа. Здесь царила полутьма, мягкий гул вентиляторов и равномерное потрескивание охлаждающих систем. Вдоль стен – ряды стоек, набитых модулями памяти, вычислительными блоками, процессорами, лазерными накопителями и серверами. Вся аппаратура дышала ровно, словно огромное сердце. Именно сюда стекались все данные с датчиков корабля: температура, давление, радиационный фон, положение в пространстве, состояние агрегатов, показатели экипажа. В глубине помещения, за прозрачной перегородкой, находились «чёрные ящики» – герметичные капсулы-самописцы, способные пережить любой пожар, удар, взрыв или радиационный всплеск. Они хранили всё: телеметрию, переговоры, даже уровень пульса членов экипажа. Входить в отсек разрешалось только в экстренных случаях – он считался «священной зоной», где человек мог нарушить гармонию машинного интеллекта.
Корабль был полностью автоматизирован. В теории, «Радуга» могла самостоятельно долететь до Марса, провести исследования, развернуть аппаратуру и вернуться на Землю – без малейшего участия человека. Но человек оставался целью, а не помехой. Именно ради человеческого присутствия и были задуманы наши испытания: проверить, как человек поведёт себя в этом мире алгоритмов, железа и радиации, сумеет ли он не просто выжить, а остаться собой.
Если бы «колесо» потеряло герметизацию, температура упала, а радиация выросла – для компьютеров это означало лишь коррекцию параметров, но для нас, живых существ, – мгновенную гибель. Поэтому отсек «I» был не только мозгом, но и потенциальным убежищем. В случае мощной солнечной вспышки экипаж мог спрятаться в нём, за толстыми свинцовыми стенами. Там не было ни иллюминаторов, ни кресел, ни даже звуков, кроме приглушённого гула вентиляторов. Воздух пах озоном и пластиком, свет исходил от узких зелёных ламп над стойками. Места едва хватало, чтобы разместиться впятером. Но в этом тесном, гулком бункере человек был в относительной безопасности – пусть даже окружённый не жизнью, а холодным интеллектом машин.
От «колеса» отходили четыре трубы, соединявшие его с «втулкой» – семидесятипятиметровым цилиндром, техническим телом корабля, где находились силовые, энергетические и жизнеобеспечивающие системы. Первая труба, «F», служила переходным блоком: ею экипаж перемещался во «втулку». Вдоль стен крепились скафандры – массивные, белые, похожие на застывших людей, и стоило взглянуть на них при тусклом освещении, как казалось, будто внутри кто-то есть. Здесь же находились аварийные ремни, герметизирующие панели и запасные баллоны с воздухом.
Вторая труба, «G», выполняла роль склада и мастерской. Металлические шкафы, контейнеры, ящики с инструментами, модули связи, панели запасных микросхем и блоков управления. Всё было пронумеровано, промаркировано и распределено с педантичной точностью. Там всегда пахло маслом, резиной и пылью новых деталей.
Третья труба, «H», – наша оранжерея. Это был единственный отсек, где чувствовалась жизнь: влажный воздух, мягкий свет, ряды пластиковых контейнеров с землёй, модули гидропоники, крошечные томаты, зелёный лук, салат и стебли фасоли, тянущиеся вверх. Шумел искусственный ручей – циркуляционная система воды. Здесь работали все без исключения: рыхлили грунт, подрезали листья, проверяли влажность, следили за освещением. Сергей называл это «агроповинностью», а я – дыханием Марса. Именно тут экипаж находил психологическую отдушину: среди зелени легче было забыть, что за стенкой – бесконечная пустота. Вдоль одной из стен был запасной люк во «втулку» – аварийный вход, рядом с которым стоял задраенный иллюминатор, как немой символ того, что туда, за стекло, лучше не смотреть.
Четвёртая труба, «K», была самой «нервной». В ней проходили силовые кабели, волоконно-оптические линии связи, радиопередатчики, локаторы и антенны. Здесь непрерывно гудело, щёлкали реле, мерцали огоньки индикаторов. Именно через этот узел поддерживался контакт с Землёй – наша пуповина, связывающая корабль с планетой.
А сама «втулка», цилиндр длиной в семьдесят пять метров, была выстроена из четырёх отсеков.
Первый – «L» – шлюзовой. В его центре стоял взлётно-посадочный модуль «Перископ» – серебристый, похожий на утолщённую пулю, с посадочными стойками и манипуляторами. Именно на нём астронавты должны были спуститься на поверхность Марса, провести там две недели, а затем возвратиться на орбиту. Всё внутри «Перископа» было герметично, словно в подводной лодке.
Второй отсек, «M», – резервуар хранения. Огромные баки с водой и жидким кислородом, холодильники с продовольствием, ряды серебристых контейнеров, промаркированных и закреплённых страховочными сетями. Здесь царил холод и лёгкий металлический запах – воздух фильтровался особым образом, чтобы ничего не испортилось.
Третий отсек – «N» – агрегатная переработки. Здесь шумели насосы, шипели трубы, вращались турбины, очищавшие воздух и воду. Всё, что человек выделял, превращалось в ресурс: углекислый газ – в кислород, моча и сточные воды – в питьевую жидкость. Это был замкнутый круг жизни, в котором не существовало понятия «отходов».
И наконец, четвёртый – «O» – сердце корабля, ядерная энергетическая установка. Массивный реактор, заключённый в слой из титана, графита и керамики, с несколькими контурами охлаждения. Отсюда исходил глухой низкий гул, будто биение гигантского сердца. Свет здесь был красноватым, мигающим, и воздух тёплым, сухим. Даже во сне я иногда слышал этот гул – ровный, уверенный, словно напоминание, что пока пульсирует реактор, жив и весь корабль, и мы на нём.
Я вспомнил, как на второй день «полёта» застал Сергея на центральном посту, сосредоточенно склонившегося над пультом. Он сидел неподвижно, сгорбившись, словно над шахматной доской, где каждая кнопка могла изменить исход партии. На мониторах перед ним плавали зеленоватые строки цифр, диаграммы, пульсирующие шкалы температуры, давления и излучения. Свет от экранов ложился на его лицо, придавая ему какой-то болезненный оттенок – смесь усталости и фанатичной сосредоточенности. Он что-то быстро записывал в журнал, сверял данные, потом снова вбивал команды в клавиатуру, делал пересчёты на калькуляторе. Отчётливо слышалось слабое гудение блоков охлаждения – низкое, ровное, словно дыхание огромного зверя.