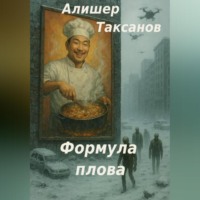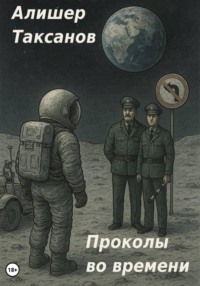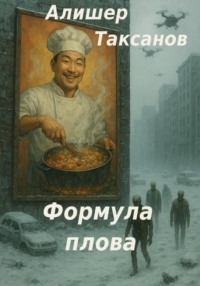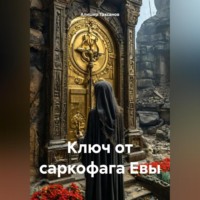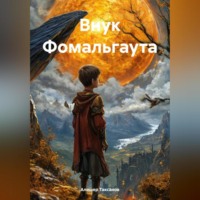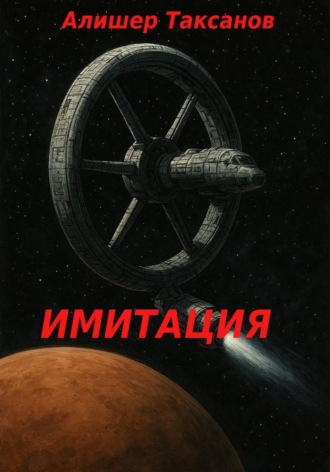
Полная версия
Имитация
– Но реальный экипаж может реагировать иначе, они же профессионалы, а мы – всего лишь «любители», – попытался возразить Ушаков, нервно крутя карандаш. Его голос дрожал, и это не понравилось руководителю программы.
– Все люди одинаковы, – процедил Хамков сквозь сжатые зубы, – но реагируют по-разному.
Он сделал паузу и, словно подводя итог, добавил: – «Радуга» – почти автоматизированный корабль: она способна функционировать без человека. Но мы не отправим дорогостоящий галеон в одиночестве. Наша миссия – освоение Марса, и полёт должен состояться прежде, чем американцы, совместно с ЕС или в одиночку, запустят свою экспедицию.
Он заговорил о позициях конкурентов сухо и по-деловому: ещё в начале XX века (нет, немного иначе – в начале нулевых) в США был озвучен амбициозный план пилотируемых миссий на Луну и Марс; тогда зародилась программа «Созвездие», идея корабля «Орион». Позже приоритеты менялись, но споры и проекты не умирали. Теперь в США строился большой корабль «Пэтриот» класса «каравелла» – ещё на испытаниях, а в ЕС работали над «Юнион» класса фрегат. У нас же – преимущество: галеон «Радуга» почти готов. Деньги не жалели: цели того стоили.
Его слова звучали как приговор и как мотивация одновременно – сигнал: либо вы становитесь частью игры по-крупному, либо остаётесь в стороне. В воздухе оставалась тяжесть выбора: согласиться с правилами чужой жестокости или искать пути обхода – и это решение уже рисовало будущее каждого из нас.
Я думал об этом и одновременно слушал Даниила Дмитриевича, чей голос, казалось, был соткан из металла и уверенности:
– Лунную гонку наша страна проиграла много десятилетий назад, – произнёс он, делая паузу после каждого слова, будто забивая гвозди в сознание слушателей, – но марсианскую мы не уступим никому. Даже китайцам, которые тоже готовятся к пилотируемому полёту. Ваше участие – это испытание на себе всех функциональных систем, поэтому особенно не беспокойтесь, как правильно выполнить манёвр, разогнаться до нужной скорости или выдерживать курс. Всё это заложено в компьютеры. Если будет авария – мы подскажем, как починить… а может случиться так, что чинить придётся вам самим. Для этого на борту мы оставляем схемы.
Он сказал это спокойно, почти ласково, но в его интонации проскальзывало нечто тревожное, будто за этими схемами скрывалась не просто инструкция, а проверка на выживание.
Затем Хамков вдруг придвинулся к нам – тяжело, с металлическим скрипом кресла, словно его тело было бронёй. Он почти лёг грудью на стол, и глаза его метали короткие, острые молнии.
– Помните, – сказал он, – ваш ареал обитания – это жилые и рабочие отсеки. В трубу, где находятся атомный реактор, ускорители, топливо, вода и прочее – вам вход воспрещён. Там всё будет опечатано.
– Даже если мы и влезем – вам-то какая угроза? – удивился Ашот. Он всегда был немногословен, и я нередко думал, что это следствие какой-то старой контузии. Скорее всего, как настоящий военный, он просто не любил словесной пены – предпочитал действовать. – Ведь мы в макете, а не на «Радуге». Всё равно же там неработающая аппаратура.
Хамков прищурился, глаза его блеснули, и вдруг – совершенно неожиданно – он захохотал. Смех был не человеческий, а какой-то механический, рваный, как звук старого генератора. Его подхватили чиновники, сидевшие в помещении: кто-то нервно, кто-то угодливо, кто-то просто из чувства инстинктивной самозащиты. Смех этот не имел ничего общего с весельем – он был ритуалом подчинения, когда все смеются не потому, что смешно, а потому, что так надо.
В телевизоре, словно по заказу, тоже смеялись: президент встречался с журналистами, и его широкий, немного усталый смех совпал по ритму с этим корпоративным хоралом. В общем, ситуация была почти гротескной – все вокруг хохотали, а я думал, что мы, может, уже часть какой-то постановки, в которой давно расписаны роли.
– Ха-ха, вы правы, – выдохнул наконец Даниил Дмитриевич, моментально посерьёзнев. – Вы будете всего лишь в макете. Однако там дорогостоящая аппаратура наблюдения за вами и контроля функционирования основных систем галеона. Любое столкновение с обслуживающим персоналом – лишит эксперимент своей чистоты. Мы моделируем абсолютную изоляцию, полное отрывание от Земли.
Он посмотрел на нас долгим, оценивающим взглядом, словно примеряя, кто из нас первым «сломается».
– Да, ещё: ваш полёт проходит под номером МЭ-000и – «Марсианская экспедиция, ноль-ноль-ноль-испытательный». Это значит, что вы официально признаны как группа имитационного полёта. Ваши оклады составят двадцать процентов от ставок реальных астронавтов. И уверяю вас – это немало.
Мы знали, конечно, на что шли, и подписывая контракт, уже были ознакомлены с цифрами. Зарплата была впечатляющей, даже слишком – как будто нас подкупали за что-то большее, чем простой эксперимент. Теперь, услышав, сколько получает тот, кто действительно полетит на Марс, я понял масштаб ставок. Настоящий астронавт фактически становился миллионером. Но стоило ли оно того? Ведь оттуда можно и не вернуться – или вернуться больным, сломленным, бесполезным. Деньги не лечат радиацию, не возвращают память, не вымывают из крови страх.
И всё же – именно деньги сегодня были мотором астронавтики. Без них нельзя было построить ни «Радугу», ни «Пэтриот», ни «Юнион». Без них человек так и не доберётся до Марса, потому что даже мечты ныне финансируются по смете.
Много лет Государственная корпорация «Роскосмос», переживавшая постоянные реорганизации, смену директоров, логотипов, уставов и даже смыслов своего существования, оставалась в народе синонимом «чёрной дыры». Деньги – гигантские суммы, исчисляемые миллиардами рублей, – исчезали в ней без следа. Грандиозные федеральные программы по освоению Луны, Марса и даже по созданию новой ракеты-носителя растворялись в бездонных сметах и теневых схемах. Ни Счётная палата, ни прокуратура, ни Минфин, ни Минэкономики не могли отыскать концы, словно внутри корпорации действовали не чиновники, а мастера чёрной магии, способные превращать золото в воздух.
Коррупция, некомпетентность, покровительство «своим людям» – всё это стало реальной гравитацией, удерживавшей отечественную космонавтику в болоте. В офшорах оседали бюджеты, в швейцарских банках росли счета новых «патриотов», а в России оставались ржавеющие ангарные каркасы, недостроенные космодромы, сорванные сроки, вечное «переносим на следующий квартал». На заводах – задержки зарплат, жалкие премии и горечь утраченной гордости. В цехах пахло не керосином и озоном – а безысходностью. Конструкторы писали заявления «по собственному», инженеры уходили в торговлю или в IT, где, как шутили, зарплата на порядок выше, а рисков – меньше.
Это была первая беда. Вторая – технологическое отставание и стремительная утрата кадрового потенциала. К началу XXI века Россия, некогда первая в космосе, пришла к мировому рынку как страна с отстающей промышленной базой и выдыхающимся научным корпусом. Орбитальные станции и спутниковая сеть – всё это были призраки советского величия, следы ушедшей эпохи, когда инженеры работали за идею, а не за грант. На смену пришло поколение менеджеров, способных лишь оптимизировать убытки и делать презентации в PowerPoint.
И вот тогда на обломках, где ещё пахло керосином и пылью чертёжных досок, появился Даниил Дмитриевич Хамков – фигура противоречивая, но мощная. Бывший военный моряк, циник, человек стального характера и без тени сомнений, он вошёл в «Роскосмос» как в осаждённую крепость. Говорили, что первые месяцы его руководства сопровождались десятками увольнений и арестов: он «выкрутил в бараний рог» старую коррупционную элиту, вытравил воров, как тараканов, и выстроил новую вертикаль – холодную, дисциплинированную, жестокую.
Зато результат не заставил себя ждать. Хамков дал простор талантливым инженерам, открыл путь частным инвестициям – но не бесплатно: бизнес мог участвовать в программе освоения космоса только в обмен на реальное участие в полётах, на долю в славе и риске. Так появился компромисс власти и капитала – марсианская программа, личное детище Хамкова. Он не позволил утечь ни одному рублю: каждый контракт, каждая закупка имела конкретный результат – деталь, модуль, отсек.
И теперь этот суровый, бескомпромиссный стиль управления породил космодром «Сибирь», тренировочно-исследовательский центр (ТИЦ) и два корабля-галеона, один из которых был макетом для наземных испытаний. Именно на этом макете предстояло жить и работать мне и ещё троим коллегам.
Хамков, как всегда, не стал терять времени:
– Итак, господа, – хлопнув ладонью по столу, произнёс он, отчего в воздухе будто прозвенела команда «смирно». – У вас сегодня свободный день. Можете провести его в городе. Только, естественно, – под наблюдением наших кураторов.
Он кивнул в сторону мрачных мужчин у выхода – массивных, коротко стриженных, с одинаковыми серыми куртками и пустыми взглядами. Спорить было бессмысленно: все понимали, что это люди спецслужб, и «Роскосмос», хоть и числился гражданской организацией, наполовину состоял из таких вот «наблюдателей».
С первых же минут, как мы вошли в здание испытательного центра под Новосибирском, мы оказались под колпаком. Камеры, микрофоны, дежурные с планшетами – каждый шаг под контролем. Даже свободу нам выдавали, как наряд по расписанию.
– Отдыхайте, веселитесь, – добавил Даниил Дмитриевич, его тон был лишён малейшей иронии. – А завтра вечером – имитационный старт. С этого момента – никаких контактов с внешним миром. Вы будете одиноки… в вашем полёте.
Он помолчал, и тишина зазвенела, как перед выстрелом. Мы переглянулись. Впервые слово «одинокими» прозвучало не как метафора, а как приговор.
Он встал, коротко кивнул – не столько нам, сколько воздуху, – и вышел. За ним, словно по команде, поднялись и прочие чиновники: костюмы, портфели, одинаковые выражения лиц, в которых отражалась смесь почтения и внутренней пустоты. Они ни разу не вмешались в разговор, не задали ни одного вопроса, не произнесли ни слова – просто присутствовали, создавая видимость коллегиальности, будто статуи, расставленные вокруг трона. Я понимал: их роль чисто декоративная, оформлять «фон» коллегии, изображать демократию в решении судьбы программы. На деле же всё решал один человек – Хамков. Он был и Верховный Суд, и Прокурор, и Бог этого ведомства. Его слова становились документами, его решения – законами, его паузы – приговорами. Все остальное – имитация, декорации на фоне его воли.
Когда дверь за ним закрылась, воздух словно немного сдулся – стало тише, свободнее, но и пустее. Остались мы – четверо испытателей, и охрана, равнодушная и неподвижная, будто часть бетонных стен. Эти люди охраняли не нас, а здание и власть, и в их глазах было что-то вроде скуки, знакомой тем, кто давно привык стоять рядом с великими и никогда не участвовать в их делах.
К нам подошёл Геннадий Масляков – человек, который всегда входил в комнату не как начальник, а как добрый сосед, зашедший узнать, всё ли у тебя в порядке. Глава имитационного полёта, директор Тестово-испытательного центра, или попросту – ТИЦ. Он выглядел как живое напоминание о времени, когда в науке ещё оставались романтики. Худощавый, высокий, подвижный, с острой бородкой и седыми, чуть взъерошенными волосами, словно его только что вытащили из лаборатории, где он с кем-то спорил о формулах. На переносице – старомодные очки-пенсне, хотя я был уверен: это не просто стекляшки, а какие-то миниатюрные ИТ-устройства с доступом к сетям, базам данных и телеметрии. Глаза – ясные, внимательные, почти добрые, с лёгкой усталостью человека, который слишком много знает, чтобы верить в простые ответы.
Он был из тех руководителей, что не приказывают – убеждают. Мы познакомились с ним ещё в первый день, и тогда, среди жестких, холодных лиц функционеров и технократов, он казался единственным, кого человечность не покинула.
– Ну что же, друзья, – сказал он, обведя нас взглядом и улыбнувшись. – Пройдемте ко мне, а потом поедем в город. Я заказал для нас столик в одном хорошем ресторане. Музыка, танцы, вкусные блюда – это последнее, что вы «испытаете». Потом – никакого алкоголя, жареного, и уж точно никакой дискотеки.
– Ха-ха-ха, – раздалось в ответ. Смех вышел немного натянутым, но каждый смеялся по-своему. Я – потому что радовался: Хамкова не будет на этой пирушке, и можно хотя бы вечер провести без его ледяного взгляда и приказного тона. Остальные, вероятно, потому что им просто хотелось расслабиться – выдохнуть перед стартом, почувствовать себя живыми людьми, а не лабораторными подопытными. В воздухе витала лёгкая, почти детская эйфория, перемешанная с тревогой: завтра всё начнётся.
Хамков, как оказалось, не обманул – наблюдатели действительно следовали за нами. Трое мрачных, одинаково коротко стриженных мужчин, в тёмных куртках без опознавательных знаков, с лицами, словно вырубленными из гранита. В их взглядах не было ни любопытства, ни злобы – только безупречная, машинная сосредоточенность. Один – коренастый, с короткой шеей и квадратными плечами, второй – высокий, жилистый, с лицом, как у хищной птицы, третий – почти невидимка, тот, кто всегда держится на шаг позади, но успевает первым. Не сомневаюсь, они знали о нас всё: медицинские данные, психотип, биографию, любовные истории и, возможно, даже содержание снов.
Честно говоря, я не понимал, зачем они нужны. Сбегать никто не собирался – за колючим забором начиналась тайга, а город был закрытым, попасть сюда можно было только по спецпропуску. Шпионить? Для кого? Все, кто мог бы продать секреты, уже давно уехали или сидели. Но система требует наблюдения – значит, наблюдение будет.
Впрочем, нас это не сильно волновало. Они не вмешивались, сидели в стороне, словно тени.
Мы устроились в небольшом баре: полутемная, уютная обстановка, приглушённый свет, мягкий гул кондиционеров. Из колонок лениво текла музыка – что-то джазовое, старомодное, с медными оттенками. Несколько мужиков у бильярдных столов сосредоточенно гоняли шары, в углу бармен мыл стаканы и разливал алкоголь, иногда бросая на нас оценивающий взгляд. Народу немного – то ли потому, что вечер пятницы в закрытом городе не повод для гулянок, то ли потому, что все знали, кто мы.
Мы заказали лёгкие закуски, и ждали, пока принесут. Масляков задержался в ТИЦе, обещал подъехать позже. Мы пили пиво, говорили о пустяках – о погоде, о новостях, кто-то вспоминал старые проекты, кто-то шутил про «полёт на макете». А за нашими спинами, неподвижные, словно фигуры на шахматной доске, сидели трое наблюдателей – и, кажется, даже дышали синхронно.
Я тянул «Куба либре» – мой любимый коктейль, простой и честный, как вечер перед стартом. В высоком хайболле плавал лёд, в нём мерцали тёмные полосы колы, а сверху тонкой долькой лежала кисленькая лаймовая цедра; туда же – хороший золотистый ром, немного сока лайма и пара оборотов ложки. Пахнуло карамелью и ацетоном рома, а вкус был одновременно сладким и острым – именно то, что надо, чтобы немного расслабиться и остаться трезвым в мыслях.
Ашот говорил тихо, ровно, глотая слова между глотками апельсинового сока с водкой. Его стоило описать: мускулистый, невысокого роста, с седыми висками и крупным, мясистым носом – черта, присущая его происхождению, – с тяжёлым, командным голосом, в котором слышался и опыт, и усталость. Я знал, что он был военным летчиком, что видел бои в Сирии и был ранен при огне с земли; после возвращения в Россию ушёл в отставку и стал работать гражданским инспектором в Министерстве транспорта. В нём не было напускной суровости: это – человек серьёзный, твёрдый, уравновешенный, со стержнем, который внушает доверие. Он держался с достоинством – такого в авиации не теряют.
– Я очень хотел полететь на Марс, – сказал он, крутя в руках стакан. Его армянский акцент, хоть и приглушённый годами жизни в России, вносил особый колорит в фразы; это звучало совсем не мешающе, скорее тепло и лично. – Меня отсеяли на комиссии, сказали, что квалификации не хватает. Словно в полёт берут сразу, без нормальной подготовки. Астронавты-то учатся годы – два, три, и я не знаю, в чём настоящая причина. Кто-то шепнул, что у меня нет «блата» в соответствующих кабинетах, а участие в сирийской кампании, наоборот, лишило шансов…
– Почему? Ты же герой, – недоумённо воскликнул я. Люди, которые не замечали очевидного участия в событиях на Ближнем Востоке, могли и не знать деталей, но для меня всё было ясно: подвиг не всегда оценивают как заслугу, иногда – как причину для подозрений.
Ашот только усмехнулся:
– Герои не теряют самолёты, – спокойно сказал он. – А мой штурмовик подбили. Это им не простили. Но меня допустили хотя бы к имитации, и я этому рад. Я вызубрил всё, что касается управления: навигацию, инерциальные системы, ручное ведение в критических ситуациях, работу двигателей, системы жизнеобеспечения, алгоритмы аварийного переключения. Пусть я и не полечу на настоящей «Радуге», но если понадобится – я смогу взять штурвал в руки и не растеряться.
Я выпил глоток «Кубы либре», прислушался к его голосу и подумал о том, как разные дороги ведут людей в одну и ту же точку: одних – звёзды, других – долг, третьих – случай. В Ашоте была простая, железная решимость – качество, которое в этой сумбурной истории вдруг казалось ценнее всех титулов и обещаний.
– Ты рад? – спросил меня Сергей, развалившись на диване и с ленивым удовольствием наблюдая за публикой. Он приметил одну даму – блондинку лет тридцати, в узком серебристом платье, с оголёнными плечами и высоким разрезом, в котором то и дело мелькала безупречно ухоженная нога. Её губы, ярко-красные и чуть влажные, будто нарочно тянулись к бокалу шампанского, а глаза искали новые жертвы – то ли для короткой страсти, то ли для длинного чека. Она бросала на нас, особенно на Сергея, кокетливые взгляды из-за спины своего фужера, при этом делала вид, что вовсе не заинтересована. Ушаков поджал губы и задумался – не нарушит ли «устав имитатора», если проведёт ночь в компании этой профессиональной сирены.
Конечно, Сергей не был Аполлоном: жилистый, высокий, с рыжей шевелюрой, короткой бородкой и большими, оттопыренными ушами – типичный русский парень, скорее забавный, чем красивый. Но для этой дамы, чья профессия строилась на коммерческой теплоте, это не имело никакого значения; она видела только кошелёк и уверенность. Ушаков, хоть и не бедствовал – бортинженерам платили хорошо, – всё же остался сидеть на месте, обводя бар взглядом. То ли собственная неуверенность, то ли боязнь прослыть донжуаном перед коллегами удержала его от шага, который для других стал бы обычным приключением. Даже в нашем коллективе имитаторов существовал негласный Кодекс морали, в котором честь экипажа и психологическая чистота ставились выше плотских порывов.
– Рад, – признался я, сделав глоток. – С детства мечтал о космосе, хотя понимал, что эту профессию не осилю. Там нужны такие качества, что вырабатываются годами, а я, если честно, лентяй. Мне и по треку пробежаться – подвиг, только под принуждением, – хе-хе. Так что участие в имитационном полёте – уже достижение. Для меня – потолок. Ведь потом, может быть, в учебниках истории напишут, что Анвар Холматов, выходец из Узбекистана, участвовал в марсианской экспедиции, был предшественником реального полёта. Ты не представляешь, как будут гордиться мои родственники! Газеты, телевидение, интервью, да ещё и родной язык – всё пронизано восторгом. – Я пошевелил пальцами, словно разминал невидимый мячик славы.
Я представил, как в Ташкенте выходит номер газеты «Халқ сўзи» с моей фотографией на первой полосе: «Наш соотечественник готовится к марсианской миссии!» В телестудиях ведущие с мягким акцентом говорят о «нашем герое Анваре Холматове, представляющем Узбекистан в великом проекте человечества». Где-то министр науки делает заявление, родственники собираются за столом и поднимают чайные пиалы за моё здоровье. Вся страна – от Карши до Нукуса – обсуждает успех земляка, будто я уже стою на марсианской равнине с флагом в руках.
Послышался тихий, но выразительный хмык – это Марина, задумчивая, почти отсутствующая, вдруг ожила и вмешалась:
– А ты человек тщеславный, – сказала она, скривив губы. – Слава – страшная вещь. Она рождает высокомерие, чванство, пренебрежение к другим. Можно легко скатиться к низменным инстинктам, мой коллега.
Сказано было прямо, но не совсем к месту. Марина, выросшая в другой культурной среде, ничего не знала о восточной традиции, где успех одного – это гордость для всех. В её сдержанном, рациональном взгляде сквозила западная логика индивидуализма, и в этом она проигрывала в общении.
Я повернулся к ней и мягко ответил:
– Нет, Марина, у тебя неверное представление о нас, азиатах. На Востоке честь рода – не пустой звук. Если кто-то добился успеха, это не тщеславие, а путь к возможностям для всех его близких. Имя человека – это лицо семьи. Если в Ташкенте, Бухаре или Самарканде узнают, что их родственник участвовал в марсианской программе, для семьи это честь, капитал и уважение. А вот если кто-то запятнает имя рода – всем придётся расплачиваться. Это палка о двух концах. Так что слава не сделает меня заносчивым, – я улыбнулся, – меня воспитали иначе.
– М-да, Восток – дело тонкое… и тёмное для меня, – призналась Марина и впервые за вечер улыбнулась – не холодно, а как-то по-человечески, даже немного смущённо.
Она сидела, откинувшись в кресле, и медленно тянула свой коктейль – «Пина Колада», лёгкий, как тропический бриз. В бокале поблёскивала густая смесь белого рома, ананасового сока и сливок кокоса, сверху – снежная шапка взбитого льда и вишенка на шпажке. Аромат напоминал о море, песке и солнце – всём том, чего нам вскоре будет недоставать в металлическом чреве имитационного галеона.
Бар светился мягким жёлтым светом, на заднем плане звучал саксофон, и мне вдруг показалось, что эта вечерняя беседа – последнее человеческое тепло перед длинной, холодной изоляцией.
– С первых лет астронавтики всего лишь один этнический узбек1 и один выходец из Узбекистана2 участвовали в пилотируемых полётах, согласитесь, это немного, – добавил я, чуть повысив голос, будто оправдывая своё место среди избранных. – Так что я буду, типа, третьим…
Моё пояснение, однако, вызвало лёгкое недоумение у Саркисяна.
– Не понял, – нахмурился он, поставив стакан на стол. – Ведь экспедиция не международная, а национальная. Почему иностранца включили в состав имитационного полёта, особенно если мы все подписали документы о секретности?
– А я россиянин, друг мой, – ответил я с лёгким оттенком гордости, почти с тем тоном, каким в армии объясняют младшему по званию очевидное. – Это мои родственники живут в Узбекистане, Таджикистане и Казахстане. А в России моя семья – жена, две дочери, все граждане Российской Федерации. Так что не стоит искать шпиона в нашем коллективе.
Мои слова, кажется, подействовали. Бывший военный лётчик смутился, хрипло пробормотал извинение и отвёл взгляд. Я махнул рукой: мол, ладно, не парься, не бери в голову, всё нормально. Но внутри осадок остался. Мы ведь ещё даже не начали «полет», а напряжение уже нарастало. Никто из нас пока не обмолвился ни словом о семье, ни о своих настоящих делах за пределами Центра подготовки. Может, всё ещё впереди? Ведь «лететь» нам сто пятьдесят дней внутри макета – огромной металлической капсулы без окон и неба. Там, в этом искусственном космосе, где каждый день похож на вчерашний, рано или поздно сорвутся все маски. Мы узнаем, кто есть кто – кто способен держаться, а кто рухнет под собственным грузом.
– Ну, друг мой, если исходить из твоего понимания, – пробурчал Сергей, возвращаясь к разговору, – то девяносто девять целых девять десятых процентов человечества никогда не поднималось выше двадцати километров от Земли. А ныне астронавтика – это удел либо очень богатых людей – туристов, либо сверхпрофессионалов – удачников, прошедших все тесты, либо, – он усмехнулся, – тех, у кого связи с Олимпом власти. Например, как те двое.
Он кивнул в сторону отдельной кабинки. Мы разом повернули головы.
За полупрозрачной перегородкой сидела пара. Женщина лет тридцати, белокурая, с холодным, почти скандинавским типом красоты. Волосы – гладкие, блестящие, уложенные в аккуратную волну, глаза – голубые, но не наивные, а внимательные, умеющие смотреть и оценивать. Лицо правильное, но отстранённое, будто она жила в мире, где всё уже решено за неё. На ней было облегающее алое платье из плотного шёлка, открывающее плечи, подчёркивающее тонкую талию и неуловимое изящество осанки. На шее – крошечный кулон с рубином, а запястье украшали часы с бриллиантовым ободком. Я бы прикинул цену её наряда в две, может, три тысячи долларов – и не ошибся бы.
Мужчина напротив неё казался её полной противоположностью: квадратная челюсть, коротко остриженные волосы, бычья шея и руки, словно вырезанные из дуба. Лицо с бронзовым оттенком кожи и маленькими глазами, в которых угадывалась военная выправка и привычка приказывать. На нём был тёмно-синий костюм, натянутый на широкие плечи так, что ткань угрожающе трещала. С таким телосложением ему больше подошло бы кимоно дзюдоиста или армейская форма, чем этот цивильный наряд. На столе перед ними – фрукты, шоколад, бутылка французского коньяка; слабый свет бра мягко скользил по бокалам, создавая ощущение уединённости и тайного согласия. Между ними, даже с расстояния, чувствовалась не просто близость – невидимое электрическое поле, как между людьми, которые давно привыкли быть вместе, но не признаются в этом публично.