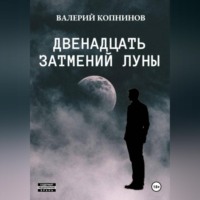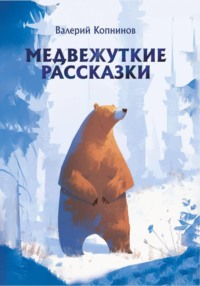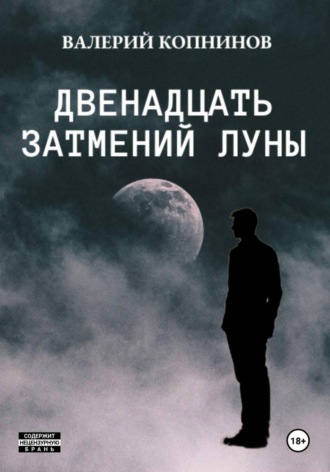
Полная версия
Двенадцать затмений луны
А потом к этой невинной фразе я всё-таки добавил малость ругательств, что горьким красным перцем жгли мой язык «празднословый и лукавый» и раздражали нёбо, вызывая что-то наподобие рвотного рефлекса. И я вытошнил из себя все эти многоэтажные маты, отвернувшись к глухой стенке, чтобы моя очевидная ненормативная артикуляция не прочиталась через стеклянную дверь.
Выходя из телефонной кабины, я украдкой глянул на стоящих очередников, тоже желающих с помощью междугородней телефонной связи приблизиться к знакомым или родным, приблизиться совершенно волшебным способом, слегка опошленным высокомерными радиоинженерами, готовыми с помощью скучных законов физики объяснить благоприобретённое человечеством чудо телефонной связи.
Приблизиться или, наоборот, отдалиться, как я только что, чему ожидающие стали невольными свидетелями.
Ничего страшного я не увидел – умеренное любопытство в глазах. У кого-то из мужиков даже сочувствие, понимание… У женщин, скорее, наоборот, ну да, мы ведь для них все «одним миром мазаны», все сволочи… И всё такое бытовое-бытовое, словно мы сошлись по случаю, не в человеческом муравейнике одного из самых больших мегаполисов мира, а на тесненькой кухне коммунальной квартиры, где все друг другу – по-человечески чужие, но в каком-то надчеловеческом смысле – свои.
После разговора с Ириной, который на продолжительное время будто бы лишил меня нескольких литров крови и трети мышечной массы, вышиб из меня мозг, включая спинной и костный, я по узкому и кривому, как женские разум и логика, Собиновскому переулку добрался до ГИТИСа, не иначе как на включённом автопилоте.
Да и день занятий в институте прошёл более чем сумбурно. Я, словно сомнамбула, реагировал на движения сокурсников и переходил из аудитории в аудиторию, слушал лекции, преданно глядя в сторону очередного преподавателя, с помощью того же самого автопилота изображая осмысленность в глазах. Это работало.
И всё равно я чуть было не погорел вместе с моим автопилотом, когда пару-тройку раз невпопад ответил на лично мне адресованные вопросы профессора Голубовского.
– Сергей! – оценил мои тщетные потуги профессор Голубовский. – Вы сегодня не с нами… Да!.. Возвращайтесь как можно быстрее, мы вас будем ждать. Но не позднее следующего занятия. А на сегодня – закончили.
А я действительно был не с ними. В голове крутилась всякая ерунда, а я безвольно позволял ей, этой ерунде, занимать все мои мысли.
«Надо же, какие-то твари готовы по малейшему поводу бежать и по зову женской солидарности докладывать, мол: “Ваш муж – развратник и пьяница! Потаскун! Ах, ах!.. А вы такая хорошая женщина! Нам вас так жалко, так жалко!..” Поганки! Прошмандовки! Вы не люди, вы – вонь подрейтузная! Сами суки… рады были бы своим мужьям рога понаставить, да на ваши толстые жопы и отвисшие сиськи никто не позарится!..»
И так далее и тому подобное, видимо, не от всех бранных слов я в телефонной кабине освободился.
Досталось, в конце концов, и тому землячку, который бросил тень на всех барнаульских мужиков, тем, что они, мужички, якобы не умеют крутить романы в столицах тихо и без лишней помпы.
«И кто этот гад, забухавший в щепкинской общаге? Кто же ты есть такой эротоман сибирский с шерстяными яйцами?.. Чем ты думал, козлина, когда блядовал напоказ? Каким местом?.. Мудак! Ты что, транспарант “Я из Барнаула” прямо на лбу себе написал? Ты, говнюк, бушевал бы в укромных местах… Сучий потрох! Ты… Так… Постой, постой… В общаге Щепки?.. Так это случаем не Женька Бондаренко из ТЮЗа?.. Он, точно он!.. Вот же пиз… Вот же засранец!»
Вычислив «дебошира», я успокоился. Женька – хороший парень, учился в АГИКе у того же педагога, что и я, только в следующем наборе, а за полгода до диплома его выгнали из института за драку. Теперь, работая актёром в театре, он, видимо, добирал образования.
«Ладно! Женька пусть гуляет, ему можно!» – окончательно успокоил я себя, уже поднимаясь по эскалатору станции «ВДНХ».
Наверху, нащупав в кармане пачку сигарет и удовлетворившись её полнотой, я прошёл мимо табачного киоска и встал в очередь за мороженым.
Мороженое являлось для меня одним из соблазнов столицы, которому противостоять человеку из провинции весьма затруднительно. Почти сразу по приезду я поставил себе за правило каждый день съедать по одному брикету мороженого – эскимо, определив, что день в Москве без эскимо – это зря прожитый день. Можно сказать, что таким вот немудрёным способом я навёрстывал упущенное, ведь в детстве я видел эскимо только в кинофильмах.
Но вскоре в этом, безусловно, вкусном начинании случился облом. Я продержался на «мороженой диете» всего три или четыре дня и понял, что пристрастие к эскимо – удовольствие дорогое. Цены на мороженое постоянно ползли вверх, как упорные альпинисты, штурмующие Эверест.
Но после разговора с Ириной мне требовалась реанимация, и мороженое подходило как нельзя лучше. Как минимум в качестве плавного перехода от Ирининого вампирского высасывания крови к преданной любви Вероники, наверняка переполняющей те три письма, что я до сих пор так и не прочитал.
Перейдя улицу Космонавтов, я обогнул нашу общагу и направился в густо заросшие деревьями и кустами дворы жилых многоэтажек в расчёте найти тихое место и удобную скамейку.
Вечер выдался пасмурный, оттого казалось, что время уже позднее – сумерки подступали раньше, чем положено. Но ранние сумерки с лихвой окупались тишиной и безветрием. Ветер за эти несколько дней после моего приезда из Вильнюса, казалось, не стихал ни днём ни ночью, не очень-то церемонясь с прохожими и с деревьями, сдирая с первых шляпы и кепки, а со вторых пожелтевшие листья.
Деревьям доставалось от ветра, похоже, больше, чем людям, – ветер безжалостно рвал кроны, будто бы сдирал с этих беззащитных существ последнюю рубаху, обнажая скелет из веток, стараясь, чтобы сгрудившиеся в палисадниках клёны, берёзы и рябины до самых своих деревянных костей почувствовали колючий ночной холод.
Не найдя свободной скамейки, я устроился на подходящем пеньке, в безмятежном закуточке, таящемся за кустами облетевшей сирени, между жилым домом и церковью, чей пятикупольный контур читался за деревьями. Доел мороженое, достал Вероникины письма и вскрыл первое.
«Здравствуй, милый мой, хороший, светлый мой… Нет подходящих слов, чтобы ты понял на расстоянии то, что мог бы почувствовать, прижавшись к моей груди… Я так тоскую за тобой! Раньше у меня была одна разлучница – твоя жена, а теперь ещё и твоя Москва!
Скучаю без тебя страшно – вот-вот и заплачу, как мне плохо без тебя… Вот и заплакала… А ты хоть слезинку уронил там, вспоминая обо мне? Или с глаз долой из сердца вон? Шучу, конечно, не обращай внимания.
А ты в курсе, что небезызвестные тебе Ленка и Витька решили пожениться? Хотя откуда ты, там, в столицах, можешь знать о нашем житье-бытье. Так вот, докладываю: Витька уже ходил к Ленке домой просить у Ленкиного отца «руку и сердце» и желаемое получил.
А ты будешь у моих родителей просить мои «руку и сердце»? Ну, хоть когда-нибудь?! Я очень этого хочу! Если хочешь знать – я об этом мечтаю! Ты ведь разведёшься со своей рано или поздно? Лучше, конечно, рано, чтобы не было поздно…
Ой, всё, пора в институт. Сейчас пойду по дороге и это письмо тебе сброшу, а вечером буду писать дальше! Целую тебя нежно-нежно! Твоя грустная Вероника».
Милая моя, грустная… Письмо, конечно, легче читать, чем разговаривать с самой Вероникой – письмо ведь не требует немедленного ответа на этот проклятый вопрос по поводу моего развода с Ириной!
«Девочка моя, если бы всё это было так просто!» – подумал я, прибирая в карман конверт, битком набитый незатейливыми и вместе с тем тягостными для меня девичьими рассуждениями.
Развод… Сколько раз я в мечтах представлял себе развод с Ириной.
Нет, Ирина не была чудовищем. Мы просто поторопились… Или я поторопился, приняв требование гормонов за любовь. Я ошибся… Да и она тоже. А ошибку лучше признать. Не для меня лучше, для нас обоих.
Именно так! Что хорошего можно построить насильно? Разве можно заставить любить? Нет! Тому примеров тьма!
И чем всё это кончится и когда – я не знаю.
А чем может кончится тот ад, что мы с Ириной устраиваем друг другу? Ответа на этот вопрос не существует. Я не люблю Ирину, она знает это и мстит от своей мучительной обиды. По поводу и без повода: чуть что – в крик, в позу, в истерику… Такую, настоящую, с наматыванием нервов на кулак, в лучшем своём стиле… До тех пор, пока не сорвётся моё терпение «под горку» и не полетят на пол стулья, посуда и не погашу я в конечном итоге своё отчаяние, шарахнув кулаком в стену, разбивая руку в кровь.
Брак оказался таким кровопролитным делом. Много кровушки нашей за эти годы пролито. И моей, и Ирининой. Пролито в прямом смысле. Она ведь вены себе резала, дура, только чтобы я не ушёл. А я от её скандалов сдохнуть хотел.
Случались такие минуты страшные, когда казалось, что всё! Казалось, что жизнь кончена. И вешался на ремне в туалете, да не смог – мать жалко стало. Больно стало… Страшно… И не ушёл от неё…
Она мне разбитые руки бинтовала… Я ей – порезанные… Скорую вызывал и с врачами объяснялся. Её ведь в психушку забрать могли, запросто.
Пить с того начал. По пьянке раз в драку ввязался, нарвался на нож – чуть на тот свет не отправился. Ирина каждый день бегала в больницу, бульончик куриный носила, плакала…
Вот так мы весело и живём. Не выздоравливаем и не помираем. Жизнь в тупик зашла.
Но все мои правильные слова, и эти, и тысячи других, дойди они до ушей Вероники, осыпались бы ей под ноги, отскочив горохом от стены её монолитного желания соединить свою жизнь с моей.
Так и не придя к душевному равновесию, я раскрыл конверт со вторым письмом. Оно оказалось коротким, но весьма содержательным:
«Миленький ты мой, возьми меня с собой, там в краю далёком буду тебе женой… Не знаю, может быть, я дурочка, но мне кажется, я создана, чтобы быть именно твоею женой! Ты пойми – я не напрашиваюсь, просто, когда я представляю себе, что мы вместе: ты, я и наши дети – девочка и мальчик (девочка красивая, как я, а мальчик умный, как ты!!!), которых я хочу родить от тебя, – мне хорошо! А когда я представляю, что в моей жизни всего этого нет – мне плохо! Напиши мне поскорее – твои письма говорят со мною твоим голосом! Целую тебя сильно-пресильно! Твоя глупая Вероника».
«Милая моя, взял бы я тебя, но там, в краю далёком, есть у меня жена…» Вот что отвечает песня на твою просьбу, глупая моя Вероника. И ты это прекрасно знаешь. Нет, я, конечно, не собираюсь равняться на песню, но из неё, как говорится, «слова не выкинешь».
И, как всегда, Вероникины письма ещё сильнее разбередили душу.
«А я ведь люблю её! – Тёплой волной окатило ощущение нежности, точно такое же, что я испытывал от объятий с Вероникой, от её поцелуев… От её глаз, глядящих, кажется, так глубоко, что им удавалось увидеть самые сокровенные желания, те, что мечтаем мы воплотить страстными ночами и боимся выпустить наружу… От женских токов, что исходили от её тела, одновременно и покорного, и требовательного, умеющего эти желания утолить и потребовать взамен утоления желаний своих. – Я люблю Веронику! И, наверное, никого так не любил… Разве что Любовь… Но вот для самой Любови – был ли мальчик?.. Значит – никого!..»
Я отчего-то вспомнил, как мы с Вероникой решили устроить красивое эротическое приключение и купили ей кружевное бельё, пояс для чулок и сами чулки. Чулки – в задуманной феерии должны были являться основным элементом, возбуждающим мою мужскую фантазию. Она переоделась во всю эту амуницию и вышла ко мне в полном блеске, возбуждающем не только фантазию.
Тело Вероники, и без того великолепно созданное природой, для того чтобы у мужчины внутри всё размягчалось, а снаружи всё затвердевало, полускрытое прозрачным ажуром белья и чулок, произвело потрясающий эффект.
Исцеловав каждую клеточку тела Вероники, открытую для доступа, я с огромным трепетом устремился к телу, скрываемому под лёгкой завесой кружевной тайны. Вскоре бюстгальтер был отброшен, а выпущенные на свободу Вероникины груди оказались в полной моей власти. Большие, чудные груди, от собственной тяжести слегка вытянутые, с нежными, чуткими сосками, жаждущими касаний моих рук, а более того – губ и языка. И немедленно их получившими сполна.
Когда мы уже в некотором исступлении подошли к невозможности ни на секунду оттягивать сладостное слияние наших тел, обнаружилось, что из-за резинок с застёжками, крепящими чулки к поясу, невозможно снять с Вероники трусики. Мне тогда пришлось просто разорвать их…
Глубоко вздохнув несколько раз, чтобы немного унять волнение, я открыл третье письмо:
«Здравствуй, мой хороший, мой любимый, мой человек! Знаешь, я что подумала? Не догадаешься ни за что! Ты можешь не просить у родителей мою руку и сердце, потому что они уже давно твои… И руки, и сердце, и глаза, и губы, и грудь – всё наполненное любовью к тебе, говорящее о любви к тебе, кричащее тебе о любви, ждущее твоей любви и ласки и тающее от наслаждения, получая твою любовь… Хочу тебя изо всех моих женских сил! Целую тебя всего-всего! До свидания. Твоя бедная Вероника.
P. S. И хорошо, что тебя сейчас нет в Барнауле – меня не мучает мысль, что когда ты дома, ты по ночам занимаешься любовью со своею женой! Вот интересно, а когда ты женился на ней, ты её любил?
Можешь не отвечать, я знаю: что бы там ни было, ты тогда меня ещё не встретил!»
«Любил или нет? – вновь мысленно заговорил я с Вероникой. – А что я знал о любви в двадцать лет? Ирина была старше и опытней… На пять лет почти. Я не первый у неё мужчина. Ладно – это ничего не значит. Она тоже мне не первая… и не вторая. Дело не в том… Никогда не нужно голову терять. Ирина рассказывала, что, когда увидела меня, решила – мой будет! А что значит – мой? Или моя? Я свой, собственный! А был мамин с папой.
Случился роман, даже не роман, а так – несколько жарких ночей. И никакая женитьба из этих действительно чудных ночей, раскалявших в наших телах непознанные ранее страсти, не вытекала.
Я, конечно, виноват перед ней. И в том, что это началось, и в том, что длится до сих пор! Сколько уже лет прошло? Три до свадьбы и после свадьбы восемь почти. Вот если бы наши отношения состояли исключительно из тех самых ночей, то всё катилось бы как по маслу… И если бы не характер её…
“Если бы да кабы, то во рту росли грибы. Тогда был бы не рот, а целый огород”. Уйти нужно было, не тянуть. Но опять же – дети. И я честно старался, для ребятишек… Сын с дочкой-то ни при чём…»
Благие рассуждения, благие мысли, благие намерения… А благими намерениями, как и прежде, дорога в ад вымощена. В тот ад, что и нас с Вероникой ожидает. Если я не уйду от Ирины. Хотя, если я не уйду от Ирины, у меня будет целых два ада на одну мою душу населения… Два ада – это, пожалуй, чересчур.
«Ты всё поняла, моя хорошая? – почувствовав одновременно и холодок отчаяния, и прилив нежности, я погладил выведенные Вероникой строчки, внизу листка немного смазанные, возможно, от капавших слёз. – Для тебя я по полочкам разложил нашу жизнь с Ириной. И вот что теперь с этой жизнью делать? Перемен! – требуют наши сердца…»
Я убрал третье Вероникино письмо и побрел из своего закутка, намеренно шурша листьями, чтобы отвлечься осенью, увивающейся рядом – на расстоянии вытянутой руки. Хотя нет, если верить шуршанию листьев, то на расстоянии вытянутой ноги.
«А осень, оказывается, – решил я, – неподходящее время для перемен! Нам подавай весну, оттого что возможность из холода перебраться в тепло – стимулирует».
Совсем скоро я «дошуршал» до церкви, что маячила за деревьями.
Тёмно-розовый тон окраса церковных стен, пять куполов цвета морской волны с вкраплениями звёзд – четыре небольших купола в вершинах ровного квадрата и один большой в центре квадрата, колокольня с маленьким вызолочённым куполом и крестом.
От вида церкви, инородной по отношению к окружающим домам, тем не менее веяло подлинным достоинством.
Я обошёл церковь вкруг и обнаружил за ней старинное кладбище – погост. И ещё оттуда, с тыльной стороны церкви, открывался забавный вид: сама церковь, а справа, в перспективе, торчала игла Останкинской телебашни.
Небольшую прилегающую к церкви территорию, широко загребая метёлкой, убирал благообразный дедок-дворник, с длиной седой бородой и седыми же волосами, торчащими из-под зимней шапки. И сам дедок облачён был по-зимнему: в подшитые рыжие валенки, суконные рукавицы, тёплые портки, тёплую фланелевую рубаху и жилет на овчинном меху. Не хватало для полноты картины ещё и тулупа. А своей благообразностью дедок, скорее, напоминал не дворника, а батюшку, настоятеля церкви, сбросившего рясу и самолично отправившегося на усмирение палой листвы.
Дедок какое-то время присматривался к моим брожениям вокруг да около, а потом вежливо окликнул:
– Сынок, подь сюды!
– Вы меня? – переспросил я, не очень-то готовый к общению и даже для верности повертел головой, отыскивая ещё кого-нибудь, к кому он мог обратиться.
Не отыскав никого, медленно направился к нему.
– Тебя, сынок, тебя! А то кого же ещё? – закивал бородой дедок и сам тоже посеменил ко мне. – Вижу, ты храмом нашим интересуешься!
– Ну, да… Красиво… А как эта церковь называется?
– Красиво, истину глаголишь! И красоте этой поболе двух веков будет. То не церковь, то – храм! О пяти маковках, во имя, значит, Иисуса Христа и апостолов: Матфея, Марка, Луки и Иоанна. А повелел заложить сей храм русский царь Алексей Михайлович на пути паломничества в Троице-Сергиевскую лавру, к мощам преподобного Сергия Радонежского…
– Царь Алексей Михайлович – это отец Петра Первого? – удивился я.
Конечно, я мог предположить, что церковь старой постройки, но настолько… Хотя чему удивляться, это же Москва.
– Он родимый, он… А назван сей храм во имя чтимой на Руси чудотворной Тихвинской иконы Божией Матери. Так-то вот! Тут, сынок, настоящие святыни… Кроме упомянутой иконы, мощи святые, икона Божией Матери «Прибавление ума», подобие пещеры Гроба Господня… В храме, в своё время, царь с царицей не единожды молились. И ты зайди, сынок!
– В другой раз зайду, как-нибудь… Прибавление ума – это то, что мне как раз и надо!
Дедок пристально и как будто бы сердито глянул на меня, повернулся к храму, скинул шапку, нацепил её на ручку метлы и, кланяясь, троекратно перекрестился. Я уже собрался потихоньку уходить, но дедок повернулся ко мне с тем же первоначальным благообразным выражением лица и промолвил:
– Я за тебя нынче помолюсь, сынок! А ты опосля дойдёшь…
– Я, дедушка, из комсомольского возраста ещё не выбыл, – решил я перевести туманные речи дедка в шутку. – Для нас религия – это сказки…
Дедок засмеялся тихим, хрипловатым и немного нарочитым смехом, словно демонстрируя ироничное отношение к моим словам, затем сильно хлопнул шапкой себя по колену, выбив из неё облачко пыли, глубоко нахлобучил шапку на голову и весело зачастил:
– Хе-хе-хе! Сказки, стало быть? Ага!.. Ну, тогда слушай ещё одну! Про войну-то Великую Отечественную ведаешь, само собой?! Так вот, когда немец к Москве вплотную подступился, Сталин духовенство к себе в Кремль призвал для молебна о защите столицы. А Тихвинскую икону Божией Матери с этого вот храма, по его же Сталина просьбе, на самолёте вокруг Москвы обнесли. И после того небесного Крестного хода Гитлера от Москвы вспять поворотили… Вот то тебе будет новая сказка, потому как ты есть во всём комсомолец! По образу, так сказать, и подобию. Ну, ступай теперь. Спаси тебя Господь!
Я не нашёлся, что ответить, какими словами проститься, и вместо слов поклонился ему, а во время поклона дедок меня перекрестил…
Я шёл в общагу в уже достаточно зябких сумерках и представлял себе военный самолёт с сидящими в салоне по одному борту армейскими чинами, а по другому борту чинами церковными. Священника в кабине пилотов с иконою в руках и распростёртый лик Божией Матери над декабрьской Москвой 1941 года.
«Враки, конечно! – подумал я. – Быть такого не может, чтобы Сталин так перепугался, что решил иконою закрыть Москву… Да и дедок сказал, мол, сказка это… Но какая красивая сказка! Покруче будет, чем любой модернистский хэппенинг!..»
Побродив ещё немного и окончательно замёрзнув, я в предвкушении горячего чая взлетел на четвёртый этаж общаги и уткнулся в запертую дверь.
Наручные часы подсказали мне, что центр гостиничных событий сместился в холл, где стоял «коммунальный» цветной телевизор. И я двинул туда.
Навстречу мне усиливался заговорщический бубнёж Александра Невзорова – судя по всему, настал черёд программы «600 секунд», выходившей вслед за программой «Время».
Наш курс, почти в полном составе, рассредоточился в креслах и на диване.
Мишка, увидев меня, поднял вверх ключ от комнаты, но я отрицательно покрутил головой и устроился за неимением места на подлокотнике дивана, рядышком с Виктором Соломоновичем.
Я подоспел как раз к рассказу Невзорова о необъяснимом заморе нескольких тысяч вполне здоровых кур на ленинградской птицефабрике имени Кирова.
«То, что вы видите, – с негодованием комментировал Невзоров свой сюжет с птицефабрики, снятый, видимо, в большой спешке, пока охрана не успела активизироваться и отреагировать, – в стране, где хронически не хватает продовольствия, где каждый кусок мяса, куриного или иного, должен быть на счету, вообще представить себе невозможно. Здесь дохнут и гниют без счёта, тысячами… Груды гниющего куриного мяса всё выше и выше…»
– Представляешь, – шепнул мне сидевший неподалёку Вадик Хрипушин, несмотря на своё челябинско-уральское происхождение – родины тяжёлой металлургии, самый тонкий и интеллигентный человек из нашей разношёрстной компании, – сейчас был сюжет… В Ленинграде, на улице Римского-Корсакова, ломают старый дом, а бабушку одну не выселили. Забыли! Дом рушится, а она не уходит.
– Блеск! – прокомментировал Виктор Соломонович то ли сообщение Вадика, то ли картинку с дохлыми, полуразложившимися курами, меж которых обречённо бродили куры ещё живые!
Далее в программе последовал сюжет о найденных двух мёртвых новорождённых младенцах, судя по всему, просто переброшенных через забор со стороны женского общежития. Голенькие младенцы лежали на чём-то вроде простыней среди строительного хлама, битых кирпичей, пустых катушек от силового кабеля… У ближнего в кадре младенца торчала незавязанная пуповина.
Затем невзоровская съёмочная группа посетила психушку, в которой содержался неустановленный мужчина без документов, представляющийся просто и без тени смущения: «Царь-батюшка». Под этим прозвищем он и значился в медицинских документах лечебницы.
– Жуть! Мрак! Блеск! – продолжал в стиле Эллочки-людоедки комментировать происходящие на телеэкране события Виктор Соломонович.
В середине сюжета из крематория, где сжигали покойников без «учёта и контроля», словно в братской могиле, а потом равномерно рассыпали прах по урнам и выдавали родственникам, не заботясь, кому чей прах достанется, Мишка не выдержал и поплёлся в нашу комнату. Я, соответственно, последовал за ним и, догнав, предложил:
– Завтра суббота… Давай-ка завтра выпьем! Ты как?
– Разумная мысль! – оживился Мишка.
И было понятно, что он и сейчас выпил бы с удовольствием, но уже негде было взять.
Утро заявило о себе солнечными лучами, беспрепятственно проникшими в наше окно, незашторенное ввиду отсутствия штор. День, похоже, не исключал наступления где-то долго и бессовестно блудившего бабьего лета, и мы с Мишкой из трёх предполагаемых вариантов, в угоду солнцу, выбрали пиво.
Но для начала пришлось метнуться на две пары в ГИТИС, на лекцию по музыкальному оформлению спектакля, что отчитал нам по личной просьбе профессора Голубовского знаменитый композитор Эдисон Денисов – одна из вершин советского авангардистского треугольника, где двумя остальными вершинами являлись Альфред Шнитке и Софья Губайдулина. А уж потом…
Пивной киоск находился буквально в шаговой доступности от общаги – на улице Академика Королёва, но туда мы с Мишкой прибыли только лишь в начале второго.
Могли бы, конечно, прибыть и раньше, но почти полчаса ушло на поиски второй трёхлитровой банки. Одна-то у нас была – мы в ней суп из пакетиков варили, а вот вторую банку пришлось выпрашивать у дежурной по этажу – у неё там хризантемы стояли, к счастью, почти завядшие.
Но это только тем, кто рано встаёт, Бог подаёт, а мы раз пришли поздно, то и попали на перерыв, связанный с закачиванием пива в ёмкость. Естественно, что мы времени зря терять не стали и шмыгнули в гастроном, где купили килограмм замечательной селёдки иваси. Надо же, при всём очевидном продуктовом дефиците, поразившем даже Москву, – везде этой селёдки было завались. Возможно, ещё в брежневские времена её столько засолили, что за эти несколько лет так и не смогли съесть.