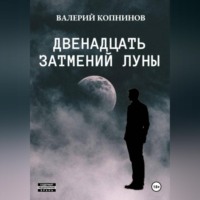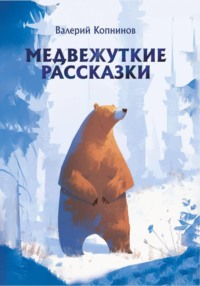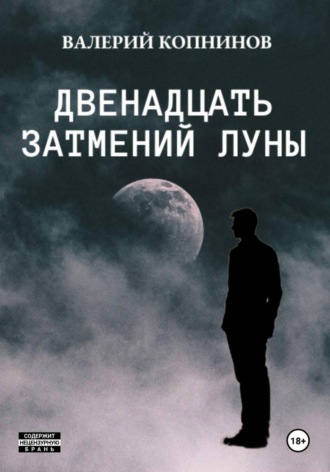
Полная версия
Двенадцать затмений луны

Валерий Копнинов
Двенадцать затмений луны
ПРОЛОГ
«И будет так. Через многие-многие лета утратят люди суть свою человеческую. Суть телесную, от земного праха сотворённую и в земной прах исходящую. А также суть душевную, с небес нисходящую и божьей милостью им дарованную…»
«…Повелят люди служить себе истуканам железным, и те станут за них всякий труд справлять. И прежде всего – заботы о хлебе насущном. А для себя оставят люди праздное довольство…»
«…Явятся тогда лунных затмений числом двенадцать, дабы узрели на Земле, как тьма тяготеет над светом и грядёт тому свету погибелью…»
«…Зайдёт по-над Землёю от края до края туча чёрная – смертная да дождём частым прольётся…»
«…Дождь тот жгучий, великие снеги из шапки Земли растопит… И уцелеют иные люди малым числом на вершине Белой горы… И ещё из поганой живности – чёрные крысы, что станут размером более себя прежних, вкусив без вреда нутром своим дождя жгучего и зловонного.
Встанет вода вокруг них, многая числом – и вширь, и вглубь, так что некуда от той воды будет деться ни людям, ни чёрным крысам…»
«…И приев скудную пищу, найденную меж камней, станет нечем кормиться оставшимся от прочих людей, кроме как чёрными крысами, невзирая на срамоту их поганую. А крысы сами учинят кормиться людьми…»
«…Замыслят люди пожечь чёрных крыс огнём, что молнией упадёт с неба, да только сами от него люди пожгутся. Ибо не покорится небесный огонь людям…»
«…Отчаявшись, уразумеют те, что малым числом от малого числа остались в целости, – грядёт им смерть неминуемая, смерть вековечная….»
ЗАТМЕНИЕ № 1 – «ОТ МОСКВЫ ДО САМЫХ ДО ОКРАИН…»
СЕНТЯБРЬ, 1989 ГОД
Самовозгорание. Личное бессознательное. Целуй меня крепче. Крик Станиславского «Не верю!». «Эффект серебристой пираньи» – начало. За Кремлёвской стеной. Утро, встреченное с Женей. Голландский абсурд. Обретение ненормативной лексики. Две степени внутренней свободы.
Буквально в одну секунду желеобразность моего сознания, замешанная за трое суток пути на привычной для пассажира поезда дальнего следования неразберихе между реальным и нереальным, то бишь явью и дрёмой, разлетелась в мелкие брызги от истошных криков, пробивавшихся сквозь закрытую дверь из коридора в купе:
– Пожар! Гори-и-м! Пож-а-р!!!
Действительно, наш вагон горел! Никаких сомнений быть не могло! И как это я сам не почувствовал удушливый запах гари, не увидел за окном языков пламени, неукротимо рвущихся в темноту и летящих веером искр? И как их не заметили мои соседи по купе?
Но…
Похоже, что в купе я пребывал в одиночестве…
Что?.. Где?..
– Пож-а-а-р! Спасайтесь! Пож-а-а-р!!!
Я отчего-то медлил, хотя крики в коридоре не только не затихали, наоборот, усиливались. А я, вместо того чтобы, схватив куртку, хранившую во внутреннем кармане портмоне с паспортом и деньгами, отправиться в спасительное бегство, лишь безвольно закрыл глаза, продолжая оставаться на верхней полке.
«Бе-еги-и!» – негодовал инстинкт самосохранения.
Беги? А вдруг там, впереди, бушует открытый огонь, быть может, к этому времени уже безнадёжно отрезавший путь к выходу?
Не знаю что, просто морок какой-то навалился на меня, обездвижил.
– Пож-а-а-р! – Голос кричащего сорвался в фальцет, или, говоря точнее, на поросячий визг, и затих, заглушённый топотом множества ног спасающихся от гибели пассажиров.
Дверь купе распахнулась сама собой, видимо, кто-то дёрнул за ручку снаружи.
Люди, изгнанные ночным пожаром из дорожного сна, в панике бежали по узкому коридору, то и дело погружающемуся в полутьму под мерцающими из-за выгорающей проводки лампами. Бежали едва одетые, с подхваченными второпях вещами – вероятно, теми, что подвернулись под руку. Толкаясь, падая…
Первыми неслись полупьяные проводники в мятой донельзя форме, а дальше – беспорядочная разновозрастная и разнополая масса, на фоне которой выделялась некая дама бальзаковского возраста и рубенсовских форм, совершенно голая, но с парой здоровенных дорогих чемоданов, сработанных из крокодиловой кожи.
Грудь голой дамы, поражающая воображение своей величиной, сотрясалась в такт каждому её шагу, а складки жира на животе и боках колыхались из-за такта – синкопируя импровизационной теме побега, если переводить телесные движения дамы на язык джазовых гармоний: раз, два, три – грудь, и – складки, раз…
Последним в толпе, чуть приотстав от всех, опираясь на зонт-трость, неспешно следовал высокий мужчина неопределенного возраста – где-то от сорока пяти и до семидесяти пяти, – строго, но со вкусом одетый…
Ну почему, почему?..
Страх, парализовавший мою волю, компенсировал отнятое сверхъестественным зрением и слухом – я видел и слышал картину происходящего целиком.
– Бах! Ба-бах! Бах! – словно озвучивая перестрелку в детской войнушке, разрывались на части электролампы в уже полностью охваченном пламенем последнем купе. – Бзы-ынь! Бам-бам-бам-ба-бам! – осыпалось внутрь вагона рифлёное стекло в дальнем туалете и громко тарахтело, падая большими осколками в унитаз из нержавеющей стали.
Толкаясь и мешая друг другу, люди выскакивали в тамбур и не раздумывая прыгали в тускло освещённую прячущейся за тучами луной полосу отчуждения, примыкавшую к железнодорожным путям.
Последним из горящего вагона шагнул строго одетый мужчина. Соскользнув с верхней ступеньки, он, уже находясь в полёте, раскрыл зонт и, словно парашютист, завис в воздухе, в то время как весь состав с пылающим посередине вагоном промчался мимо него.
Конусовидные лучи прожекторов локомотива, ярко-белые квадраты окон вагонов и трепещущее пламя пожара – весь свет, исходящий от скорого поезда, ненадолго спугнул с железнодорожного полотна беспроглядную ночь. Но стоило только последнему вагону, громыхая на стыках, скрыться за ближайшим поворотом, как тьма, едва разрежённая полускрытой луной и тусклыми звёздами, вернулась на прежние позиции.
И следом на полосу отчуждения потянулся туман, укрывая плотным саваном безжизненные, едва различимые в потёмках тела разбившихся насмерть пассажиров, лежащих вдоль насыпи в разнообразно-нелепых позах.
«А-а-а-ха-а-а!» – в оглушительную тишину ворвалось моё собственное, лихорадочное дыхание. Тело сотрясала дрожь, не хватало воздуха…
Среди трупов вновь выделялась голая женщина. Она лежала, округло возвышаясь бёдрами и кокетливо поджав под себя правую ногу. Груди её, словно сбежавшие через край излишки дрожжевого теста, рыхло стекали на гравийную насыпь…
Из тумана, роняя голодную слюну, вышли волки. Стая – шесть матёрых хищников. Волки шли вдоль насыпи и рассматривали мёртвые тела жёлтыми глазами, горящими отражённым светом луны. Шесть волков – шесть пар глаз. Двенадцать жёлтых лун…
«Х-х-х-х!» – уже не дышал я, а хрипел. От жара, от дыма, от страха…
Если кто не знает – вагон пассажирского поезда по «нормативу» выгорает в движении минут за двадцать, а при дополнительном ветре и того быстрее – это правило я усвоил в студенческие времена, подрабатывая по ходу третьего трудового семестра в отряде проводников «Голубая стрела». Усвоил, будучи навсегда уверенным, что повода убедиться в точности этих цифр мне не представится никогда.
А вот поди ж ты – пришлось! И минуты выгорания уже бежали как… как угорелые, подгоняемые жаркими языками пламени, слизывающими пластик, вгрызающимися в деревянные детали интерьера и мягко проникающие в свёрнутые на третьих полках матрасы, а также под кожу спальных диванов…
Стоп! Сто-о-оп!.. Я понял! Это – спирт! Тот, что всю дорогу пили мы с соседями по купе. Покупал-то я водку, о чём красноречиво свидетельствовала этикетка на бутылке: «Водка “Русская”». Но, видимо, по ошибке «производителей» вместо палёной водки по бутылкам разлили чистый спирт. И волею случая этот сногсшибателный напиток достался именно мне, в обычном городском комке.
Так… Мы пили сами… Угощали тем спиртом пассажиров в других купе… Угощали проводников… И похоже, что спирт мой по чьей-то неосторожности загорелся.
Вот оно что!
И мы уже дружно сгорели бы все дотла, если бы в минувшую пьяную ночь не бегали по вагону с песней: «Ой, Купаленка, ночка маленька. А я не спала, золоты ключи брала. Зарю размыкала, росу отпускала…», – щедро обливая друг друга водой в честь праздника Ивана Купалы. А воды в шутейном обряде на желающих принять омовение, да и на нежелающих, было вылито так много, что и одежда пассажиров, и постельные принадлежности, и даже ковровые дорожки в коридорах и купе пропитались влагой.
– Вниманию пассажиров! Наш поезд прибывает в столицу нашей Родины, город-герой Москву! Прибытие на Казанский вокзал! Оставшееся время в пути – тридцать минут!
Сон слетел с меня мгновенно, и я, почти без паузы, ну, может быть, с трёх-четырёх секундной задержкой, не более, вернулся из нереального мира в настоящее. Сработало свойство быстрой адаптации, присущее диким животным и ещё – молодым человеческим организмам в качестве бесполезного подарка от природы. Молодой организм – это про меня!
«Бесовщина… – оценил я приснившийся кошмар и тут же скомандовал себе: – А ну-ка, подъём! До Москвы полчаса!»
Из купе в купе, с обходом, проворно собирая постельное бельё и чайные стаканы в осанистых подстаканниках, уже пошли проводники моего вагона. Весьма забавная зрелая парочка: он и она, в возрасте около сорока. Она – дама видная, ещё очень даже ничего, только совсем неухоженная, без лоска. Он – уже поблёскивающий макушкой сквозь чёрные, «цыганские» кудри, невысокий, неатлетичный, но вполне себе шустрый. Оба лёгкие как на подъём, так и на острое, вплоть до матерного, словцо.
«Надо же – приснилась ерундистика всякая! С чего бы вдруг?.. А-а-а! Подсознание! Ну да, ну да… Начитался всякой страсти и впал… В белую горячку… Нет, покруче – в психоделический транс. Религия – опиум для народа!» – припомнил я накануне прочитанный, что называется «по верхам», текст апокалиптического апокрифа в полторы странички мелким шрифтом, доставшийся мне на сдачу при покупке детективной книжицы. Не то чтобы совсем не увлёкший меня, а просто… непривычный для восприятия, скорее всего.
Всё это окололитературное добро вкупе с игральными картами, на коих соблазнительно позировали обнажённые красотки, и календариками с милыми до тошноты котиками доставила в наш вагон парочка глухонемых ещё на подъезде к Омску.
«Что там про огонь-то было? А-а-а, вот так: «Замыслят люди пожечь чёрных крыс огнём, что молнией упадёт с неба, да только сами от него люди пожгутся. Ибо не покорится небесный огонь людям…» Ну, умереть не встать – текст с подтекстом!.. Вот так апокриф – сюжет для триллера! Как, впрочем, и сон… И художественно, и реалистично! Реализм Иеронима Босха! Местами, так даже – натурализм…»
А стук вагонных колёс уже сбивался с чёткого маршевого ритма на расплывчатые и томно-тягучие джазовые импровизации с неуклонным замедлением диминуэндо. Жизнь по-прежнему состояла из коктейля звуков с названием «Весь этот джаз», хотя данное замедление явилось всего лишь признаком вхождения поезда в московские предместья…
Помню, когда я первый раз подъезжал к Москве, то ожидал в её предместьях увидеть явные признаки столицы, чуть ли не дальние пролёты Кремлёвских стен с рубиновыми звёздами на башнях. А ещё дворики купеческого Замоскворечья, где вот только-только пили чай из самовара герои пьес Островского с братьями Третьяковыми. И далее – бросающие гигантские тени Сталинские высотки со Стахановым и Ворошиловым на балконах…
Но за окном проплывали всего лишь обыкновенные улицы и заурядные промзоны – предместья как предместья, подходящие для любого города.
С тех пор я очертил для себя на территории Москвы воображаемое кольцо. По большому счёту моё кольцо соответствовало Бульварному. Всё то, что вместилось в эти границы, собственно, я и считал Москвой. А что снаружи, включая ближнее Останкино, и уж тем более всякие там Кузьминки, Зюзино, Бирюлёво, Выхино-Жулебино, Новогиреево и т. д. и т. п., – причислил к пригороду.
В пригороде необходимость принуждала перемещаться на метро, а где метро ещё не прорыли – на наземном транспорте. Москва же внутри кольца вполне годилась для пеших прогулок.
Откровенно говоря, ничего нового я не придумал. Если посмотреть «мысленным взором» со старой площади перед Кремлёвским дворцом, по крайней мере на РСФСР – республику, где я родился и живу, то чем дальше проникнет «взор», тем ощутимее и явственнее обозначается «пригород».
«И к чему такой сон? Что бы нам сказал на это дорогой товарищ Зигмунд Фрейд? – продолжал я размышления, выуживая из-под нижнего сиденья сумку с вещами, притом невольно сталкиваясь с попутчиками по купе, ставшем вдруг из-за одновременных сборов всех четырёх его обитателей невероятно тесным. – Огонь и вода? Вода… «Встанет вода вокруг них, многая числом – и вширь, и вглубь, так что некуда от той воды будет деться ни людям, ни чёрным крысам…» Бр-р-р!.. Да ещё Иван Купала выплыл некстати! На дворе – cентябрь!.. Или как раз кстати? Сказка! Огонь и вода?.. Тогда бы уж и медные трубы приснились до кучи!»
Но на поиски ответа времени уже не оставалось – словно извиняясь за постоянный, надоедливый перестук протяжённостью в шестьдесят четыре часа, виновато скрипнули в торможении колёса, и фирменный поезд «Алтай» замер на месте, окончательно доставив меня в Москву.
Подхватив сумки, я двинулся к выходу из вагона, где всем одинаково вежливо улыбались совершенно трезвые проводники, не имеющие к моему сну никакого отношения. Хотя форма… Форма всё-таки наводила на мысли – пиджачки и у него, и у неё выглядели помятыми, как в моём сне.
«Брысь!» – снова скомандовал я себе и, прогнав из головы назойливую ерунду, осторожно шагнул на перрон.
Вот она – черта, что сразу же обозначилась за последней ступенькой поезда. Черта, отделяющая меня от старого и ненужного. Всё самое важное я принёс в себе, оставляя позади провинциальную ограниченность, непростую, без внятной перспективы жизнь вузовского преподавателя на зарплату в сто двадцать пять рублей, катастрофически не сложившееся семейное счастье, вдруг обернувшееся затянувшимся несчастьем… И всю остальную дурь, случившуюся сама собой, равно как и ошибки, сотворённые собственными руками.
А то ведь, жуткое дело, от запутанности жизни, от отчаянной невозможности хоть что-то в ней изменить однажды чуть было руки на себя не наложил… Я вообще-то терпеливый – многое выдержать могу. А тут… Было дело… Всё разом навалилось, так, что невмоготу. Белый свет клином сошёлся, всего-то на несколько минут, а поди ж ты… Зашел я дома в ванную, вынул ремень из штанов, петлю соорудил, свободный конец на трубе захлестнул и в кулаке его зажал, а петлю на шею себе набросил. Ноги поджал, удавка затянулась… Висю. Или вишу – сам себя держу. И ни про жену не думал тогда, ни про детей, чтобы остановить-то себя. А когда уже темнеть в глазах стало от боли и от недостатка воздуха, тогда вдруг маму перед собой увидел и понял, что не переживёт она моей смерти. Да и страшно мне сделалось от решимости своей глупой. Надо ли так-то?..
Кулак разжал и на пол мешком рухнул. Отдышался, скинул петлю, футболку на рубашку сменил, чтобы синяков и ссадин на шее видно не было, и решил дать себе ещё один шанс.
А Москва и есть этот шанс! Шанс, дарованный мне, Сергею Ивановичу Платонову, парню из провинциального городка, двадцати восьми лет от роду… Начать всё сначала в двадцать восемь лет – такое ещё возможно! Пусть не сразу, пусть постепенно. Москва – город волшебный, и ничего, что прибыл я сюда не по дорожке из жёлтого кирпича – главное, что я здесь, что я в нужное время оказался в нужном месте!
«Отступать некуда – впереди Москва!» – торжественно обозначил я своё психологическое состояние, замерев на мгновение как соляной столб. Нет, не зудимый желанием оглянуться назад. Просто остановленный тревожащей меня всю дорогу мыслью о том, каково это будет встретиться с Москвой один на один. А ещё – давая себе возможность проглотить обозначенное состояние, комом вставшее в горле.
Но вскоре, не удержав значимости момента, рванул с места, получив увесистый импульс от парочки внушительных чемоданов, принадлежащих бодро выгружающейся следом за мной даме… Ну надо же, какое совпадение! И чемоданы, и зрелый, пожалуй, даже критически зрелый возраст дамы, и скрытые под свободной одеждой телеса внушительных объёмов опять-таки соответствовали сну. Да только сон уже казался таким далёким и неважным.
Даже на крытом перроне чувствовалось, что столица находится в состоянии бабьего лета – веяло почти июльским теплом, но веяло нежно и ласково. Бабье лето – самый ненадёжный элемент природы. Время года, не обозначенное ни в одном из календарей мира – ни в юлианском, ни в григорианском, ни в календаре индейцев майя. Однако же существующее в реальности…
– Ну, здравствуй, что ли?! Здравствуй, Москва златоглавая! – с невольным подъёмом, хотя и вполголоса, проговорил я, пробираясь со своими манатками по перрону, постепенно восстанавливая спёртое от «радости в зобу» дыхание. – Я приехал к тебе! Так целуй меня крепче!
Хорошенькая девушка с букетиком хризантем, спешащая во встречном потоке, услышав окончание моей фразы, сбилась с шага и уставилась на меня округлившимися глазами. Очевидно, сочтя, что слова мои предназначены ей, девушка с видимым усилием попыталась вспомнить, кто я и что я есть для неё в этой жизни, раз требую таких интимных проявлений.
Её недоумение меня развеселило, и я радостно продефилировал мимо озадаченной девушки, двигаясь в своё, по моим внутренним ожиданиям, счастливое настоящее.
Последнее, что связывало меня с тремя с половиной тысячами километров пути, проделанными в искомое настоящее, – это горячее тело огнедышащего дракона, из-за технического прогресса выродившегося в простой локомотив. Дракона, обратившего живые мускулы в металл мощностью три тысячи лошадиных сил, сохранившего от своего предка лишь пышущий во все стороны жар, идущий от работающих дизелей, мощный трубный глас да смрадный выхлоп.
Я погладил его по горячему зелёному боку, пытаясь как-то выразить своё почтение. Но дизельный дракон не обратил на меня никакого внимания. Уткнувшись тупой мордой в тяжёлую бетонную балку, означавшую конец пути, он дремал, ожидая дальнейших распоряжений от приручивших и прикормивших его рыцарей железной дороги.
«Что это за мир такой дрянной, где драконы готовы променять радость свободного полёта и обладание несметными сокровищами на добрую порцию солярки и плохо профильтрованное машинное масло?» – мог бы подумать я, если бы на тот момент никаких других забот, кроме вырождения драконов, у меня не имелось.
Протолкавшись на перроне сквозь довольно плотные слои встречающих и провожающих, я спустился вниз, чтобы добраться до цели с помощью Московского метрополитена имени В.И. Ленина. Как я привык считать с детства – самого лучшего в мире.
В переходе вовсю кипела жизнь, представленная в её экономических, политических и культурных аспектах. Преобладали бойкие торговцы всякой всячиной – от значков со злободневными тезисами типа «Борис, ты прав!» до перепечатанного на машинке доклада Гдляна и Иванова.
Радовали слух уличные музыканты: струнный квартет эстетствовал «Маленькой ночной серенадой» Моцарта, а ближе к выходу двое рок-парней, в заношенных джинсах и чёрных косухах, при гитаре и бубне, бодрили цоевской песней «Мы ждём перемен».
Имел место быть и обездоленный люд: благородные матери-одиночки, просящие на дорогостоящую операцию для больного ребёнка, побирушки, клянчащие на кусок хлеба. Вразброс, вдоль стены, вещали предсказатели, целители, проповедники, тёрлись какие-то непонятные личности, и вся эта жизнедеятельность – при полном нейтралитете милиции. Два милицейских сержанта – старший и младший – прогуливались неподалёку и делали вид, что ничего предосудительного не наблюдают.
Пришло время меняться привычному миру, а с ним должно меняться и нам! Вот и песня на подмогу:
Перемен! – требуют наши сердца.
Перемен! – требуют наши глаза.
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен:
«Перемен!
Мы ждём перемен!»
Перемены и впрямь наблюдались разительные! Всего-то и минуло три года перестройки, запущенной в жизнь фразой Горбачёва, ставшей почти крылатой: «Предлагаю нАчать!» А такая каша заварилась…
И текущий, тысяча девятьсот восемьдесят девятый год уже привнёс в копилку преобразований следующее: «государственные мужи» весьма решительно, так же решительно, как и вводили в своё время, вывели войска из Афганистана, не давая девятилетней войне никаких официальных оценок и тем самым подвесив в воздухе в общем-то важный вопрос: «А победили мы там кого-нибудь или нет?»
Перемен! – требуют наши сердца…
И то – давненько уже никто ничего не требовал и даже не просил!
А в этом деле главное – «нАчать»! На поверку мы оказались «широкими натурами» – бразильская «Рабыня Изаура», приковавшая советское население к экранам телевизоров и подарившая всем садовым участкам страны красивое название «фазенда», ничуть не смогла обойти в популярности телетрансляции заседаний Первого съезда народных депутатов СССР.
Съезда, где в «новых демократических реалиях» совершенно свободно выходил на трибуну вчерашний ссыльный, опальный и поднадзорный диссидент, водородный «бомбист» А.Д. Сахаров, ратовал за мир, а консервативные депутаты съезда совершенно свободно «захлопывали» его.
Съезда, где наметилось очевидное соперничество между Горбачёвым и Ельциным, давшее возможность тому же советскому населению обсуждать на кухнях не только подходящего жениха для Изауры, но и новую политическую модель будущей страны.
Перемен! – требуют наши глаза…
Имеющие глаза – да увидят, имеющие уши – да услышат! Открытой информации стало не в пример больше. У берегов Норвегии затонула наша подводная лодка «Комсомолец», и нам об этом рассказали… Шахтёры забастовали в Сибири – мы уже как должное приняли… Рокеры по ночной Москве устроили бешеные гонки на мотоциклах – милиция, чуть не с трансляцией в прямом эфире, дала на то адекватный ответ, стреляя по шинам…
И никто ни на кого не в обиде! Ну, или почти что никто!
В нашем смехе и в наших слезах,
И в пульсации вен…
Грохочущим пульсом отдалось в висках и дух захватило всерьёз от такой свободы, явившейся весёлым признаком нового времени, что и объединило всех нас, вспомнивших: мы – граждане. И теперь, согласно гражданским правам, мы с удовольствием примеряли на себя собственное мнение, как будто самую что ни на есть модную одёжку, без которой в приличном обществе и появляться-то стало неловко.
Покопавшись на самодельном торговом щите среди значков с забавными надписями, я выбрал один с прелестным лозунгом: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью», победивший в недолгой борьбе другой значок, с тоже очень милым изречением: «Демократия отличается от демократизации, как канал от канализации». А выбрав, купил его в подарок для одной милой девушки с бинарным именем Вероника.
Да, именно так звали мою тайную возлюбленную, одарённую от природы качествами, крайне редко сосредоточенными в едином женском существе, – умом, красотой и грудью четвёртого размера.
О женская грудь! Почему поэты, в отличие от художников, уделяют тебе так мало внимания?! Как жаль, что я не поэт – будь я им, непременно воспел бы груди всех женщин на земле, а грудь Вероники в первую очередь.
Вероника, кстати, обещала, что непременно станет скучать без меня, плакать пустыми одинокими вечерами и с нетерпением ждать моего возвращения в наш городок… В мой городок.
«Мой городок – жди меня, и я вернусь!» – подумал я в то самое время, когда часы на резной башенке Казанского вокзала, на который я прибыл, начали отсчёт моей первой сессии на Высших режиссёрских курсах ведущего театрального института страны. Проще говоря – ГИТИСа, на тот момент по воле новых веяний переименованного в РАТИ и донашивающего последние деньки архаичное имя народного комиссара просвещения А.В. Луначарского.
Впрочем, на долю ГИТИСа, для вящей его славы, оставалось достаточно других личностей. С портретов, облагораживающих сами стены институтского фойе, пытливо смотрели на входящих великие театралы прошлого: К.С. Станиславский (почти каждый раз, когда я шёл мимо, всё ждал и боялся, что крикнет мне Константин Сергеевич своё легендарное «Не верю!»), В.И. Немирович-Данченко, В. Э. Мейерхольд, Е.Б. Вахтангов…
Но – это полдела, главное, что в узких лабиринтах институтских коридоров можно было встретиться лицом к лицу с театральными величинами современности: А. А. Гончаровым, М.А. Захаровым… Или поболтать в тихом скверике с И.Л. Вишневской, Э.В. Денисовым…