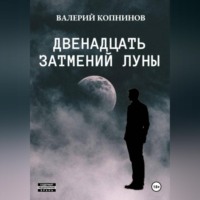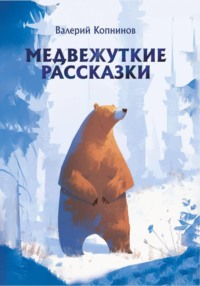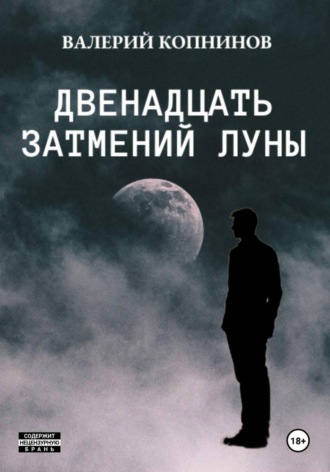
Полная версия
Двенадцать затмений луны
И мысли, диктуемые ростом самооценки, рисовали картины нашего немедленного соития в любом закутке Александровского сада – например, в тени памятника Лермонтову, под тихой сенью ветвей.
Почки на деревьях лопались с глупым восторгом праздничных петард, трава росла, прибавляя по миллиметру в минуту, а на улочках, ещё позавчера не желающих ни в какую расставаться с остатками льда и снега, появились самые настоящие бабочки.
Белые, жёлтые, коричневые – они порхали по неведомым траекториям, словно носимые ветром разноцветные кусочки замши, расшитой бисером.
– Ты уже был в Исаакиевском? – попыталась пробиться в мои мысли Юля и, видя, что я погружён в себя, остановилась, придержала меня за руку и повторила вопрос: – Ты уже был в Исаакиевском?
– Был, в феврале… Замёрз как собака на куполе… Ветер дул точно сумасшедший…
– А ты знаешь, что там много укромных уголков? – с явным волнением произнесла Юля, подойдя ко мне вплотную, но не прижимаясь, а сохраняя между нами небольшое расстояние, постепенно наполняемое электрическим напряжением.
– Ну, д-а-а… – неуверенно протянул я.
– А ты знаешь, что я надела платье на голое тело? – сжав мою руку, тихонько сказала Юля.
Я почувствовал в лёгком подрагивании её руки учащённый пульс, заставивший моё сердце следовать в унисон её ритму – снова музыка мира зазвучала в стиле «Весь этот джаз»!
– Но там же собор… – машинально произнёс я, понимая, что Юлю это не остановит.
– И что? Разве это преграда для ведьмы? – Юля не отпускала мою руку и в то же время насмешливо глядела на меня бесстыжими зелёными глазами.
– Ах вот оно что! И как я сразу не догадался…
– Каждая женщина – ведьма… Просто некоторые из нас этого боятся!
На плечо Юли в самый центр нарисованного красного мака села бабочка, видимо, намереваясь полакомиться нектаром, сбитая с толку то ли цветами Юлиного платья, то ли цветочным ароматом Юлиных духов.
«Глупая! – подумал я. – Зря стараешься! Весь нектар этого цветка сегодня достанется мне!»
Да, про Юлю, пожалуй, тоже можно написать роман – роман о романе.
Но Юлино тело ни разу так и не стало для меня волной, поднимающей к подножию рая и увлекающей в следующую минуту к границам ада.
Юля не стала для меня Любовью…
Как бы это выразить?.. Юля щедро делилась собой, когда чувствовала свою нужность… Для Юли ощущение нужности – всё равно что небо для птицы и море для рыбы – без неё она просто погибала. В этом достоинство, вечная сила и предназначение настоящей женщины. И глуп мужчина, не способный эту жертвенность в женщине оценить! Я оказался способен, значит, не так уж глуп.
Но это ещё не всё. Мы ведь были молоды и жаждали самого-самого… И заключалось это «самое-самое» не только в поисках заветного ключа от чьей-нибудь комнаты, где мы предавались плотской любви со всей силой молодой страсти.
Там, в Ленинграде, где всё делалось по большому счёту, я впервые почувствовал приблизительно то, что испытал Буратино, замерев на секунду у дверцы, открытой им с помощью более ценного ключика – золотого, у той дверцы, что долгое время таилась за холстом с нарисованным очагом.
Там, за холстом, Буратино постиг для себя театр – театр не как помещение, театр как призвание!
Но я ощутил не только своё призвание к театру, я открыл в искусстве духовное содержание, недостижимое и непостижимое разумом, то самое, что могло сделать меня, земного и грешного, больше, чем я есть. И что явилось важнейшим компонентом моей гармонии с миром.
Той гармонии, что я искал, без которой не видел в жизни ни счастья, ни смысла!
Той гармонии, что давала Моцарту его музыка, нашёптываемая ему на ушко устами ангела. Устами чистого и светлого ангела, снаряжаемого для этой цели лично Господом Богом. И в силу ниспосланных ангельских пришествий буквально вся музыка Моцарта рождалась безупречной, всецело подчинённой высшим законам гармонии!
«Гармония того требует!» – так сам Моцарт в фильме Милоша Формана объяснял Сальери своё волшебное умение, создавая музыку, блестяще распорядиться обычными семью нотами, казалось бы, доступными для всех. Всё просто – «гармония требует»… А за этим – и счастье, и смысл жизни.
Но ко мне ангелы не прилетали… И оттого театр стал моей религией, а богами: Станиславский, Таиров, Эфрос, Шабалин, Додин…
Именно в Ленинграде я почувствовал, что дверь в театральное искусство передо мной открыта и мне осталось только сделать шаг, ну два шага, ну пусть даже сто…
И, сделав эти шаги, я начну жить тем, ради чего вообще родился на белый свет! Обретение смысла жизни, над которым бьются люди и порой так и не достигают его, находилось от меня в шаговой доступности!
Моё открытие требовало материального воплощения, и я пошёл по пути, может быть, нелепому с точки зрения логики, но совершенно объяснимому с точки зрения экзистенциального неуправляемого восторга. А местом воплощения я избрал Малый драматический театр Льва Додина, там, кстати, и технически организовать то самое воплощение было проще всего.
Мне придумалось следующее: я смотрел, к примеру, спектакль «Повелитель мух» и по окончании шёл не в гардероб, а в курилку. В Малом театре – всё малое… И похоже, что из-за неимения служебного входа (а равно и выхода) в курилку выходила ещё и дверь из закулисья – из того пространства, где располагались театральные цеха и гримёрки актёров. Дверь с лесенкой в три ступеньки. И все актёры после спектаклей покидали театр через эту дверь и, соответственно, через курилку.
Я сидел… Курил – одну, вторую, третью сигарету… Ждал.
И через некоторое время в курилке появлялись разгримированные актёры, простые и «жизненные».
Чаще всего первым по ступенькам сбегал Игорь Скляр.
– Здравствуйте, Игорь! – дружески, но без фамильярности говорил ему я.
– Здравствуйте! – вежливо отвечал Скляр.
Немного погодя – Петя Семак.
– Здравствуйте, Пётр! – приветствовал я Семака.
– Здравствуйте! – отвечал Семак.
Сергей Бехтерев… Владимир Осипчук… Наталья Акимова…
– Здравствуйте!.. Здравствуйте!.. Здравствуйте!..
А после спектаклей «Братья и сёстры» и «Дом» я к «здравствуйте» обязательно добавлял «спасибо», кланялся, и актёры кланялись в ответ.
И здоровались эти незнакомые со мной люди, и даже кланялись без удивления и снисходительности, наверное, раз я уж ощутил себя Буратино, то и актёры МДТ видели во мне этого деревянного человечка с длинным от непомерного любопытства носом. А Буратино для театрального человека – не просто персонаж, знакомый с детства, а коллега на всю жизнь.
Кстати, тот ритуал в Москве «Доброе утро с Женей», когда мы по утрам вторников и четвергов на входе в классы актёрского колледжа здоровались с Евгенией Симоновой, придумал я – использовал свой ленинградский опыт.
Так вот, уже чувствуя в руке заветный золотой ключик, удалось посмотреть мне в лгитмиковской видеотеке запись спектакля Някрошюса «Пиросмани, Пиросмани…», от которого просто захватило дух. Это при том, что любой человек, хотя бы раз побывавший в хорошем театре, знает, что спектакль в записи – это всего лишь процентов двадцать-тридцать от живого действа.
И с моей подачи в нашей «маленькой компании» возникло неуклонное желание ехать в Вильнюс, в Молодёжный театр, и вживую посмотреть хотя бы один из спектаклей Эймунтаса Някрошюса.
Кроме нас с Юлей, говоря о «маленькой компании», я имею ввиду и Ростика, на тот момент, похоже, тяготящегося нашим с Юлей романом. И, по-моему, с дружеских позиций даже ревнующего меня к Юле.
Тогда – поехать не случилось. Но идея ехать к Някрошюсу не умерла.
Оттого-то в один прекрасный московский вечер, в перерыве затянувшихся допоздна занятий, воспользовавшись отсутствием на кафедре режиссуры кого-либо, я позвонил по межгороду в Молодёжный театр Вильнюса и попросил прочитать расписание спектаклей на вторую половину сентября. Двадцать седьмого значился «Дядя Ваня» А. П. Чехова.
На утро я первым делом отбил телеграмму Ростику: «ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОГО ИЛИ НИКОГДА ТЧК ВИЛЬНЮС ДЯДЯ ВАНЯ ТЧК».
Про Юлю я в телеграмме не упомянул, понимая, что Ростик сделает всё возможное, чтобы мы поехали без Юли, вернее, он, собственно говоря, уже сделал всё возможное, когда в одном из писем ко мне будто бы случайно обмолвился, что у Юли роман со студентом-мексиканцем…
Ростик ответил: «БЕРУ БИЛЕТЫ ПОЕЗД ЛЬВОВ ВИЛЬНЮС ТЧК ЖДУ ЛЕНИНГРАД ДВАДЦАТЬ ШЕСТОГО ТЧК».
Я по такому случаю пригласил вечерком на приватную беседу старосту курса Виктора Соломоновича Крамера, моего бывшего старосту ещё на той стажировке в Ленинграде.
– Виктор Соломонович! – начал я издалека. – Ты же знаешь, как я к тебе отношусь!..
– Ты что-то задумал, Серёжа? – сразу же раскусил меня Виктор Соломонович, не зря носящий знаковое отчество. – Решил проветриться? На сколько дней? И куда, если не секрет?
– Виктор, ну какие секреты могут быть у меня от тебя! – воскликнул я почти что искренне. – Ты помнишь, я ещё в прошлом году в Ленинграде бредил Някрошюсом?
– Помню и восторги твои разделяю…
– Так вот, Виктор, – перешёл я к самому главному, – двадцать седьмого в Вильнюсе «Дядя Ваня», и я не могу не поехать!.. Витя, Христа ради прикрой меня на три, максимум на четыре дня…
Виктор Соломонович надолго погрузился в сокрытые от меня мысли, несмотря на свою «ортодоксальную» внешность, почёсывая при этом макушку на манер русского мужика из Тамбовской губернии.
«Даже если он скажет, что ехать не нужно, я всё равно поеду!» – решил я на всякий случай, чтобы не дать Виктору Соломоновичу шансов отговорить меня от поездки.
– Ехать, конечно, нужно… – наконец-то заговорил Виктор Соломонович – Только есть одно но…
Он вытянул вверх указательный палец, дождался, пока я придам лицу серьёзное выражение, и продолжил:
– Ты знаешь, Серёжа, какая сейчас обстановка в Вильнюсе?
– Да там, в Прибалтике, всегда одно и то же – требование суверенитета! И что?
– Требование – ерунда! – невесело усмехнулся Виктор Соломонович. – Требование – всего лишь слова! А вот дела… Когда националистические идеи становятся делами – это страшно, а нам, евреям, уж поверь мне, Серёжа, это хорошо известно!
– Да какие дела? – спросил я недоверчиво. – Не новый же Гитлер там объявился?
– Упаси бог! И, кстати, о Гитлере… Ты слышал про «Балтийский путь»? С явным намёком… В честь пятидесятой годовщины пакта Молотова – Риббентропа от Таллина до Вильнюса местные жители встали живой цепью… «Русские – оккупанты!» – так они говорили… Ну, пусть даже не говорили, но они так думали… А пожалуй, что и говорили! И это всего какой-то месяц назад… Вот и дела!
– Но ехать-то нужно!
– Ехать нужно! Я прикрою тебя в институте, Някрошюс того стоит, но… – Виктор Соломонович вздохнул так тяжело, словно пытался вложить в меня частичку многовековой скорби еврейского народа. – Серёжа, будь там крайне осмотрителен… Крайне!
И надо сказать, что его серьёзный тон основательно проник мне в душу, сея в ней определённую тревогу. Пришлось срочно перевести разговор на другую тему.
– Хорошо, хорошо… Буду! Слушай, Виктор, а правда, что Елена Боннэр в горьковской ссылке била академика Сахарова, вынуждая его заниматься антисоветской деятельностью?
– Откуда ты это взял? – удивился Виктор Соломонович, ожидаемо приподнимая вверх брови и напрочь забывая о только что высказанном предостережении.
– В журнале «Человек и закон» прочитал, не помню за какой год… По данным кагэбэшной прослушки, там составлен отчёт…
– Нет, Серёжа! Никакая еврейская жена не станет бить своего мужа! – со значением ответил Виктор Соломонович и, помолчав немного, добавил: – А если будет, то так, что никакая кагэбэшная или даже цээрушная прослушка не услышит!..
Заручившись поддержкой Виктора Соломоновича, я мог спокойно ехать, зная, что защищён авторитетом старосты, словно каменной стеной. Это я, кстати, предложил здесь, в ГИТИСе, выбрать его старостой курса, помня по ЛГИТМиКу его способность быть каменной стеной – Стеной Плача, куда мы могли приносить свои записки с желаниями. И Виктор Соломонович наши желания по мере возможности исполнял, причём подчёркнуто бескорыстно.
Оттого-то в этот раз я решил его на радостях отблагодарить, всучив на время моего отсутствия детективную книженцию «Эффект серебристой пираньи», к которой Виктор Соломонович во время совместных поездок в метро проявлял интерес.
Итак, согласно вновь утверждённому плану, двадцать шестого сентября поезд, следующий из советской республики Украины в уже «чуть менее» советскую республику Литву, подхватил нас с Ростиком в Ленинграде и помчал в Вильнюс на встречу с искусством.
К Прибалтике в СССР было особое отношение – почти Европа!
Звучит красиво, но в то же время как-то двусмысленно – «почти Европа»!
И вскоре мне предстояло понять, что в этой фразе всё-таки являлось главным: «почти» или «Европа»!
Мы болтали с Ростиком, а я, толком не вдаваясь в разговор, всё пялился за окно, силясь увидеть нечто европейское. Точно так же, отслужив срочную службу, возвращался я домой из ГДР через Польшу – и тоже, сидя у вагонного окна, всё ждал какой-то Европы, но ничего особо европейского в польских хуторах и населённых пунктах так и не нашёл.
«Интересно, – размышлял я, – что за земля такая, Литва? Возможно, нечто похожее на Германию?»
Конечно, я не могу сказать, что изучил ГДР вдоль и поперёк – большую часть времени мы проводили за забором в воинской части. Но хорошо помню, как ездили на учения, пересекая практически всю территорию Восточной Германии с севера на юг. И тогда, кроме хороших дорог, мне запомнилась скученность маленьких немецких городков – чистеньких, ухоженных, добротных. Такое ощущение было, что из одного городка выезжаешь, а следующий уже виднеется. Не то что у нас в Сибири: едешь, едешь – и никаких тебе городов или деревень, кругом бескрайние просторы.
Да, Вильнюс оказался действительно похожим на большинство немецких городов, сочетая одновременно и спокойную, основательную современность, и уважительность к средневековым корням.
– Ну, ты знаешь, куда идти? – спросил меня Ростик, озадаченно теребя рыжий чуб.
– Точно так же, как и ты! – ответил я и предложил, напрочь забыв все предостережения Виктора Соломоновича. – Давай просто спросим по-литовски у первого встречного: «Где Эймунтас Някрошюс?» – и вежливые литовцы укажут нам путь!
– Давай всё-таки сами поищем! – предложил осмотрительный Ростик. – Во-первых, мы не знаем, как сказать по-литовски «где», а во-вторых, мы не умеем с тобой отличать вежливых литовцев от невежливых!
– А ты, кстати, про «Марш миллионов» слышал что-нибудь? – проникнувшись настороженностью Ростика, я всё-таки вспомнил Виктора Соломоновича.
– Нет… – буркнул Ростик, видимо, соображая, что делать дальше.
– С месяц назад около двух миллионов жителей трёх прибалтийских республик, взявшись за руки, выстроились цепью от какой-то… не помню, какой башни в Таллине, до башни какого-то Гедиминаса здесь, в Вильнюсе…
– И с какой целью? – поинтересовался Ростик.
– Требовали признать двадцать третье августа «Днем всеобщего протеста народов, лишенных московской империей права на самоопределение».
– Как ты всю эту фигню запоминаешь?.. Память у тебя – нечто! И откуда взялась информация, от армянского радио?
– Нет, от еврейского…
– Ну, тогда это серьёзно! Тогда точно поищем сами…
Поблуждав какое-то время по Старому городу в поисках улицы Арклю, строения номер пять, мы всё-таки обратились за помощью к местному «аборигену».
– Улица Арклю? – ответил парень на чистом русском. – Знаю. Идите прямо… Потом свернёте направо! Увидите небольшое двухэтажное здание с башенками и колокольней – это костёл Всех Святых… В нём сейчас музей… И оттуда либо нужно повернуть на улицу Аушрос Варту, либо идти прямо по улице Базилиону, вы её не спутаете – она мощёная, а потом… Нет, там лучше спросите ещё раз, чтобы… не заблудиться. А какой вам нужен номер дома?
– Пять! – сказал я и для верности показал растопыренную ладонь.
– Пять? – парень призадумался, видимо, мысленно вспоминая искомую улицу, а затем с явным удивлением переспросил: – Пять? Вам действительно нужен дом номер пять? Мне кажется – по этому адресу здание Молодёжного театра…
– Ну да! –вмешался в разговор Ростик. – Нам туда и надо!
– Вы приехали в театр? – продолжал расспрашивать нас встреченный «абориген». – На спектакль? А откуда вы приехали?
– Мы?.. Из Ленинграда!.. Приехали… – уклончиво ответил Ростик.
– Я – из Москвы! – поправил я Ростика и тут же добавил: – А в самом деле – мы с Алтая. Это в Сибири… Город Барнаул…
– Ого! – воскликнул парень с таким восторгом, словно мы прибыли из соседней галактики.
– А чего удивляться? – в свою очередь спросил я. – Някрошюс того стоит!
– Да ещё – его «Дядя Ваня»! – добавил Ростик. – Чехов, он ведь и в Африке Чехов!
– Игорь! – протянул руку парень мне, а потом Ростику. – Я русский… Здесь у меня родители… А я учусь и к ним приезжаю погостить. Давайте я вас лучше провожу, а то… Ну, в общем, провожу!
Я человек внимательный и заметил его акцентирование на – «я русский» и то, как Игорь замялся на фразе: «Лучше я вас провожу, а то…»
Минут через тридцать мы стояли у здания Молодёжного театра, где распрощались с Игорем. Уходя, он с сожалением сказал:
– Боюсь только, ребята, что билеты вы не купите… Вот, я запишу вам телефон – звоните если что…
Я с большим трудом удержался и не сказал Игорю: «Ваше, “если что” – уже наступило», потому как ехали мы на спектакль день в день, наобум и никаких видов на билеты не имели.
Был, правда, у меня некий план. Перед отъёздом одолжил я у своего коллеги и старшего товарища по работе в институте Василия Васильевича Звездича удостоверение члена ВТО (для непосвящённых – Всероссийского театрального общества). Одолжил так, на всякий случай, потому что в Москве мне и студенческого билета ГИТИСа на все походы в театры было достаточно. А тут – Вильнюс. Вот, стало быть, и настал этот самый «всякий случай».
Выкурив, как перед боем, две сигареты подряд, я тихонько постучал в дверь заместителя директора театра и, не дожидаясь ответа, шагнул за порог.
– Здравствуйте! – сказал я не столько из вежливости, сколько обозначая свою языковую принадлежность.
За большим письменным столом сидел мужчина лет сорока-сорока пяти. Он на довольно хорошем русском языке пригласил меня присесть и осведомился о цели визита.
Я представился режиссёром Алтайского краевого театра юного зрителя Звездичем (согласно документу Василия Васильевича). И хорошо помня удивление нашего литовского знакомого Игоря и его реакцию на слова «Сибирь», «Алтай», «Барнаул», я почти слово в слово (не избегая красочных прилагательных и сильных глаголов) пересказал весь дальний и не простой путь к мечте – желанию присутствовать на спектакле великого литовского режиссёра Эймунтаса Някрошюса. Из моего рассказа следовало, что я проделал столь дальний путь к долгожданному событию и только отсутствие билета мешает моей мечте сбыться.
– Билетов и в самом деле нет…. – ответил заместитель директора и, видимо, не желая узреть меня падающим от огорчения в обморок, добавил: – Но контрамарку я вам, конечно же, выпишу! Только… Будьте любезны предъявить ваше удостоверение…
Спина моя от этих слов покрылась липким потом, и я почувствовал себя не на пороге мечты, а на пороге позора и бесславия.
Дело в том, что мы со Звездичем похожи примерно как утюг с чайником. Черты лица, овал лица у нас не совпадали очевидно, а наличие у него бороды и усов делало и без того ощутимую разницу в возрасте – пропастью.
Не знаю отчего, но вместо оправдательных слов: «Извините, я, кажется, выронил удостоверение в поезде» – я почти спокойно ответил:
– Пожалуйста! – и протянул удостоверение Звездича.
Заместитель директора внимательно изучил документ. Посмотрел на меня… В документ… На меня… В документ…
Колосс на глиняных ногах – вот что я представлял собой в тот самый момент, и ноги мои от весьма сомнительного качества глины готовы были подломиться в любую секунду.
«Господи! – думал я. – Ну что он тянет? Пусть уж выгоняет меня, что ли!»
– Извините, Василий Васильевич, – после изнурительной для меня паузы проговорил заместитель директора. – У вас удостоверение просрочено на два месяца. Но это не страшно.
– Не может быть! – чуть не радостно воскликнул я. – Какая оплошность! Приеду – сразу же продлю.
«Вот что значит прибалтийский менталитет!» – подумал я, глядя на заместителя директора, выписывающего мне контрамарку, и, чувствуя, что уже крепко ухватил синюю птицу за хвост, произнёс:
– Со мной ещё товарищ… Тоже из Сибири… Земляк мой… Если можно – контрамарку на двоих!
Заместитель директора подчёркнуто вежливо кашлянул, со скрипом потёр друг о дружку сухие ладошки, но вписал в контрамарке щедрое «на 2 лица».
Выходя из кабинета, я невольно бросил взгляд в угол – на большой шкаф, отполированный до блеска, и с удивлением обнаружил в полировке не своё отражение, а… отражение Звездича.
С замирающим сердцем я шагнул в коридор, затворил за собой дверь и уставился на Ростика, пытаясь понять, видит ли он моё преображение в Звездича или нет?..
Но Ростик смотрел на меня всего лишь вопросительно, и этот вопросительный взгляд стопроцентно касался только билетов на спектакль.
«Ничего себе, – подумал я, пожалуй, даже с некоторым восторгом. – Искусство перевоплощения… Тут бы и Станиславский поверил!»
А вслух с деланным безразличием произнёс, небрежно помахав в воздухе контрамаркой:
– Вот наш пропуск в мир искусства! На два лица…
– С меня коньяк! – резонно отреагировал Ростик.
Очень скоро оба «лица», то есть лицо Ростика и моё, находились в небольшом кафе и явно излучали удовольствие от коньяка, а также от местных ликёров и бальзамов разнообразного алкогольного содержания.
– Помнишь, рюмочную на Моховой? – колотил меня по плечу Ростик, заставляя оборачиваться в нашу сторону немногочисленных посетителей кафе. – Вот где сервис без всяких дурацких изысков! Водочка, пирожки с ливером, с капустой, с рисом… А главное, атмосфера ни с чем не сравнимая!
– Что есть, то есть! – отвечал я. – Там все свои, все равные. Пришёл человек хоть с рублём, хоть с полным кошельком – разницы никакой нет, как в церкви. Взял рюмочку, пирожок, откушал… И вроде как причастился… И благостно всем.
Мы попросили ещё два по сто рижского бальзама.
– Это Ленинград такой! – опрокинув в себя бальзам, продолжил Ростик. – Он особенный город… Потому и блокаду выстоял!
– Да!.. Ленинград особенный… И не то чтобы там – колыбель революции, да и только, а… Многомерный город!.. Я, помню, шёл как-то раз на занятия… Иду с Литейного по проходным дворам и на Моховой попадаю в другое время – машины допотопные, барышни, красноармейцы, матросики революционные ходят, как будто так и надо. Оказалось – съёмки фильма «Собачье сердце»…
– Вещь! Как там у Булгакова? «Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах!» Я гляжу – у некоторых публичных персон в голове такой клозет…
– Что есть, то есть! Давай ещё по сто и на выход!
– Давай! По сто пятьдесят…
Потом мы прогулялись по продуктовым магазинам Вильнюса, приятно удивившим нас с Ростиком наличием сгущённого молока, коего мы по баночке тут же приобрели.
После магазинов – просто прогулялись по историческим улицам Вильнюса, сосредоточенным на довольно небольшой территории в самом центре города. Добрались и до башни Гедиминаса, правда, близко подходить не стали, посмотрели издалека, пытаясь определить, что это за трёхцветный флаг развевается на башне.
И в урочный час, прикупив дюжину бутылочного пива и кило копчёной скумбрии для предстоящей ночи ожидания на железнодорожном вокзале утреннего поезда Вильнюс – Львов, прибыли в театр, слегка смутив гардеробщиц и рыбным запахом, и стекольным позвякиванием ручной клади, сдаваемой на хранение вместе с куртками.
А взамен наших вещей получили от гардеробщиц номерки и наушники для подключения к сети синхронного перевода как зрители, не владеющие литовским языком. Чехова здесь играли на литовском.
Наушники я брать не хотел – пьесу «Дядя Ваня» помнил почти наизусть, но Ростик уговорил.
– Важно не выпадать из текста, особенно в эмоциональных кусках! Это же не Вася Пупкин, а Някрошюс! Он – режиссёр, он мог текст сократить или, наоборот, добавить, поменять сцены местами и так далее…
Я с Ростиком согласился и наушники взял.
Дождавшись, когда в зале начал гаснуть свет, мы сели на незанятые места – Ростик на двенадцатый ряд в середине, а я на пятнадцатый, ближе к краю.
«Ну, сейчас начнётся нечто!» – только и успел подумать я, торопливо усаживаясь в кресло, извиняясь перед потревоженными соседями по ряду и высматривая гнездо для подключения наушников.