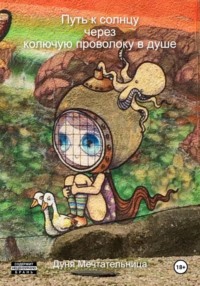Полная версия
Мы все неидеальны. Других людей на эту планету просто не завезли!
Решил отец, что в качестве последнего средства нужно ей с работы уйти, а как уйти, если всем положено работать? Да очень просто – ребенка родить, вот тебе и официальный повод не работать! Предложил, Машенька согласилась, только сначала обещанием его заручилась, что с ребенком он ей во всем-во всем помогать будет, чтобы не получилось, что ребенка растить хуже и тяжелее, чем на работу каждый день ездить. Так я на свет и появился.
Глава 19.
Только еще до того, как я родился, маменька моя уже меня невзлюбила. Сначала ей беременной быть не нравилось, самочувствие плохое, фигура изменилась, ну, и все такое, а ближе к родам начались истерики другого рода – боюсь, мол, рожать, боли невыносимой боюсь, или хуже того, боюсь, что умру. В общем, к моменту родов она постоянно только и говорила, как она и отца, ребенка этого ужасного ей заделавшего, и самого этого ребенка ненавидит! Что погубят они ее, вот как пить дать, погубят. Отец все терпел, успокаивал, уговаривал, умасливал, а про себя думал, что родится ребенок, и Машенька успокоится, проснется в ней материнский инстинкт, она малышом и утешится. И так почти все девять месяцев.
Ребенок родился, нормально родился, мать ни от боли невыносимой ни от чего другого, конечно же, не загнулась. Вот только никакого материнского инстинкта в ней не проснулось, и ненависти не убавилось, объявила она, что от ребенка отказывается, не нужен он ей. Отец ее умолял, уговаривал, на коленях стоял, она ни в какую. Требовала от него: «Я отказываюсь, и ты, если любишь меня, откажись, не нужен нам этот ребенок, пусть государство воспитывает! А не откажешься, я от тебя уйду, и квартиру назад разменяю, ни дня с этим молокососом под одной крышей жить не стану!». Отец не отказался, забрал меня, и даже врачей уговорил отказ матери не оформлять, сказал: «Ребенка я все-равно забираю, сам о нем позабочусь, помощь государства не требуется, а жена одумается, это у нее сейчас просто истерика, одумается и жалеть будет. Не надо ее отказ оформлять». К ситуации сложившейся врачи отнеслись с пониманием, к отцу-милиционеру с уважением, в общем, не стали ничего оформлять.
Приехали мы все домой, да-да, и мать приехала, квартира то одна, куда же ей еще идти. Отец все еще верил, что все наладится – не наладилось, мать ко мне даже ни разу не подошла, на руки не взяла, едва плач заслышав, уходила в другую комнату, со всей силы шваркнув закрываемой за собой дверью об косяк. И отца к себе не подпускала, так и жили, как соседи в коммуналке.
У отца отпуск закончился, он его на работе брал, чтобы жену с сыном из роддома забрать и помочь по первости, надо было на работу выходить, а с кем меня оставишь? Пришлось к той самой соседке обратиться. Тогда няню официально было не нанять, а так соседка, вроде просто по доброте душевной, за малюткой присматривает, какие к кому претензии? Делала соседка это конечно вовсе не по доброте душевной, отец теперь ей, а не Машеньке почти всю зарплату отдавал, но и Машеньку не забывал, она работать не пошла, дома сидела, а есть то что-то надо. Не мог он ее голодной оставить, считал, что не по-мужски это, ответственным себя за нее считал, несмотря на все ее закидоны, да и любил по-прежнему, хотя ни сам себе никому другому в этом уже не сознавался. В общем, первые полтора года моей жизни мы еле-еле концы с концами сводили, потом отец меня в ясли определил, стало полегче, помощь соседки уже не круглый день требовалась, вот и платить ей отец стал поменьше.
Мать все это время жила рядом, но как бы сама по себе. Квартиру разменивать не стала, зудела только беспрерывно, что если бы отец нормальным мужиком был, он бы сам съехал, и ей квартиру бабушкину оставил (о том, что квартира эта вовсе не ее бабушки, а выменяна отцом из двух – ее и своей, и съезжать отцу, да еще и с ребенком, соответственно, совершенно некуда, она предпочитала не вспоминать), он молчал, терпел, ничего не отвечал. Потом она вообще смерти ему желать стала, вот, мол, если бы ты на службе своей погиб, то как бы мне хорошо было – и квартира свободная, и почести мне, как жене погибшего сотрудника, и от ребенка этого противного я бы сразу отделалась. Отец терпел, терпел пока мне три не исполнилось и не начал я кое-что понимать и вопросы задавать по поводу материнского ко мне отношения. В этот момент отец понял, что, и правда, нужно размениваться да разъезжаться, иначе она мне психику совершенно сломает своей необъяснимой ненавистью. Только собрался с матерью об этом поговорить, а она вдруг возьми, да исчезни. Только записку на столе оставила: «Не ищи, к тебе не вернусь, я свое счастье в другом месте нашла.».
Отец не послушал, нашел, убедился, что она в Ленинграде с другим мужчиной живет, в целом, неплохо живет, не обижает он его Машеньку. Ну, и не стал ничего предпринимать, решил, что раз ей так надо, раз в этом ее счастье, пусть будет счастлива. Кстати, так до самой гибели своей с ней официально и не развелся, она потом выплаты от государства получала, как вдова погибшего при исполнении сотрудника милиции.
Следующие почти девять лет спокойно прошли, я рос, отец меня любил и воспитывал, работал, в МУРе пользовался большим уважением, довольно регулярно получал повышение. Женщин в дом не приводил, вообще не приводил, может меня тревожить не хотел, может и не было их у него, очень уж мать, как я думаю, его сумела своим поведением от женщин «привить». А в тот год, когда мне двенадцать должно было исполниться, уехал я на лето под Анапу в спортивный лагерь для детей работников милиции, самбо должен был там заниматься, к соревнованиям готовиться, с отцом на перроне обнялись, попрощались, больше я живым его уже и не увидел.».
Максим вздохнул, дух перевел и продолжил.
«Обстоятельства его гибели и передачи меня в детдом я только много позже узнал, когда уже после Афгана мне друзья отца на работу в МУР помогали устраиваться, тогда они все мне и рассказали, а тем летом – отец погиб 24 июня, как раз первая смена в лагере к концу подходила. Домой после первой смены я не собирался, меня отец сразу на все три смены в лагерь записал, так тогда не положено было, но ему на встречу пошли, знали, что он меня один воспитывает. Ждал только, что отец меня в июле на день рождения навестит, он обещал, все-таки двенадцать лет должно было исполниться.
Так вот, когда 24 июня меня на КПП лагеря отправили и сказали, что меня там один из друзей отца дожидается, я очень удивился. Подхожу, стоит Вадим Павлович, действительно, начальник и один из ближайших друзей отца, смотрит на меня как-то странно. Я к нему, обрадовался, даже обнял, а он мне глухим, каким-то неживым даже голосом: «Максим, отца твоего больше нет. Погиб, геройски погиб. Я за тобой, на похороны повезу, попрощаешься. Собирайся, у нас самолет через четыре часа.».
Я смотрю на него и не понимаю, что он говорит, как это нет отца. Не может такого быть! Не поверил, решил, что они с отцом меня так разыгрывают, хотят между сменами забрать на пару дней, наверное, отец уже знает, что на день рождения навестить меня в лагере не сможет, вот так и компенсирует. Я тогда еще не понимал что такое смерть, знать-знал, но не понимал, и того, что смертью никогда не шутят тоже не понимал! Побежал собираться, а внутри радость, я на самолете никогда раньше не летал, отец знал, что это моя мечта, вот, думаю, наверное, этот полет и есть мой подарок на день рождения. Весь полет сидел и наслаждался, даже на необыкновенную молчаливость Вадим Палыча внимания не обращал.
Прилетели в Москву уже почти ночью, поехали почему-то не к нам домой, а к Вадим Палычу, там меня жена его встречает, глаза прячет, быстро покормила и спать. Я уже начал понимать, что на розыгрыш непохоже, но в смерть отца все-равно еще не верил. Поверил только на следующий день, уже на похоронах, когда в гробу его увидел. Так ошалел от этого осознания, что даже плакать не мог, просто стоял все прощание и в землю смотрел, мне кажется, даже не думал ни о чем, просто землю рассматривал.
На поминки меня не взяли, жена Вадим Палыча домой к ним увезла. Я, как в квартиру зашел, сразу в комнату ушел, где ночевал до этого, на кровать лег и в стену уставился, лежал, опять ни о чем не думал, просто бесконечно рисунок на обоях рассматривал. Вадим Палыч с женой заходили пару раз, есть звали, но я не откликался, они настаивать не стали, ушли. На следующее утро меня совсем рано разбудили, повезли в аэропорт, на самолете в лагерь возвращаться.
Вот в самолете меня и накрыло, я как вспомнил, что всю дорогу в Москву летел и радовался, дурак, а отец уже мертвый был, а я ведь знал, а все-равно радовался, я себя буквально проклял, решил, что предал я отца своей радостью. В общем, в лагерь меня Вадим Павлович уже совсем смурного привез, я ни говорить ни с кем не хотел, ни смотреть ни на кого не мог, с ним даже не попрощался, решил, что такому распоследнему предателю, как я, на земле вообще не место, не должны нормальные люди со мной разговаривать, а я с ними.
Спасла меня вечерняя тренировка, вернее тренер. Мы из Москвы вылетели совсем ранним рейсом, около четырех часов дня уже в лагере были, Вадим Павлович меня на КПП привел, вожатой передал и уехал. Вожатая молоденькая совсем, посмотрела на меня, поняла, видимо, мое состояние, но что делать не знала, вот и решила просто на вечернюю тренировку отвести, которая как раз в это время начиналась, перепоручить меня чьим-нибудь заботам, чтобы самой за меня не отвечать.
Привела, оставила, парни другие выстроились, началась тренировка, а я стою и в пол смотрю, молчу, мат на полу рассматриваю. Так и простоял до конца тренировки, тренер меня не звал, не трогал.
Тренировка закончилась, ребята стали уходить, я за ними, тут тренер меня и окликнул: «Максим, а ты куда? Ты всю тренировку отлынивал, ничего не делал, так не положено. Будешь сейчас со мной индивидуально заниматься.». Я обернулся, посмотрел на него и прорвало меня, я его почему-то в этот момент возненавидел, реально решил, что это он во всех моих бедах виноват, ну и бросился. Бросился с ненавистью, с иступлением, сразу в драку, забыл в тот момент, что самбо у нас спортивное, перед поединком нужно ритуал определенный соблюдать, приветствовать, так сказать, противника.
Тренер меня останавливать не стал, принял бой, ну, как принял, я бросался, он уклонялся или блокировал, потом аккуратно так меня отбрасывал (это я потом понял, что аккуратно, тогда в голове туман был, казалось, что он взаправду со мной бьется, по-настоящему, не на жизнь, а насмерть), я вскакивал и опять в атаку на него шел. Сколько тот бой длился я не знаю, думаю, что долго. Тренер не отступил, пока меня совсем не измотал, а когда понял, что я сдуваюсь, проигравшим себя почувствовать не дал, сам бой остановил, сказал: «Молодец, Макс, отработал пропущенную тренировку, качественно отработал.».
Я остановился, и понял, что ноги меня почти уже не держат, устал я дико, да и ел последний раз утром еще в Москве дома у Вадим Палыча. Сел на мат дух перевести, да и отрубился, так и проспал до утра в зале, и тренер со мной всю ночь там же провел, не стал одного оставлять.
Утром я понял, что меня отпустило. Ненависти к себе уже не было, только грусть по отцу осталась. Тренер меня водой холодной из ведра облил, отправил умыться и переодеться, потом на завтрак. Дальше уже до самого конца августа была обычная лагерная жизнь.».
Максим остановился, посмотрел на близких, все как будто притихли, только Лизавета откровенно ревела, ревела молча, просто слезы по лицу текли, а ни звука не было.
«Да ладно тебе, Лиза, ты чего? Это же все в прошлом давно уже!» – смутился, увидев ее реакцию, Максим.
Старшина только тут обратил внимание, что Лизавета плачет, потрепал ее по руке, успокаивая, а Максим, желая, видимо, поскорее отвлечь внимание, от этой части своего рассказа (он не любил, когда его жалели, никогда старался повода для жалости не давать, а тут на тебе), продолжил: «Для полноты картины осталось только рассказать как я в детдоме оказался.
Глава 20.
Как мне потом друзья отца рассказали, он все почти девять лет, что мать отдельно жила, не терял ее из виду, присматривал, так сказать, чтобы чего плохого не случилось. За это время она трех мужчин сменила и три дислокации, ни один ее высоким стандартам не удовлетворял, не мог ей уровень жизни, сопоставимый в дедом-большим чиновником, обеспечить.
Первый, к которому она в Ленинград переехала, квартиру имел в самом центре профессорскую, где еще с бабушками-дедушками и родителями жил, но сам, по ее меркам, ничего из себя не представлял – ни положения в обществе у него не было, ни зарплаты, позволяющей жить-не тужить. Машенька с ним дольше всех остальных продержалась, почитай целых пять лет.
Потом в Нижний Новгород (тогда Горький) сбежала, к режиссеру местного любительского театра при крупном комбинате, даже стала с этом самом театре играть, но видно таланта у нее особого не было, не зря, в свое время, в театральный институт не взяли, успеха у зрителей она не имела, а в остальном с того режиссера толку ноль, как с козла молока.
Через год уехала в Сочи, причем не к очередному мужчине, решила сама по себе жить. На что, спрашивается? Оказалось, есть на что, дед ее не дурак был, понимал, что супруга и внучка без него пропадут, оставил заначку, да не маленькую. Ни мой отец, ни ленинградский профессорский сынок, ни горьковский режиссер ничего об этой заначке не знали. Бабушка Машенькина, пока жива была, ее очень аккуратно тратила, у того поколения вообще привычка была все на черный день откладывать, не тратить понапрасну. Сама Машенька, после смерти бабушки, позволяла себе траты немного побольше, но так, чтобы незаметно было, во-первых, не хотела объяснять откуда деньги, если муж-сожители дополнительные траты заметят, да и делиться с ними не хотела, это были ее деньги, и только ее, а во-вторых, считала, что эти самые муж-сожители должны сами ее обеспечивать, а если узнают, что у нее деньги есть, расслабятся, зачем чего-то добиваться, если и так все в ажуре, денег дедовых ей до конца дней хватит?
Вот с остатками этой заначки и подалась она в Сочи, одна пробыла недолго, прибилась к местному красавчику, он в ресторанах пел, на гитаре играл, и чуб имел казацкий, в общем, не смогла она устоять перед такой красотой, влюбилась, похоже, первый раз в жизни. Только денег у этого ее кавалера никогда не было, зарабатывал от случая к случаю, а тратил регулярно и помногу, жить любил «на широкую ногу», как тогда говорили. Вот ему то она о своей заначке и рассказала.
Только проблемка была – заначку дед оставил часть в рублях, а часть в валюте (для него, видимо, покупка долларов особой проблемой не была, хоть и запрещено это тогда было категорически, и не только запрещено, но и уголовно наказуемо, вот дед, похоже и решил, что рубли могут еще раз обнулить (он аккурат в момент денежной реформы 1961 года умер), а доллары всегда можно будет найти у кого обменять), так вот рублевая часть к тому моменту уже вся и растратилась, нужно было доллары продавать, а знакомств и связей необходимых у Машеньки и не было.
Сочинский красавчик проблемку решил мигом, разных знакомств и связей у него было предостаточно, только валютчиков он не в Сочи нашел, а в Грузии, в Кутаиси. Отправились Машенька с красавчиком в Кутаиси.
Вот тогда-то основная трагедия и разыгралась. Каким образом Машенька узнала, что красавчик ее в Кутаиси на заклание везет точно никому неизвестно, просто подслушала, скорее всего, или заподозрила что-то, когда поехали они не морем напрямую, а через Тбилиси (красавчик ей, вроде, сказал, что сначала в Тбилиси нужно будет кое с кем переговорить, кто уже в Кутаиси все организует), только из Тбилиси позвонила она отцу моему, спасай, мол, погибель моя пришла.
Он и рванул. Как он ее в Тбилиси нашел и даже смог вытащить и на самолет до Москвы посадить, никто не знает. Она улетела, а он остался, решил деньги дедовы, которые у нее к тому моменту, конечно же, уже отобрали, забрать и ей вернуть. В местную милицию обращаться не стал, не мог просто, не говорить же им, что его жена в незаконной валютной операции участвовала, и ее обокрали, посадят тогда Машеньку, и деньги, даже если найдут, изымут. Попытался сам все порешать, нашел красавчика, заставил его рассказать у кого из воротил Машенькины деньги осели, отправился туда, там его и порешили.
Позже, когда друзья отца, совместно с тбилисской милицией, и воротилу того, что деньги забрал, и прислужников его, которые отца порешили, нашли и арестовали, арестованные «за голову хватались», что такая ошибка вышла – милиционера убивать они бы не стали, за это тогда очень сурово наказывали, все, как один, говорили на допросах, мол, мы же не знали, что он милиционер из Москвы, в МУРе служит, решили, что просто мужик какой-то из Москвы приперся за бабу свою заступаться, вот и разобрались с ним радикально, не долго думая, чтобы другим неповадно было на нашу территорию соваться.
Когда дело раскрыли и всех арестовали, перед друзьями отца еще одна проблема встала – роль Машеньки в этом деле – если ее арестовать, да еще и за валютные махинации, то это на моей будущей жизни очень негативно могло отразиться, отказ то от родительских прав, как я раньше говорил, отец ей, в свое время, не дал оформить, вот и получалось, что будет у меня во всех характеристиках информация, что мать осуждена за валютные махинации, а это мне бы сразу путь не то что в милицию, в любое приличное место тогда бы закрыло. Да и память о моем отце осквернять этой историей они не хотели.
Пришлось им и с МУРовским начальством и с местной милицией как-то договариваться, по документам получилось, что это была милицейская комбинация по выявлению и поимке банды валютчиков, отцом моим организованная, где мать моя изначально была задействована в качестве «подсадной утки». Вадиму Павловичу пришлось на себя весь удар принять, ему тогда крепко досталось – мало того, что подчиненный его (отец мой, стало быть) операцию организовал несанкционированную и сам в ходе нее погиб, так он еще и жизнь гражданского лица (матери моей) под угрозу поставил, но Вадим Павлович все вытерпел, он с отцом много лет дружил, уважал его безмерно и всю ситуацию сложившуюся понимал.
Только когда ситуация с ролью матери в этой драме разрешилась, друзья отца решили меня и от будущих ее неминуемых «косяков», как сейчас говорят, сразу защитить, настояли, чтобы она отказ от родительских прав оформила. Решили, что в детдоме мне и то лучше будет, чем с такой мамашей, и не ошиблись.».
Глава 21.
Максим замолчал, а Тамара Сергеевна продолжила: «Так вот, в тот день, когда Максим в школе за Славку моего вступился и с Юркиной сворой подрался, я в детдоме ночевать осталась. Как я уже говорила, боялась я за Максима, ожидала ночью больших неприятностей.
Наступила ночь, час примерно после отбоя прошел, и прибегает ко мне дежурный воспитатель: «Началось, похоже, Тамара Сергеевна, зашевелились.» – говорит (а я еще с вечера всех предупредила почему ночевать в детдоме остаюсь, и чего мы все ждем, вот и были все начеку).
Я побежала, воспитатель за мной, по пути сторожу ночному рукой махнула, он к нам присоединился. К спальне мальчиков подхожу, дверь приоткрыта, воспитатель ее специально чуть приоткрытой оставила, еще когда вечерний обход делала, отбой проверяла, за дверью голоса, довольно громкие, но не агрессивные, я удивилась, остановилась, прислушиваюсь. Воспитатель со сторожем тоже замерли у меня за спиной.
«Новенький, тебя как звать? Училка представляла, да я не запомнил.» – это Юрки Булавина голос.
«Максим, можно Макс, а тебя? И остальных?» – Максим в ответ.
«Я Юрка, можно Юрка!», здесь раздался смешок, «он – Петюня, а это Генка и Мишка. Остальные так, ко мне отношения не имеют, просто здесь живут, пока я позволяю, потом познакомишься.».
«А ты что, здесь главный?».
«А то! Самый главный и есть, и не только здесь, а во всем детдоме! Меня даже старшие слушаются.».
«Понятно.» – это «понятно» Максим как-то так произнес, с растяжкой как бы, что сразу стало ясно, что с Юркиным главенством он соглашаться не собирается, во всяком случае, с главенством над собой.
«А ты че, не согласен?» – сразу полез в атаку и набычился Юрка.
«Главным должен быть тот, кто самый справедливый. Я что-то сегодня в школе не заметил в тебе справедливости, к пацану тому вы не по делу придрались, потом накинулись всем скопом на него одного, разве так по справедливости поступают?».
«Да он слабак, Славка этот! Славка – козявка, недоразумение, а не пацан!» – запальчиво отреагировал Юра.
«Ну, я то не слабак.» – спокойно, но с явным нажимом произнес Максим.
«Слушай, а где ты так драться научился?» – вдруг вмешался в разговор Генкин голос.
«И правда, где? Дерешься ты классно!» – не стал возражать Юрка.
«В секции по самбо, а еще меня отец учил, он у меня в МУРе служил, самых лютых преступников ловил, только погиб этим летом, геройски погиб.» – последние слова Максим произнес хоть и со вздохом, но с явной гордостью.
«Так уж и геройски?» – не поверил Юра.
«Геройски!» – уверенно ответил Максим, «У меня про него целая подборка статей есть из Милицейской правды, потом покажу.».
«А меня научишь так драться?» – спросил Юрка.
«Драться – не научу, драка – это для несправедливости, а бою рукопашному – могу попробовать, что сам знаю. В спортивном бое все по справедливости.» – ответил Максим. «А еще лучше, я завтра отцовским друзьям позвоню, они разрешили звонить, если что, спрошу, может, кто из них заедет как-нибудь с нами позанимается, они то настоящие профи, это я начинающий.».
«Да, здорово будет! Ладно разбегаемся, спать пора, завтра ни свет ни заря (так директриса наша новая говорит, вот же дурацкое выражение, а привязалось) в школу поднимут, у нас с этим строго!» – произнес Юрка.
Мальчишки разбрелись по кроватям, мы с воспитателем и сторожем постояли еще немного перед входом в их спальню, да и пошли по своим местам, ясно было, что пацаны сами между собой мирно разобрались, наше вмешательство не требуется.
С того дня Максим с Юркой стали неразлучны, первенства один другому не уступал, соперничали все время и буквально во всем, но дружили при этом крепко. Петька, Генка и Мишка, раньше составлявшие Юркину стаю, были за периметром этой дружбы, первое время они еще, по привычке, бегали за Юркой хвостом, но он только от них отмахивался, как от блох надоедливых, потом сами поняли, что рядом с Юркой им больше не место и отстали.
Но самое удивительное для меня было в другом – третьим, и совершенно полноправным, участником в этой дружбе очень скоро стал мой Слава, уж не знаю, как так получилось, но буквально к концу сентября пацаны все время проводили только втроем. В школе – это понятно, но и после школы Слава шел с ними в детдом, и был там до вечера, пока я его чуть ли пинками домой не загоняла. И все выходные, и праздники, и каникулы Слава проводил только в детдоме. Уговорить его уехать со мной в отпуск без пацанов было решительно невозможно.».
«Да очень просто получилось,» – вмешался Максим, которому, судя по улыбке, эта часть повествования Тамары Сергеевны, в отличие от рассказа о его собственной семье, доставляла явное удовольствие, «Славка же уже тогда умный был до невозможности! Умный и начитанный! Да и трусом он никогда не был, просто справиться с несколькими противниками не мог! Отличный был пацан, одним словом, как было не подружиться!
А подружились мы так: я тогда, как водится, героем хотел стать, как отец. Рассказал об этом Юрке, тетрадку свою с вклеенными вырезками статей из Милицейской правды, в которых про отца и его друзей писали, ему показал. Вырезок этих было довольно много, только отец нигде не упоминался, просто «один из сотрудников МУРа» (фамилии оперативников не указывали, уже тогда понимали, что нельзя их преступникам засвечивать), но Юрка проникся и сразу сказал, что тоже станет героем.
«Только вот, чтобы в милиции служить, учиться, наверное, нужно хорошо, а у меня с этим проблемы, уже не наверстаю.» – вздохнул он.
«Так героем не только в милиции можно стать!» – заявил вдруг стоявший на некотором расстоянии Славка. «На войне героями часто становились люди практически без образования, семилетка, в лучшем случае, а у тех, кто постарше, вообще – три класса церковно-приходской школы.».
«Так то на войне! Войны то больше не будет!» – с некоторым сожалением ответил Юрка.
«Да не только на войне!» – воскликнул Славка, «Герои – это те, кто людей спасает, врачом ты, конечно, с такой учебой уже вряд ли станешь, а вот пожарным, например, вполне можешь или пограничником, границу Родины с оружием охранять – это разве не геройство?».
«Да, границу охранять – это здорово, мне подходит.» – моментально отреагировал на такую неожиданную подсказку Юрка.
«А еще герои всегда там, где приключения! Я обожаю фильмы про приключения! Мы с отцом в кинотеатре их буквально все посмотрели.» – добавил я.
«А я ни одного не видел, не был я ни разу в кинотеатре,» – с явным сожалением и некоторой завистью в голосе произнес Юрка, «а теперь уже и не увижу, они, поди, закончились все давно!».