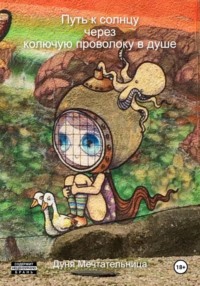Полная версия
Мы все неидеальны. Других людей на эту планету просто не завезли!
Так первое время и перебивался, не на вокзале, конечно, а то у Славы с Тамарой Сергеевной, то у Старшины с Лизаветой ночевал, то в общаге у Ланки, где они с Юркой до того, как квартиру его отбили, обитали. А потом вместе с Ланкой и с Юркой к нему и переехал, они в одной комнате, я в другой.
Так и жили все годы, поначалу втроем, в 90-м у меня …» – здесь Максим сделал странную паузу, как будто слово подходящее подыскивал, «мамзель появилась, с нами, со мной в смысле, поселилась.».
«Не мамзель, а ТВАРЬ!» – неожиданно и весьма эмоционально вдруг отреагировала Лизавета.
«Ну, что она тварь мы много позже поняли, да и не в связи с этой историей, не будем сейчас ее обсуждать, это к делу не относится, здесь пусть будет «мамзелью.» – осадил ее Максим.
«Так вот, с 90-го года жили мы уже вчетвером, а в 92-м ты появился.» – продолжил он, «Жили чисто коммуной: все заработки мои и Юркины в общий котел, все траты из него же, денег то все-равно только на еду, да самое-самое необходимое хватало.
Ланкины заработки в ларьке, где она работала до твоего появления, и доходы мамзели моей, которая с конца 92-го года тоже работать начала, правда, не учитывали и не объединяли, мы же не альфонсы на заработки баб жить, это им оставалось, что называется, «на булавки».
Никогда ничего не делили, друг от друга не прятали. Стоит сумка в прихожей или кошелек лежит, кому очень надо, залезет без зазрения совести, возьмет пару купюр, в следующий раз назад положит, когда деньги появится. Никого никогда это не напрягало.
А тут, вскоре после Ланкиного возвращения с лечения, влетает моя мамзель на кухню, где мы с Юркой сидим после работы, ужинаем, красная вся, чуть не плачет. Спрашиваем что случилось, а она нам в ответ: «Совесть у вас есть? Ладно зарплату мою всю подчистую, которую я вчера получила, прямо тут же из сумки вытащили, здесь я не в претензии, все на всех всегда делим, без обид, как говорится, но вы бы хоть на заправку мне деньги оставили, знаете же, что машину заправлять – это моя обязанность!».
У нас тогда машина одна на всех была, вернее, машина то была Лизаветиной тетки, от мужа ей покойного в наследство осталась, довольно приличная, по тем временам, Волга, тетка пожилая, понятно, машину эту не водила, а я, Юрка и Старшина все свободное время на ней таксовали, лишнюю копейку на жизнь зарабатывали единственным доступным тогда способом.
А когда мамзель моя появилась, выяснилось, что она чуть ли не с пеленок машину водить мечтает, вот прямо как ты сейчас, Никит, попросила меня научить, ну, я и научил, она потом даже на права сдала. Права то она получила, но ездить ей на машине было совершенно некуда, таксовать я ей, понятно, не позволял, тогда время такое стремное было, сами то все время настороже были при этом занятии, хоть и здоровые тренированные мужики, чтобы по башке не дали, заработок не отобрали и машину не угнали, куда уж тут девчонке таксовать.
Вот и придумала она, что будет ездить машину заправлять и от нас к Старшине и обратно перегонять, мы то с Юркой рядом жили, а Старшина в другом месте, вот и получалось, что один таксовать закончил, на работу или спать побежал, а машина другому нужна, чтобы на ней зарабатывать отправиться, не могли мы себе тогда позволить, чтобы машина даже короткое время простаивала, деньги всем уж очень нужны были. Вот мамзель и взяла на себя эту функцию – у одного машину забирает, другому перегоняет, а по дороге заправляет, и ей в радость, уж больно порулить хочется, и нам облегчение.
«Я сегодня на заправку приезжаю, на новую по импортному образцу, которая только появилась, на ней оплата после заправки, я же не думала, что у меня вообще все из кошелька выгребли, заправилась, пошла к кассе расплачиваться, кошелек открываю, а он пустой, даже мелочи, и той не осталось. Так мне стыдно было, на меня кассирши орать начали, правы они – нет денег, нечего заправляться! Я растерялась, бензин то обратно в колонку не сольешь. В общем, оставила машину на заправке, сама сюда поехала, теперь езжайте расплачивайтесь, разбирайтесь, как вам ее забирать!».
Мы с Юркой, не сговариваясь, в один голос: «Я не брал!», и смотрим друг на друга. «Мамзель,» – говорю, «может, у тебя деньги просто украли, с чего ты решила, что это мы?». А она в ответ: «Ага, воры кошелек из сумки достали, деньги вытащили, а кошелек обратно вернули, не поленились! Макс, ты же опер, сам понимаешь, что это бред. Кроме как дома, так взять было негде и некому!».
Согласились мы с ней, я поехал, машину забрал, а Юрка сказал, что с Ланкой вечером поговорит, по всему выходило, что это она все деньги выгребла, про бензин не подумала, только непонятно на что ей с ходу вся мамзелина зарплата понадобилась, мы тогда на такие деньги все вместе неделю жили.
Но Ланка в отказ ушла, категорически заявила, что ничего не брала. Мы поначалу поверили, решили, что у мамзели деньги на работе вытащили, вот там то как раз могли именно деньги из кошелька в день зарплаты забрать, а кошелек назад положить, чтобы сразу не хватилась. Мамзель тоже поверила, удивилась, правда, что никто больше в офисе на пропажу денег не жаловался, получалось, только в ее сумке поживились, ну, да так бывает.
А потом деньги стали пропадать регулярно и уже у всех, и у Юрки, и у меня, и у мамзели, ни сумку ни кошелек уже в прихожей без присмотра нельзя было оставить. Стали мы их в комнаты уносить, да только скоро заметили, что и там все выгребает вор невидимый, не стесняется, что в нашей с мамзелью спальне, что в Юркиной. Понятно стало, что это Ланка, больше некому.
Юрка ее поприжал, заставил сознаться, да и выяснил, что она на игле плотно сидит еще со времен лечения в вендиспансере. Якобы испугалась тогда страшно, что болезнь неизлечимая, хотела расслабиться, от страха избавиться. Встретилась с клиентом, который ее этой болезнью и заразил, хотела ему предъяву кинуть, он ей и дал наркотики попробовать, сказал, что отпускает с них сразу, никаких переживаний не останется, не о чем и незачем станет ему предъявлять. Подсела сразу, прямо с первого раза, без дозы уже не могла.
Юрка пытался бороться, в наркодиспансер ее отвез, сбежала, там тогда контроля за больными практически никакого не было, немудрено было сбежать, дозу нашла в каком-то притоне, там и укололась.
Юрка нашел, забрал, привез домой, наручниками к батарее приковал, чтобы опять не сбежала, а тебя, Никита, оттуда увез, чтобы ты этого не видел. Два дня держалась, плакала, каялась, клялась завязать. Через два дня, когда все на работе были, стала орать, ломка ее не отпускала, соседи услышали, вызвали милицию. Милиция ее от батареи и отцепила, еще и Юрке на работу представление написали об издевательствах над сожительницей, он потом долго объяснялся.
Ланка опять в притон, опять дозу. Дальше ее было уже не остановить, года не прошло, 95-м так и умерла в одном из притонов, даже не от передоза, просто «скололась», сердце не выдержало.».
Максим замолчал, взял со стола бутылку, молча разлил: «Помянем Ланку, пусть земля ей будет пухом!». Все выпили не чокаясь.
Глава 25.
«А дальше?» – спросил Никита после паузы, «Дальше, как жили?».
«Да дальше ты, вроде, знаешь все, мы же про то, что с отцом твоим произошло, рассказывали тебе раньше, не скрывали.» – немного удивленно произнес Максим.
«Давай я дальше расскажу,» – вмешался Слава, «мне кажется, я понимаю, чего он хочет.
Итак, вернемся немного назад, в 1985 год, когда батя твой с Максом и Старшиной только из Афгана дембельнулись. Как мы тебе уже рассказали, приехали они очень в разном настроении и с разным бэк-граундом, как сейчас говорят.
Юрка весел, жизнью доволен, с Ланкой милуется, особо вопросами будущего не заморачивается, сначала хотел пожарным устроиться, да не взяли – он у тебя высокий очень был, почти под 2 метра, высокий и очень худой, вернее, не худой, а жилистый, а тогда ограничения по росту были у пожарных, связанные с габаритами пожарных машин. Не взяли и не взяли, он и не особо расстроился, недолго думая, пошел работать в трамвайный парк по ПТУшной своей специальности.
Старшина тоже в нормальном настроении, во-первых, счастлив, что с военной службы «соскочить» удалось, он же в Афгане не срочную служил, а попал туда после военного училища, ему, как кадровому военному, демобилизовываться было не положено, не отслужил он еще свое, да вот как-то договорился и дембельнулся, не знаю как, сам потом тебе расскажет, если захочешь. Во-вторых, благодаря Лизавете и теткам ее, в Москве остался, домой в деревню ехать не пришлось. Устроился таксистом, работает, тоже живет, не тужит.
Я третий курс Юрфака оканчиваю, со следующего учебного года мне уже специализацию выбирать, да сомнений у меня в выборе никаких нет, мне уже совершенно понятно, что в следствии мое будущее. Девчонок на курсе немного, тогда на Юрфаке парней процентов шестьдесят-семьдесят от набора было, не то, что сейчас, почти что «женский» факультет стал, но мне хватает, то с одной погуляю, то с другой!
А вот Макс смурной какой-то все время ходит, не отпускает его Афган.
Не злись, Макс, знаю, что не нравится тебе, когда состояние твое в то время вспоминают, ну, да «из песни слова не выкинешь», не получится объяснить, если про тебя и терзания твои вечные моральные не упомянуть» – добавил Слава, обращаясь к Максу.
«Ладно, чего уж там, давай рассказывай.» – поморщившись ответил Макс.
«Так вот, ходит Макс смурной,» – продолжил Слава, «домой не идет, там мать объявилась, которую он видеть не может, на работу не устраивается, он о милиции всю жизнь мечтал, а тут что-то не торопится документы для поступления на службу подавать, таксует, только не как Старшина официально, работая в таксопарке, а сам по себе на той самой тетки Лизаветиной Волге, и девчонок нормальных всех стороной обходит, они на него гроздьями вешаются, он же у нас красавчик, а он ни на одну внимания не обращает, шалав предпочитает для удовлетворения естественных потребностей.
Потом вообще тренером по самбо пошел работать в какую-то «качалку», такие тогда как раз повсеместно открываться стали. И все время задумчивый да нерадостный, будто камень у него на душе какой, который он никак сдвинуть не может, и так уже больше полугода после дембеля. В общем, беспокоить нас всех эта ситуация здорово начала, Макс наш сам на себя не похож, будто и не он это вовсе.
Решили мы с мужиками с ним поговорить. Собрались у меня, когда матери дома не было, сели, водки налили, да и стали его пытать, что, мол, и как, чего тебя гложет, друже.
Напоили, сильно напоили, без этого не разговорить его было, втроем старались, сменяя друг друга, чтобы его до кондиции довести, а самим раньше времени не свалиться.
Разговорили, тут он нам и поведал, что после того, на что он в Афгане во время зачисток нагляделся, у него только одно желание – застрелиться! Ни мечты ни осталось, ни смысла, а только одно непреодолимое разочарование, в самом себе разочарование.
Мы аж слегка прибалдели, «Макс,» – говорим, «а в себе то почему разочарование? Ты, вроде, сам никаких зверств в Афгане не творил, воевал честно и доблестно, за что же ты себя то винишь?».
«Да за то, что решения сплошь неправильные принимал, последствия их неправильно оценивал, вот буквально все решения были неправильными, необдуманными, пацанскими, а не мужскими, все героем хотел стать, да побыстрее, прийти к этому результату кратчайшим путем, трудиться не хотел особо для этого результата, вот чего хотел, то и получил – результата очень скоро достиг, вот только вовсе не того результата, на который изначально рассчитывал, теперь вот думаю, что мне с этим результатом делать, думаю, да никак не придумаю.».
«И какие же решения твои были уж такими неправильными?» – спрашиваю я.
«Да вообще все,» – отвечает, «вот смотрите: в другой детдом переводиться отказался, а ведь мог, чтобы десятилетку окончить, а не в ПТУ идти.».
«Ага, мог,» – отвечает ему Юрка, «ты то мог, да меня бы с тобой все-равно не взяли, я учился хоть и относительно неплохо, да не на том уровне, чтобы мне, детдомовскому, десятилетку окончить разрешили. Так что в другой детдом ты не перевелся и в ПТУ пошел, считай, не ради себя, а ради меня, друга своего, чтобы нам не расставаться. И я об этом решении ни твоем ни своем ничуть не жалею! Вот и получается, что у решения этого твоего последствия вполне положительные, для меня, во всяком случае.».
«Да, решение, ради друга принятое, вряд ли можно совсем уж неправильным считать,» – согласился я, «а что оно, как ты выразился, пацанское, так ты тогда пацаном и был, тебе же тогда только пятнадцать исполнилось. Давай дальше разбираться, какие еще свои решения ты считаешь неверными?».
Дальше я тот диалог здесь пересказывать не буду, он весь был в этом ключе, Макс на все только с одной, черной, стороны смотрел, а мы ему другую подсвечивали, с которой решения его имели как раз существенные положительные последствия.
Долго тогда проговорили, почти до утра, но своего добились, Макс, конечно, не полностью с нами согласился, думать на эту тему продолжал, да и по сию пору, мне кажется, продолжает, но духом воспрял, поверил, что жизнь продолжается, и все еще можно изменить, да ошибки сделанные успеть исправить.
Буквально на следующий день стал узнавать, что нужно, чтобы в милицию на службу поступить. Приняли его быстро и без проблем, опыт боевой есть, почетным знаком за воинскую службу отмечен. Стал он опером, только пока не в МУРе, а «на земле». Еще и во ВЮЗИ (Высший юридический заочный институт, так тогда Кутафинка твоя называлась) на вечерний поступил, с сентября 87-го года начал там учиться. За четыре с лишним года, которые до его перевода в МУР в ноябре 90-го прошли, опером стал таким, что вся милицейская Москва его уже знала, о нем уже тогда легенды ходили.
В 88-м Юрка из трамвайного парка ушел и к Максу в райотдел на службу поступил, в 90-м, когда Макс в МУР в убойный перевелся, он сначала батю твоего туда подтащил, а в 91-м уже и Старшина к ним подтянулся. Я же на Петровку в следствие еще в 87-м попал, после окончания МГУ, по распределению. Так и стали мы все вместе на Петровке работать.
А в 92-м, как Макс ВЮЗИ, тогда уже МЮИ, Московский юридический институт, окончил и диплом получил, назначили его начальником убойного отдела МУРа, а Юрку его заместителем.
Следующие шесть лет, аккурат до кризиса 98-го года, мы не служили, мы воевали, воевали не на жизнь, а насмерть, почти постоянно спину друг другу приходилось прикрывать, в прямом смысле этого слова – если друг спину тебе с оружием в руках не прикроет, не выживешь.
Годы были бандитские, система милицейская на глазах разваливалась, все продавалось и покупалось, а уж служба милицейская и подавно, только некоторые не сдавались, в основном «старая гвардия», кто еще при отце Максима служить начинал, но их с каждым годом все меньше оставалось, а из молодых вообще только мы вчетвером и сопротивлялись.
Сколько раз нас свалить пытались, то так, то эдак заходили, не смогли, вчетвером мы всегда справлялись, сдюживали. Нам дружба наша лучшим и чуть ли не единственным оберегом тогда была, только благодаря ей и выжили. У меня немного потише, все-таки следователь, не опер, а мужики за шесть лет каждый по несколько раз в больничке побывали с ранениями, порой, очень и очень тяжелыми, бывало, что они друг друга из-под пуль вытаскивали уже практически в безнадежном состоянии, вытаскивали и в больничку тащили, уговаривая бороться, за жизнь бороться, не сдаваться. Получалось до поры до времени.
В феврале 98-го Юрка от рук киллера погиб, он каким-то образом толи узнал толи догадался, никогда уже не узнаем каким, как доказать, что фигурант один, которого мы тогда на заказчика «примеряли» по делу о заказном убийстве, не сам по себе действует, что он член Ореховской ОПГ. То, что именно он заказчик, нам ясно было, но доказательств не было, никак не могли мы доказательств его связи с застреленным при задержании киллером найти, да и не было там прямой связи – он член ореховской ОПГ, киллер тоже из этой ОПГ, только уровень у них в преступной иерархии совсем разный, вот и нет между ними прямого контакта, там команды на устранение киллерам по-другому передаются. Доказывать нужно было не связь киллера с заказчиком, а связи их обоих с Ореховской ОПГ.
По киллеру особых проблем не было, он для этой ОПГ «штатным» киллером считался, по многим ранее не раскрытым эпизодам мы его привязали.
А вот по заказчику – вроде все в деле ясно: коммерс, которого заказали, у Макса и его оперов на примете давно был, уж очень рисково он дела вел, ОПГ ни одной, правда, до определенного момента, дорогу не переходил, как то без этого обходился, потом ошибся, и оказался у Ореховских на пути, они его и приговорили. О том, что к коммерсу этому ореховские киллера отправили, мужики тоже почти вовремя узнали, немного времени не хватило, чтобы задержание подготовить, когда приехали на место, оставалось только в киллера на поражение стрелять, иначе коммерса уже было не спасти.
Киллера застрелили, дело возбудили, коммерса допросили, он к тому моменту со страху уже «в штаны наложил», все, как на духу, выложил. Да и без его допроса было ясно, где, когда и, главное, кому он дорогу перешел, за что его заказали. Ясно то ясно, а доказательств никаких.
Вот Юрка то и нашел эти доказательства, только мы об этом уже после его гибели узнали, когда все дни, смерти его предшествовавшие, буквально по минутам разобрали – что и когда он делал, где был, с кем встречался, восстановили всю картину и поняли, что он в архиве в деле еще 93-го года нашел связь того самого заказчика с Медведковской ОПГ, которая потом в Ореховскую влилась, причем связь прямую, доказанную, не отвертелся бы уже фигурант.
В 93-м сама по себе эта связь ничего не значила, не было еще тогда даже понятия такого «организованная преступность», а в 98-м ситуация уже «созрела», мы уже понимали, что это именно организованная преступность, в которой особые связи и особая иерархия, и само по себе наличие этой связи уже может служить доказательством.
И не только мы уже это понимали, это уже и преступники понимали, поэтому и напряглись, как-то узнав, что Юрка в архиве то дело 93-го года поднимал, поэтому и решили его убрать, пока он доказательства этой связи всем не показал. Решили и убрали, прямо на следующий день киллер его и застрелил.».
Слава замолчал, потянулся к бутылке, разлил, все молча выпили, вновь не чокаясь.
Глава 26.
«Это я виноват,» – мрачно произнес Максим, «Юрка утром с дежурства пришел, дома должен был мне доложить, что в архиве накануне нарыл, да я не в себе был. Если бы я его тогда слушать мог, может и понял бы насколько опасная ситуация, понял бы и смог его прикрыть.».
«Макс, опять ты начинаешь,» – перебил его Слава, «сколько раз мы тебе со Старшиной говорили, что никто тогда не смог бы оценить опасность той информации, которую Юрка в архиве нарыл, никто, даже сам Юрка ее оценить до конца не смог. Он же не просто так на следующий день вел себя как обычно, ни о чем таком не думал, не ждал проблем, даже делом другим занялся. Никто, я повторяю, никто не мог знать, что информацию о том, что он в архиве именно то дело поднимал, уже бандитам слили, и что бандитам одной этой информации хватит, чтобы опера из МУРа приговорить, и приговор этот немедленно привести в исполнение!».
«Никто бы не смог, а я должен был. Должен, потому что я начальник. Должен, и все тут. А я … не … сделал!» – раздельно и с нажимом произнес Максим, «Не сделал, и друга потерял, да и Никиту вот сиротой оставил!».
«Кстати, о Никите,» – переключил разговор Слава, «после Юркиной гибели с тобой, Никит, действительно, проблема была. Тебе еще шести лет не было, шесть только в августе должно было исполниться, а ты уже сирота! Куда тебя девать было совершенно непонятно, не в детдом же отдавать, там в 90-е совсем швах был! Хорошо мама моя согласилась на пенсию выйти, чтобы за тобой присматривать. Хотя мы на то, что она от работы своей любимой откажется, которой всю жизнь посвятила, совершенно не рассчитывали, даже не просили ее об этом, она сама предложила.».
«Конечно предложила,» – улыбнулась Тамара Сергеевна, «я, на самом деле, давно уже подумывала на пенсию уйти, слава Богу, у меня к тому моменту стажа педагогического было уже для этого достаточно. Только вам не говорила.
Система детских домов в 90-е практически развалилась, уж на что мне, когда я только директором детдома стала, нелегко пришлось, в системе то этой даже в советские времена все непросто было, но в 90-е совсем все плохо стало, так плохо, что я уже ни справиться с этим не могла, ни сил мириться в себе не чувствовала, хотела уйти, только пока не решалась, все повод подходящий искала. Сначала думала, вот Слава мой женится, детки пойдут, сразу я на пенсию и выйду, чтобы на ними присматривать, да только Слава все не женился. У Юры уже Никита почти шестилетний, а Слава только «девок портит», и никак не женится.
А когда Юра погиб, похоронили мы его, сидим поминаем. Максим говорит: «Завтра рапорт подам, уйду в отставку, буду в трамвайном парке работать. С такой работой, как у меня сейчас, Никиту не вырастить». Мы сидим, смотрим на него ошалело, уж очень неожиданное заявление, а он наши взгляды, видно, не так понял: «Что вы все на меня так смотрите?» – говорит, «Никита в детдом не попадет, ни при каких обстоятельствах, я так решил. И дело тут не в том, виноват я или не виноват в гибели его отца, даже если считать, что не виноват, все-равно я ему, если в детдом отдам, в глаза потом смотреть не смогу! Не смогу и не хочу, помню я как друзья моего отца глаза отводили, когда меня самого в детдоме оставляли. Я такого не допущу.».
Вот тут я моментально и решила, что самое время мне на пенсию выходить, не Максиму же, правда, дела жизни лишаться, раз уж все так сложилось. А мне самое оно, тем более я давно уже повода для этого подходящего ждала.
Решила и сразу же и объявила. Наши все удивились, но меньше, чем заявлению Максима о возможной отставке, даже по первой реакции было понятно, что мое предложение всем более правильным, более разумным кажется. Правда, сразу не приняли, не согласились, даже попытались переубедить, но я им четко объяснила, что это решение не только для твоей, Никита, судьбы правильное и разумное, но и для моей. Рассказала им вкратце что в детдоме моем в последнее время творится, они послушали, оценили «масштаб бедствия», так сказать, да и согласились.
«Еще бы нам было не согласиться,» – отозвался Максим, «во-первых, меня в уходе со службы, несмотря на казавшуюся мне тогда безальтернативность принятого решения, одна вещь очень сильно напрягала – уходить нужно было сразу, не поквитавшись за друга. А поквитаться я не просто хотел, я понимал, что жить спокойно не смогу, пока не поквитаюсь. Потом, может, тоже спокойно не смогу, все-равно не прощу себе своей ошибки, к смерти друга приведшей, но не поквитавшись не смогу точно, дышать не смогу, не то, что жить спокойно. А во-вторых, нам, когда Тамара Сергеевна вкратце тогда рассказала, что в детдоме нашем творится, сразу стало понятно, что уходить ей оттуда, по любому, нужно, и уходить как можно скорее, иначе она с ума сойдет.
Детдом ведь во все времена только на директоре и держался, что при Союзе, что позже, в новой свободной (от кого только свободной?) России. Мы то с Юркой ничего плохого в детдоме не видели, не застали, попали туда уже во времена директорства Тамары Сергеевны, а вот Ланка нам много чего порассказывала, она то на пять лет старше, пока в школе-интернате была с детдомовскими много общалась, знала какие там были порядки при старом директоре. И про то, что детей тухлым мясом кормили, а персонал весь каждый вечер пудовыми сумками домой у воспитанников украденное тащил, и про одежду, вдрызг рваную да и не по размеру, в которой и на улицу то выйти стыдно, и про то, что девчонок, а иногда и не только девчонок, начиная лет с двенадцати-тринадцати старшие парни систематически принуждали их в сексуальном плане обслуживать, а директор и воспитатели, порой, и под нужных людей «подкладывали».».
«Да,» – не стала спорить Тамара Сергеевна, «я когда пришла, от меня за первый год практически девяносто процентов технического и административного персонала уволилось: кастелянши, сестры-хозяйки, работники столовой, все, кому я воровать больше не позволяла, кого стала заставлять и белье постельное детям отдавать, государством предоставленное, и одежду менять, и кормить нормально. Но тогда я справиться могла, система так была организована, что директор, если хотел, и правда, мог работу наладить, а в 90-е сама система сломалась.
В 90-е просто ничего не стало, вообще ничего – сначала просто нерегулярно необходимое привозили, например, продукты могли по три дня не завозить, приходилось детей одними крупами кормить, хорошо хоть они были, мыла, обычного мыла, месяцами не завозили, детям руки помыть было нечем, не то что голову в душе, да и зарплату, и так копеечную, стали задерживать, из-за чего педагоги-воспитатели нормальные стали разбегаться.