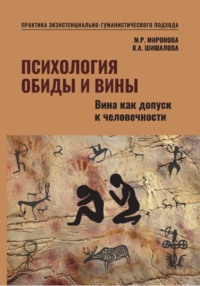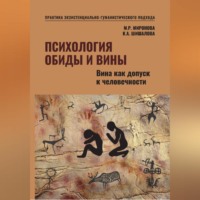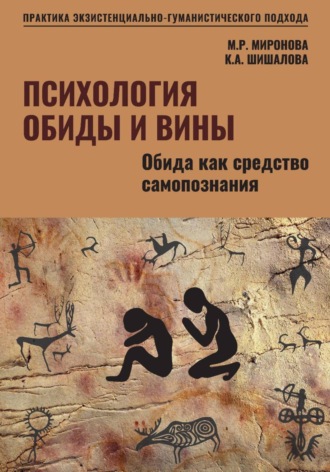
Полная версия
Психология обиды и вины. Том1. Обида как средство самопознания. Миронова М.Р. Шишалова К.А.
Возьмем менее эмоциональный и идеологически нагруженный пример. Скажем, нам не с кем пойти в кино, мы зовем с собой друга, а он отказывается. Иногда это не вызывает обиды, а иногда бывает очень обидно. На наш взгляд, обида возникает тогда, когда нам хочется пойти в кино именно с этим человеком и когда есть убежденность, что, если мы близкие друзья, то должны ходить в кино вместе. И отказываясь, он не только берет под сомнение наш статус близких людей, свой статус близкого нам человека, но и ставит нас в неловкое положение – положение одиночки, которому не с кем пойти в кино. Опять же, если в обществе нет такого правила, что в кино ходят с друзьями, то обида может и не возникнуть. Есть примеры существенно проще, знакомые каждому. Представьте себе, что вы сильно устали на работе, едете домой, мечтая об отдыхе, предвкушая, скажем, ванну с пеной, которую вы недавно купили именно для такого случая. А тут такое – нет горячей воды. Кому-то станет просто досадно, но кому-то – обидно до слез. Отдых никуда не делся – мы дома, нет работы, времени достаточно. Но хочется именно в ванну с пеной. Другое не подходит! И обида наша огромна, причем не на какого-то сантехника, аварию – это слишком мелко для нашей обиды. В такие моменты мы говорим о «несчастной жизни», «гадской стране», «проклятом мире». На меньшее наша обида не согласна. Видимо, в некоторых случаях сама сила стремления и законность ожиданий кажется нам основанием для непременного исполнения желаний. И обиды, если ожидания не исполняются10.
ВВЧ: Вспомните ситуацию, в которой вы чего-либо ждете от конкретного человека и никак не можете согласиться на то, чтобы это дал вам кто-нибудь другой. А также ситуации, в которых чего-либо ждут от вас и не соглашаются на переадресацию. Откуда, на ваш взгляд, берутся эти ожидания?
3. Несубъектное взаимодействиеРечь идет о взаимодействии, в котором один или оба участника не мыслятся обладающими всей свободой воли и влияющими на процесс и/или результат взаимодействия. В общем, это такое взаимодействие, в котором человек – скорее статист или орудие. Несубъектные взаимодействия бывают самых разных видов и уровней – от чисто физических (противовес на качелях) до строго социальных (трудовая единица, занятая в сфере психического здоровья). В современном мире предполагается, что человек – субъект и автор своей жизни, обладающий очень широкой свободой воли и отвечающий за последствия своих действия. Мы безусловно с этим согласны, но практика заставляет нас сделать несколько замечаний.
Полностью субъектное состояние и полностью субъектные отношения, на наш взгляд, невозможны, т. к. человек постоянно является и субъектом, и объектом одновременно. Например, если мы ведем совершенно искренний и открытый разговор с другим человеком, берем на себя ответственность за слова, за эффект, который они произведут, мы при этом не перестаем быть физическим телом с определенным весом, а также налогоплательщиком, единицей народонаселения и т. д. Здесь мы не будем вдаваться в сложные теоретические рассуждения на данную тему. Для психологической практики безусловно значимо следующее: человек в каждый момент времени вольно или невольно является участником довольно большого количества несубъектных взаимодействий. Это взаимодействие, в котором его свобода воли и его возможность влиять на результат в той или иной мере ограничены. Например, соглашаясь быть пассажиром метро, мы соглашаемся на значительное ограничение своей физической свободы и своего влияния на результат, но у нас есть очень серьезные и ясные ожидания в отношении результата – мы уверены, что доедем до определенной станции. Пассажира метро совершенно не интересуют самочувствие машиниста или размер ипотечных выплат начальника станции. И машинист, и начальник станции для пассажира существуют только в виде функции «машинист» и «начальник станции». Со своей стороны, «начальник станции» ожидает от «пассажира», что он будет стоять или сидеть смирно, честно оплатит проезд, не оставит после себя мусора и не испортит оборудование. Как человек машинист вполне может понять, что кто-то боится ездить в метро. Но функцию «машинист» не интересует, как функция «пассажир» борется со своими паническими атаками. Таким образом, несубъектное взаимодействие регулируется правилами и различного рода договорами, явными или неявными, формальными или неоформленными. Соответственно, при несубъектном взаимодействии обида возникает в следующих ситуациях.
Нарушение правил. Например: мы подходим к метро и видим, что дверь закрыта, первым делом мы испытываем обиду: «Как так?!». Такая обида легко переходит в гнев и столь же легко выражается во всем известной обсценной (нецензурной) лексике в адрес тех, кто управляет этим процессом, то есть властей разного рода.
Прямое нарушение соглашений, в том числе общественных. Например: официант отказывается обслуживать ваш стол просто так, без причины. Или приятель, с которым вы-таки договорились пойти в кино, опаздывает или вообще не приходит. Сила обиды в данном случае зависит от того, насколько нерушимым считается нарушенный договор.
Несовпадение внутренних описаний правил или содержания роли у участников взаимодействия. Например: подчиненный считает, что начальник должен заботиться о его эмоциональном состоянии, это входит в его обязанности. А начальник считает, что его обязанности – только следить за качеством и сроками выполняемой мной работы. Отношения «начальник–подчиненный» несубъектные, они не предполагают выяснения отношений, внутри них этот конфликт неразрешим. Для разрешения конфликта надо создать новый договор, для чего требуется перейти в субъектную позицию или использовать посредника.
Особый случай составляют несубъектные иллюзорные отношения. При них предполагается, что все члены сообщества, к которому мы себя причисляем, одинаково понимают определенные несубъектные отношения. Скажем, все считают, что воровать нехорошо или что стоит быть вежливыми.
Вот самый простой пример. Мы идем по улице в незнакомом месте, ищем кого-нибудь, кто покажет дорогу. Это конвенциальное, несубъектное взаимодействие, то есть взаимодействие, определяемое договором, в котором люди выступают носителями правил. Он мог бы звучать так: «Если на улице тебя вежливо спросили, как пройти в библиотеку на соседней улице, то твой долг вежливого человека и местного жителя – ответить честно, если знаешь, что ответить». Причем это взаимодействие с определенной долей риска, в нем мы опираемся на наши ожидания, что незнакомый человек будет вежлив и ответит нам на совершенно нейтральный вопрос. Мы выбираем того, кто кажется нам авторитетным, солидным и безопасным, безусловно соблюдающим правила – пожилую женщину интеллигентного вида, спрашиваем дорогу и в ответ слышим… мат. Возникает обида, часто очень сильная, с растерянностью и дезориентацией. Потому что действия женщины нарушают наши представления о том, как ведут себя «люди нашего круга».
Мы чувствуем себя жестоко обманутыми, потому что женщина выглядела как «своя», должна была быть безопасной, вести себя как положено, вежливо. Рациональных причин ждать от нее такого поведения, кроме ее интеллигентного вида, у нас, вообще-то, не было. Тем сложнее нам объяснить свою обиду и сложнее от нее избавиться. Переживания в ситуациях иллюзорного контакта или иллюзорных договоров для психологической практики составляют самую большую проблему – их не только сложно, но и рискованно анализировать. Изучая иллюзорные представления клиента, психолог неизбежно оказывается в роли обидчика, т. к. иллюзия от анализа разрушается, соответственно, в начале такой работы обиды множатся, а не сокращаются. Собственно, к ситуациям иллюзорного взаимодействия во многом можно отнести и само взаимодействие психолог-клиент. Слишком много нереалистичных ожиданий, непроясненных договоренностей, умолчаний и скрытых реакций. И не сказать, чтобы за это отвечал только клиент. Психологи тоже вносят свою долю в эту путаницу. Тем восхитительнее то, что мы все же друг друга понимаем!
Частным случаем иллюзорного взаимодействия является взаимодействие дефицитарное (когда в дефиците время или информация). Недостаток информации заставляет наш мозг дописывать, додумывать необходимую картину. В таких случаях наш образ собеседника и образ его действий упрощается почти до гротеска. Например, в чьем-то сознании понятие «иностранец» состоит из следующих определений: ничего не знает о России, богатый, все время улыбается. При таком образе иностранца встреча с хмурым, слегка оборванным специалистом по русской истории из Кембриджа может вызвать нешуточные переживания и обиды. Мы действительно часто обижаемся на тех, кого совершенно не знаем, просто потому, что они непохожи на «наших» и не соответствуют нашим, часто упрощенным и схематичным, ожиданиям.
ВВЧ: Вспомните, случалось ли вам сталкиваться с таким разрушением ваших иллюзий и что вы делали после этого?
4. Субъектное взаимодействиеПод субъектным взаимодействием понимается такое взаимодействие, в котором оба участника обладают свободой воли и влияют на процесс и результат взаимодействия. При отношениях субъект-субъект правила и даже договоренности играют меньшую роль, на первый план выходят само взаимодействие, его согласованность и единое межличностное пространство. Правда, полностью субъектные отношения встречаются редко. Обычно субъектные отношения – это часть конвенциональных отношений, писаных и неписаных договоров, например, супружеских, дружеских, отношений коллег, детско-родительских отношений и т. п.
В таких отношениях обида возникает тогда, когда партнер реагирует и действует не так, как мы ожидали.
Например: ребенок упал, ему больно, а мама, вместо того чтобы взять его на руки и успокоить, говорит «вставай»; или тот самый друг сказал, что в кино пойдет не с нами, а с друзьями из клуба.
Несовпадение ожиданий порождается самим фактом близости и существованием единого межличностного пространства субъектных отношений. Именно близость и единое пространство дают нам основания верить, что мы все понимаем одинаково, и тут же обнаруживать, что есть разница. Обида от несовпадения ожиданий – естественный эффект близости, искренности, понимания. Соответственно, обида – непременный спутник близких отношений. Вопрос только в том, как на нее реагировать.
ВВЧ: Как вам кажется, бывают ли такие отношения, при которых обида невозможна?
Глава 2. РЕАКЦИЯ ОКРУЖАЮЩИХ НА ОБИДУ
Реакция окружающих на непосредственное наблюдаемое событие * Реакция окружающих на рассказ об обиде * Отношение к обиде в обществе
POU STO Отношение окружающих к обиде представляется нам делом довольно загадочным. Исходя из нашей точки зрения, реакция группы или авторитетного члена группы – важнейшая составляющая целостного комплекса вина-обида и должна быть обращена именно на соблюдение правил, на поведение, укладывающееся в рамки свой-чужой. То есть реакция окружающих должна или подтвердить законность обиды, или дать понять обиженному, что его ожидания неоправданны и он неверно понимает правила. Таким образом, реакция группы должна выполнять функцию ориентации, легитимизации и поддержки. Фактически реакция окружающих должна завершить эмоцию обиды.
1. Реакция окружающих на непосредственное наблюдаемое событиеЗдесь мы описываем прежде всего «реакцию группы», потому что считаем, что даже единичный наблюдатель при виде ситуации обиды реагирует как группа – в соответствии с правилами сообщества, к которому принадлежит.
С реакцией группы и членов группы на непосредственную демонстрацию переживания обиды есть несколько существенных проблем.
Реакция группы на обиду может быть непосредственной, когда группа («свои») является свидетелем всей ситуации. Тогда и группа, и отдельные ее члены реагирует в контексте ситуации, ориентируясь на собственные свидетельства. Непосредственные реакции ближе к действительности, дают меньше возможностей и времени для создания иллюзий и глобальных обобщений. Но даже здесь однозначность реакции нарушается, т. к. разные люди видят ситуацию по-разному, даже присутствуя при событии. Всем нам эта ситуация знакома по детективным сериалам, где мы потешаемся над попытками полицейских выяснить, какого цвета была машина, совершившая ДТП. Даже ясным днем в показаниях непосредственных свидетелей цвет машины варьирует от серого до красного. Что уж говорить о сложных морально-этических аспектах поведения.
Группа как коллективный носитель правил редко реагирует одновременно и слаженно.
Исключение составляют ситуации, в которых:
• группа небольшая, всем хорошо видно и слышно, все челны группы являются непосредственными свидетелями события (в одной комнате, на видеозаписи);
• группа достаточно однородная (группа детского сада, школьный класс, спортивная команда, бригада на производстве, комната в общежитии и т. п.);
• группа по каким-либо причинам не может разойтись, ее члены не могут уйти и пережить свои реакции вдали от обиженного и вынуждены реагировать на демонстрацию обиды немедленно и все разом.
Жестче и яснее всего реагируют группы, члены которой ограничены в праве ее покинуть немедленно. Для иллюстрации достаточно вспомнить собственный опыт или рассказы о пребывании в детских лагерях, на военных сборах, в коммунальных квартирах, офисных совещаниях и т. п. Тогда вокруг обиженного и обидчика часто возникает общая свара, а потом формируются коалиции в поддержку того или другого.
Группа в человеческом обществе практически всегда разноуровневая и может реагировать на нарушение правил прямо противоположным образом в зависимости от контекста. Например: офис может тихонько поддерживать собрата, обиженного на начальство, но вслух выражать полную солидарность с начальством, чем усугубляет боль и растерянность обиженного. В этом случае реакция группы сбивает с толку и умножает обиды.
Очень часто некоторые случаи объявляются группой частным делом двух ее членов, и она отказывается выступать носителем правил. Раньше подобное называлось соблюдением приватности. В таких случаях группа вмешивается лишь в том случае, когда участник приватных отношений обращается к группе за поддержкой, причем чаще всего через авторитетного члена, которому делегируется роль носителя правил – сельский староста разбирает семейные ссоры, воспитатель детского сада вмешивается в отношения детей, священник разрешает сложные морально-этические вопросы. При такой форме разбора обиде все еще есть место, ее можно демонстрировать, на нее адекватно реагируют – замечают, оправдывают или объявляют незаконной. Если такая система ломается, то обида «провисает», не разрешается, копится.
Группа вообще, как правило, реагирует прямолинейно и довольно однообразно. На сложные реакции способен только отдельный человек. Зато группа создает морально-этический фон и набор реакций, на который может ориентироваться отдельный носитель морали и нравственности.
В современном мире неопределенных и неоднозначных ситуаций становится больше, потому что законы общежития теряют жесткость, а жизнь усложняется. Мы все чаще обращаемся не за мнением группы или авторитетных людей, а за юридической защитой. К сожалению, понятие о справедливости и морали в лабиринтах закона потерять очень легко, а обида как повод для обращения там вообще не рассматривается11.
Чем больше неопределенности в обыденной жизни человека, тем чаще он оказывается один на один со своей обидой – без поддержки группы или близких, без ориентира на правильно-неправильно, без надежды завершить свою обиду. Всем известной иллюстрацией такого положения может служить ситуация с домашним насилием в тех случаях, когда оно не регулируется законом. Нежелание окружающих вникать в сложную и неопределенную ситуацию близких семейных отношений обусловлено не столько равнодушием и жестокостью, сколько инстинктивным пониманием неприменимости жестких однозначных правил к ситуации субъектного близкого взаимодействия в семье.
Если непосредственных свидетелей ситуации не было, тогда люди реагируют именно на рассказ о ситуации, на повествование, и вот здесь начинаются серьезные проблемы.
2. Реакция окружающих на рассказ об обидеСоздается ощущение, что рассказы об обиде изначально не предполагались, что все автоматические реакции должны происходить при непосредственном наблюдении окружающими событий обиды12 и участии в ситуации. Возможно, когда-то, у далеких предков, обида была жестко привязана к ситуации и, видимо, реакция должна была развиваться по схеме: действие обидчика – демонстрация обиды пострадавшим – автоматическое чувство вины или его отсутствие у обидчика – группа встает на сторону обиженного, заставляя обидчика принести извинения или искупить вину, или, наоборот, поддерживает обидчика и тогда разъясняет обиженному неоправданность его обиды. На этом инцидент завершался и вовне – восстанавливались отношения или обидчик изгонялся, и внутри – чувства обиженного и обидчика разрешались и уходили.
Очевидно, что в современном мире это не так. Межличностные взаимодействия происходят скрыто, без свидетелей, и, более того, огромная их часть разворачивается в поле иллюзорного, не физического, взаимодействия – в уме. Мы довольно редко можем предъявить другим собственно факт обиды. Хотя в последнее время, благодаря цифровизации нашей жизни, есть возможность предъявить съемку или переписку, но все равно контекст произошедшего придется объяснять, а он-то и составляет самое главное. Кроме того, обиды могут переживаться человеком в течение десятилетий, а рассказ порой следует лишь спустя годы после самого события.
В результате тот, кто рассказывает о своей обиде, часто не находит понимания и сочувствия. Например, рассказу об обиде, нанесенной в конкретной, нетиповой ситуации, сложно сочувствовать, потому что слушатель в отличие от рассказчика не питает относительно обидчика никаких ожиданий (это ведь не он заблудился и ждал помощи в поиске дороги от бабушки – «божьего одуванчика»). Но тот же слушатель вполне посочувствует рассказу об обиде, возникшей в типовой общей ситуации, например, в ситуации несубъектного взаимодействия (присоединится к обиде на чиновника, продавца или начальника).
Довольно часто рассказ о нанесенной обиде вызывает вовсе не сочувствие, а раздражение – оттого что ожидания рассказчика слушателем, не включенным в контекст ситуации, воспринимаются неоправданными, глупыми, незаконными. Но еще чаще над обидами смеются. Смех защищает слушателя от тяжелого переживания обиды, в которое не хочется погружаться, от боли, страха, гнева, растерянности. Он же позволяет увидеть ситуацию извне, увидеть то, что не видно рассказчику или даже найти решение ситуации. Таким образом, насмешка может помочь рассказчику, но довольно часто вызывает вторичную травматизацию, еще более глубокую обиду и одиночество. С точки зрения обиженного, смех слушателя поддерживает обидчика.
Можно сказать, что человеку, решившему поделиться своей обидой, очень сложно получить сочувствие и завершить свое чувство обиды, за исключением тех ситуаций, когда обида происходит в какой-либо понятной общесоциальной или общегрупповой ситуации (например, если бы в ситуации, когда мы с вопросом «Как пройти в библиотеку?» обратились не к бабушке, а к аккредитованному волонтеру с бейджем, поставленному на перекрестке, чтобы показывать дорогу). Возможно, поэтому при рассказе о нанесенной обиде люди часто стараются подстроить историю под общепонятный шаблон (обман, предательство, измены). Таким образом мы получаем сочувствие, но отрываем свои переживания от реальности и лишаемся шансов на истинное их понимание – как со своей стороны, так и со стороны собеседника. А непонятое, не выраженное, не высказанное другому чувство по закону незавершенного действия (гештальта)13 остается с нами надолго, если не навсегда.
3. Отношение к обиде в обществе14Стоит сказать еще несколько слов об отношении окружающих и общества в целом к переживанию обиды. Наверное, нет другой негативной эмоции, которая в современном обществе вызывала бы столь единодушное осуждение, раздражение и осмеяние (политику и идеологию сейчас не берем). Самая частая реакция на детскую обиду со стороны взрослых и даже сверстников – осмеяние и «законное» издевательство: «На сердитых воду возят, на надутых – кирпичи». Слово «обиженный» даже служит в качестве эвфемизма для обозначения человека недалекого, незрелого, социально бесправного, а в уголовном жаргоне – для наименования жертвы сексуального насилия. Такая позиция общества создает определенный способ реагирования на переживания обиды у самого человека: заставляет его скрывать, вытеснять и подавлять обиду. Не получая реакции окружающих, люди лишаются шанса обогатить свой опыт, разобраться в новом контексте, новых ситуациях, научиться общаться с людьми другой группы. Более того, у нас есть подозрение, что отсутствие открытой реакции окружающих (группы, авторитетов, просто близких людей) ставит под сомнение само существование неписаных правил общежития, создающих контекст социальной жизни. Особенно это касается детей и детских групп.
Реакция общества, окружающих настолько важна и неоднозначна, что мы будем обращаться к ней специально в каждом разделе.
ВВЧ: Понаблюдайте, какие ситуации обиды наиболее характерны для вас, для вашего лучшего друга, для коллег по работе, для близких (мужа/жены, детей).
Глава 3. ПЕРЕЖИВАНИЕ ОБИДЫ
Собственно переживание обиды (эмоции). Взгляд изнутри * Переживание обиды. Взгляд снаружи на то, как обиженный выражает свои переживания * Проявления обиды
POU STO Итак, в ответ на нарушение правил другим человеком мы автоматически реагируем определенным образом: у нас возникают переживание обиды, экспрессия обиды и определенные действия обиды. Такие переживания динамично развиваются, перетекая одно в другое, взмывая и растворяясь. А еще они воспринимаются окружающими, и они, в свою очередь, на них реагируют, что является важнейшей частью переживания.
1. Собственно переживание обиды (эмоции). Взгляд изнутриНеобходимо сказать несколько слов об особенности переживания обиды. Обида, как и вина, даже в большей степени, не тускнеет со временем. Могут пройти десятки лет, а обида помнится, как будто она случилась только что – так же ярко, всеобъемлюще, больно. Наверное, именно поэтому мы считаем обиду детским чувством – потому что даже не вспоминаем детские обиды, а с ходу погружаемся в них и чувствуем себя теми детьми, которые когда-то горько плакали и всем своим существом переживали несправедливость.
Наше описание переживания отличается от канонического, включая не только эмоции, но и телесные реакции, поведение, мысли и даже умозаключения. Нам важно максимально полно описать весь феномен переживания, не деля его на части. Кроме того, обиду как непосредственную реакцию на нарушение правил вполне можно отнести к пиковым переживаниям, а они часто (а может быть, и всегда) включают в себя еще и измененные состояния сознания, внутри которых все сливается и перемешивается.
Вихрь эмоций
Как правило, для обиды характерно не одно конкретное переживание, а сразу вихрь эмоций, которые в более или менее развернутом виде представляют примерно такую цепочку:
• Шок («Как так?!»).
• Растерянность («И что теперь?»).
• Возмущение («Как так можно?!», «Со мной так нельзя!»).
• Обида («Я с тобой больше не играю!», «Я тебе больше ничего не дам!»).
• Досада («Ну вот, опять неприятности!»).
• Стыд («Со мной что-то не так…»).
• Испуг («Мамочки! Напали!»).
• Сомнение и страх утраты, обращенный в будущее («Неужели в этих отношениях / в этом обществе больше ничего не будет?»).
• Сомнение и страх утраты, обращенный в прошлое («А было ли что-то хорошее вообще в наших отношениях?»).
• Гнев («Щас как дам!»).
• Злость («Ну, я ему покажу!»).
• Чувство вины («Как я это допустил?!»).
• Ужас («Все?!»).
Необходимо упомянуть еще более сильное переживание (которое мы назовем экзистенциальным ужасом), нередко возникающее в результате шока и глобального одиночества, вызванного ощущением утраты связи с социумом. Основная его характеристика – ощущение глобальности всех переживаний и фатальности, бесповоротности происходящего. Словами его выразить трудно, хотя бы потому, что оно обычно очень кратковременно и до вербальных форм просто не доживает, но оно может быть выражено следующей фразой: «Все, больше ничего не будет».