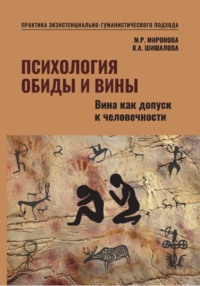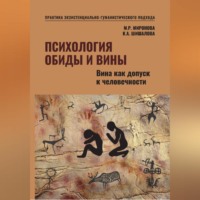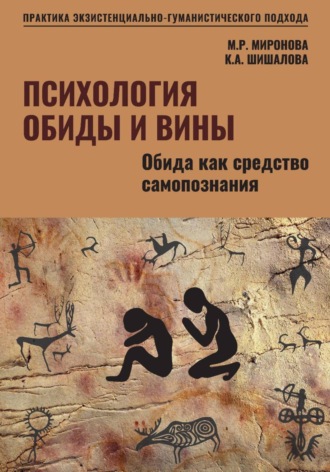
Полная версия
Психология обиды и вины. Том1. Обида как средство самопознания. Миронова М.Р. Шишалова К.А.
Многие исследователи отмечают, что переживание вины довольно часто сопровождается психологическим феноменом, который называется расщеплением. Имеется в виду не медицинский аспект этого явления, а общепсихологический. В зависимости от подхода разные авторы замечали разные причины и способы расщепления личности, формирующие внутренний конфликт: я и сверх-я в классическом психоанализе (З. Фрейд) [55], я-реальное и я-идеальное (К. Хорни) [56], личность и дистанцирование личности от себя (П. Тиллих) [53], разные субличности – обвиняющий и обвиняемый – и множество других.
3. Функции виныЧрезвычайно важными для нас являются наблюдения разных психологов относительно функций вины:
• Фрейд понимал функцию вины как сопротивление контакту с другими и миром;
• К. Хорни [56] прозорливо отметила функцию переживания вины в качестве замены действию;
• И. Ялом [65], Р. Мэй и другие экзистенциальные психологи понимают уже упомянутую онтологическую вину как побуждение человека к самореализации и авторству своей жизни.
4. Соотношение вины и обидыОснователь гештальт-подхода Ф. Перлз [41], хотя традиционно рассматривал вину и обиду как явления патологические (нарушенное слияние), был одним из немногих, кто объединил их в целостный комплекс переживаний. Связь вины и обиды также отмечал в своих работах А. Кемпински [27]: он считал, что в их основе лежит стремление к справедливости.
Оба этих автора полагали, что вина и обида могут переходить одна в другую.
Ключевые рекомендации по работе с переживанием вины в психологическом консультировании практически во всех подходах схожи и в основном заключаются в том, чтобы избавлять клиентов от тягостного переживания.
5. ОбидаОбиде в качестве предмета изучения повезло меньше, потому что обиду большинство авторов изначально считают незрелым, лишним и даже патологическим переживанием. Мы отметили наиболее часто встречающиеся концепции.
• Обида как остановленный аффект. Чаще всего – подавленный гнев, оторванный от реального события (О.А. Апуневич, О.С. Архипкина) [9, 11].
• Обида как переживание, сопровождающее фрустрированную потребность. С этой точки зрения, обида – вполне законное и здравое чувство (Г.М. Бреслав) [17].
• Обида как манипуляция поведением других людей с целью заставить любить, вступить в более близкий контакт (Э. Берн) [14].
• Обида как «детское» чувство, как реакция из субличности «ребенок» (Э. Берн) [14].
• Обида как манипуляция позицией жертвы с целью получить блага от конкретного человека или от сообщества. (Э. Берн, М. Джеймс, Д. Джонгвард) [14, 23].
• Обида как эмоциональная реакция, указывающая на расхождение ожиданий и реальности (Ю.М. Орлов) [40].
• Обида как переживание удара по образу «я», по самооценке (К. Хорни) [56].
• Обида как сигнал о нарушении социальной ситуации и контакта (А. Кемпински) [27].
Ключевые рекомендации практиков в большинстве подходов для клиентов – пересмотреть свои ожидания, не допускать возникновения незрелого переживания.
Наши претензии к большинству этих концепций не столько теоретические (психика бесконечно сложна и многообразна, каждая из этих теорий имеет право на существование), сколько чисто практические – они чаще всего не дают нужного эффекта в работе, не способствуют достижению целей психотерапии (см. выше).
Кроме того, очень редко можно встретить описание психологической работы, направленной на выход из вины и обиды с помощью других людей. А ведь именно в этой области нужно искать способы здравого переживания вины и обиды, исходя из их социальной природы. Способам выхода из переживания тоже уделяется очень мало внимания: фактически есть попытки описать только прощение, хотя это не единственный выход. Но и эти попытки – крайне малочисленны и по большей части созданы в другие времена. Процесс прощения пытались описать Л. Кольберг [30], Ж. Пиаже [44] и другие первопроходцы в деле психологической практики. Отдельно хочется отметить подробный, практичный и более современный взгляд на прощение Р. Энрайта [62].
Но все же чаще всего вина и обида, даже если они рассматриваются как межличностные феномены, в психологической практике приобретают характер внутриличностной проблемы, личного бремени, от которого стоит избавиться.
Именно этот парадокс послужил основной причиной наших исследований и побудил нас написать эту книгу. А кроме того, нас подталкивала огромная потребность – наша собственная и наших клиентов – разбираться в своих обидах и винах. На наш взгляд, обида и вина составляют едва ли не половину всех реальных запросов в практике психологического консультирования.
Основой нашего взгляда на феномены вины и обиды послужили следующие наблюдения:
Вина и обида всегда возникают вместе, в самой яркой обиде всегда присутствует некая вина (хотя бы на уровне «зачем я так подставился»). А в самой тяжелой вине – обязательно есть обида («почему мне недостаточно ясно объяснили, что это плохо»). Такое наблюдение навело нас на мысль, что вина и обида составляют единый комплекс переживаний.
Вина и обида возникают исключительно в отношении тех, кто ощущается как «свои». Наполнение этого круга зависит то того, насколько широко человек трактует и переживает это понятие. Для кого-то свои – только члены семьи, а кто-то обижается на погоду и извиняется перед муравьями на тропе.
Соответственно, на наш взгляд, основная функция комплекса переживаний «вина-обида» – ориентация в системе «свой–чужой», которая вшита в систему конструктов «я-и-мир» каждого человека. Всякий человек, встречаясь с любым феноменом общественной жизни (дружба, приятельство, любовь, семья, родительство, рабочий коллектив, профессиональная общность, политическая принадлежность, полоролевая или мировоззренческая идентичность), формирует и постоянно меняет свое представление о собственной принадлежности к кругу «своих» и постоянно очерчивает круг «чужих». Более того, как полагают нейрофизиологи, система определения «свой–чужой» обеспечена несколькими разноуровневыми системами головного мозга, включая очень глубокие и древние образования (напр., Р. Сапольски) [49]. А вина и обида являются психологическими коррелятами этой нейрофизиологической системы.
Анализируя случаи стойкой вины и обиды у разных людей, мы обратили внимание на то, что эти феномены не поддаются влиянию времени и не тускнеют, в отличие, например, от горя или даже страдания. Таким образом, на наш взгляд, психика оформляет только очень важные и нужные переживания. Вторым интригующим общим свойством этих феноменов является то, что они практически навсегда «склеивают» обиженного с обидчиком, виноватого с тем, перед кем он виноват. Такие особенности природы этих переживаний делают необходимым поиск способов выхода из них в практике психологического консультирования.
Острота переживаний, их сила и длительность, на наш взгляд, являются доказательством их особой важности в жизни человека как члена сообщества (семьи, группы, коллектива, нации, народа и так далее). Естественно предположить, что вина и обида являются проявлениями экзистенциальной данности отдельности-но-связанности (Дж. Бьюджентал) [19, 20]. Скорее всего, они могут служить маркером переживания человеком экзистенциального кризиса, связанного со столкновением с этой данностью.
Логично предположить, что эти феномены если не полностью регулируют наши эмоционально-значимые отношения, то играют в них огромную роль. Соответственно, отношение психологической теории и практики к таким базовым феноменам как к незрелым и патологическим – как минимум странно.
Далее мы представим подробное описание феноменов обиды и вины, разделив их исключительно из соображений удобства описания, но будем постоянно напоминать, что это совместно и взаимно разворачивающиеся феномены.
Экзистенциально-гуманистическая психотерапия (далее ЭГП) по сути своей является феноменологическим подходом, основанным на всестороннем рассмотрении и анализе конкретного явления, поэтому логика рассмотрения и анализа вины и обиды у нас именно такая – с разных сторон, под разными углами зрения, для того чтобы создать максимально полное описание их проявлений в процессе взаимодействия человека с окружающим его миром.
Возможно, стремление создать максимально объемный взгляд помешало нам быть ясными и определенными. Просим читателей не обижаться, так как мы не виноваты в том, что человек так сложно устроен, а вина и обида – настолько всепроникающие переживания.
ЧАСТЬ I. БАЗОВОЕ ОПИСАНИЕ ОБИДЫ
POU STO Обиду переживают все. Кому не знакомо это горькое чувство, от которого сами собой наворачиваются слезы, перехватывает дыхание, хочется кричать, топать ногами и требовать, чтобы все было исправлено немедленно, сейчас же? Чтобы все сию секунду извинились и начали вести себя как положено! И вообще я от них уйду! И пусть им будет плохо без меня! И они пожалеют!
На сегодня обида – одно из самых неоднозначных человеческих чувств. С одной стороны, оно традиционно презирается и старательно искореняется, Интернет полон советов, как отучить обижаться детей, родителей, супругов и коллег. С другой стороны, обида культивируется и даже идеологизируется. Стало модно искать, вспоминать со всеми подробностями и последовательно предъявлять обиды родителям и вообще родственникам, охватывая несколько поколений. Некоторые считают даже неудобным не иметь подробного и продуманного списка обид к властным фигурам, начальству, к представителям противоположного пола и случайным прохожим, которые делают что-то не так, как мы. На наших глазах обида политизируется и делается идеологическим принципом, по которому люди разделяются на группы и лагеря. В такой ситуации изучать обиду становится еще сложнее.
Но все равно приходится, потому что обида как феномен сопровождает нас всю жизнь. Это часть нашей человеческой природы. Каждый день мы находим новую причину и повод обидеться, каждый день мы сталкиваемся с обидами окружающих нас людей. Очевидно, что и для работы, и для жизни, и для психологического консультирования необходима достаточно ясная и практичная концепция обиды, максимально свободная от модных идеологических и политических веяний. Совсем освободиться не получится, но мы очень постараемся.
Рискнем предложить собственный взгляд, сформулированный с позиций полезной функции и смысла любого психического феномена.
Как мы уже обозначили во Введении, с нашей точки зрения, обида – часть встроенного (напр., Р. Сапольски) [49] глобального механизма определения «свой-чужой», регулирующего качественный состав социума и направляющего поведения индивидуума.
Цель этого механизма – допускать к общению, совместной жизни и произведению потомства только своих, а также регулировать поведение индивида в соответствии с правилами проживания в данном социуме.
В упомянутом механизме вина отвечает за правильную (соответствующую нормам) реакцию индивида в случае, когда он сам нарушает нормы общежития, а обида является средством демонстрации другому члену или другим членам сообщества того, что, по мнению индивида, обидчик или группа обидчиков нарушили правила общежития. Очевидно, что это врожденные механизмы, частично доставшиеся нам в наследство от предков. Доказательством (помимо данных нейрофизиологии) может служить то, что экспрессия (мимика, пантомимика) вины и обиды одинакова для всех детей любой расы и любой культуры, а также то, что мы с легкостью различаем экспрессию вины и обиды у многих социальных (стайных) животных. При этом обида, если можно так выразиться, имеет более ясный врожденный характер (у детей до трех месяцев есть даже такой рефлекс) – мы не в силах ее контролировать, она возникает помимо воли непосредственно в процессе событий.
Основа обиды – врожденная цепочка реакций и действий человека, возникающих, когда кто-либо из его окружения ведет себя «неправильным» образом. Неправильным – значит не соответствующим тому образцу «правильного поведения члена моей стаи» («своего»), который сформирован у человека к этому моменту. Причем в этой цепочке реакций и действий важно не только собственное чувство обиды, которое, как и любое чувство, является интегральной оценкой ситуации, но и собственное демонстрируемое поведение. Экспрессия обиды – яркая и ясная, она явно рассчитана на определенную реакцию обидчика: «Если ты меня обидел и не отреагировал определенным образом на мою экспрессию обиды (не продемонстрировал вину и не извинился) – значит, ты чужой». Демонстрация обиды прослеживается у всех стайных и живущих семьями социальных животных: обижаются собаки, лошади, обезьяны и др. Обижаются только на своих, на чужих злятся и нападают. Люди поступают точно так же.
Далее в книге мы намеренно усиливаем, укрупняем и детализируем все эффекты, так как хотим создать более полное феноменологическое описание. Мы вполне отдаем себе отчет в многообразии, индивидуальном характере и многослойности обиды. Наша цель – создать каркасное описание, которое поможет построить стратегию и тактику работы с обидой в психологическом консультировании в экзистенциально-гуманистическом подходе.
Нам представляется (из личного опыта), что книги о человеческой природе читать непросто, потому что при этом неизбежно затрагиваются наши собственные переживания, сформировавшиеся взгляды, вспоминаются соответствующие, не всегда приятные, эпизоды из жизни. Чтобы облегчить этот процесс, время от времени мы будем вставлять в текст вопросы для внимательных читателей, которые помогут им выявить и сформировать собственный взгляд на обсуждаемые феномены и снизить интенсивность переживаний.
ВВЧ5: Как вы полагаете: обида – это хорошо или плохо?
Глава 1. УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОБИДЫ
POU STO Обида возникает в определенных ситуациях. Мы не претендуем на универсальный список таких ситуаций – безусловно, они меняются в соответствии с изменениями жизни, но наш список представляется нам базовым – описывающим ситуации, в которых обида возникает, можно сказать, обязательно.
Конечно, не все описанные ниже условия в каждой ситуации проявляются в полном объеме, но с практической точки зрения почти всегда имеет смысл обращать внимание на ситуацию и контекст возникновения любого феномена. Стоит упомянуть, что приведенные ниже ситуации многократно описаны в других подходах и даже в других науках (в социологии, например). Все они имеют различные названия в терминах разных подходов и наук. Мы сознательно уходим от терминологии, наше описание предназначено для практического анализа ситуации, которым могли бы пользоваться разные специалисты, не слишком отвлекаясь на терминологические разногласия.
Наиболее часто встречающиеся условия, способствующие возникновению обиды (ниже рассмотрим каждое более подробно):
1. Недостаточность ресурса у индивида (реальная или воображаемая):
• информационная недостаточность;
• физическая слабость;
• низкий статус в сообществе;
• уязвимая позиция.
2. Наличие настоятельной потребности, удовлетворяемой только в конкретном взаимодействии (реально или иллюзорно).
3. Несубъектное взаимодействие:
• нарушение правил;
• при прямом нарушении соглашений, в том числе общественных;
• при несовпадении внутренних описаний правил или содержания роли у участников взаимодействия;
• особый случай составляют несубъектные иллюзорные отношения;
• частным случаем иллюзорного взаимодействия является взаимодействие дефицитарное.
4. Субъектное взаимодействие (взаимодействие, в котором оба обладают свободой воли и влияют на процесс и результат взаимодействия).
1. Недостаточность ресурса у индивида (реальная или воображаемая)
Информационная недостаточность
Здесь речь идет о ситуациях, в которых мы просто не знаем, как положено себя вести. Когда нам неизвестно, кто перед нами – близкий или нет, когда близкого мы принимаем за чужого, а чужого – за своего. Если такая ситуация создается намеренно, то обида бывает очень резкой. Вспомните, как вы реагируете, когда обнаруживаете, что вам что-то недоговаривают или намеренно вводят в заблуждение. Информированность – основа поддержания единства сообщества, основание чувствовать себя принятым членом общества, группы, стаи. Потребность знать, что происходит у соседей, друзей, близких и дальних приятелей входит, возможно, в список витальных потребностей, обеспечивающих жизненно важное ощущение безопасности. Специалисты по приматам свидетельствуют, что сплетни есть даже у павианов (Р. Сапольски) [49], причем они играют важнейшую роль в сплочении сообщества и социализации каждого индивида. Вранье своим у всех народов считается тяжким грехом (относительно чужих правила разные). Искажение и урезание информации воспринимается людьми как подрывная деятельность против сообщества, а не только против индивида. Поэтому, обнаружив такие действия, мы зачастую не только обижаемся, но и испытываем особый, так называемый праведный гнев, который, как и обида, держится долго и легко воспроизводится при воспоминании о событии. Те, кто считают, что недосказанность – меньший грех, чем прямая ложь, скорее всего, ошибаются. Реакция на лжеца – обычный гнев, обиды там меньше. Соответственно, и проходит быстрее. Видимо, лжеца легче понять «по-человечески». Реакция на недосказанность, на жонглирование информацией – отторжение, автоматическое присвоение статуса «чужой», потому что манипуляция информацией производится с позиции «извне сообщества», извне отношений и общего информационного поля (Э. Блекбэрн, Э. Эпель) [15].
Физическая слабость
Наверное, каждый из нас замечал, что в некоторых ситуациях мы становимся очень обидчивыми, например, в ситуации болезни, когда не купленные близкими лекарства, не принесенный вовремя стакан воды или недостаточно, как нам кажется, усердный уход за нами вызывают горькую обиду до слез, до мимолетных детских мыслей «вот я умру, и тогда вы поплачете». Подобное, конечно, крайний случай, но такие реакции очень понятны. Они возникают, видимо, как следствие температуры, приема лекарств, ограниченной функции коры головного мозга и соответствующего снижения способности воспринимать ситуацию адекватно. С точки зрения выживания это вполне оправданная вещь, потому что яркая экспрессия обиды действительно автоматически вызывает у близких чувство вины и стремление заботиться и уделять внимание заболевшему члену «стаи» в большем объеме, что действительно повышает выживаемость. Случается, когда такое поведение закрепляется, особенно у детей, хронически больных или пожилых людей. Закрепление свидетельствует о том, что человек не верит в свою способность получить внимание иным способом. В других подходах это называется вторичной выгодой. Но, на наш взгляд, подобное название сбивает с толку, потому что заставляет относиться к получаемому таким образом вниманию как к лишнему, незаконному. С нашей точки зрения, внимание и забота со стороны близких – основа выживания, необходимая так же, как воздух, еда и вода. Внимание и забота – один из способов организации экзистенциальной данности отдельности-но-связанности (Дж. Бюджентал) [19]. Поэтому они не бывают лишними или незаконными. Неудобным, неприемлемым, вредным, на наш взгляд, может быть только способ их получения.
Низкий статус в сообществе
Проще всего проиллюстрировать такое условие на примере ребенка. Дети обидчивы. Во многих случаях обида – единственный способ для ребенка обратить на себя внимание, заставить себя слушать, потратить на него время и силы. Думается, очень многие из нас могут вспомнить эпизоды из детства, когда ты вдруг обнаруживаешь, что с помощью обиды можешь заставить взрослых перестать злиться, уделить тебе время и просто взять на руки, приласкать. Нужно сказать, что очевидный низкий статус в сообществе заставляет нас ярко обижаться и во взрослом состоянии. Например, каждый из нас хотя бы раз в жизни встречался с очень обидчивыми сотрудниками, которые переживают свой статус как низкий. Ключевое слово – «переживают», потому что выполняемая роль (вахтер, дворник, курьер) может быть действительно для кого-либо непрестижной, но иногда конкретный человек, выполняющий данные обязанности, может свой статус воспринимать как высокий и, как следствие, не обижаться, а своим поведением и отношением даже поднимать статус и престиж работы. Обида «низкостатусного» сотрудника или лица на «непрестижной» работе возникает и развивается, если у человека нет иных способов повысить свой статус до статуса личности, «имеющей право влиять на происходящее». Здесь необходимо хотя бы упомянуть важность того, чтобы наша автоматическая вина при виде обиженных больных, слабых и низкостатусных членов сообщества оставалась с нами и дальше. Она делает нас социальными существами, заставляет заботиться о детях, стариках и других слабых. С такой точки зрения важно не изолировать их от более сильных и высокостатусных. Правда, излишне акцентировать это тоже не стоит. У нас очень пластичная психика, и автоматизмы в ней не вечны.
Уязвимая позиция
Уязвимость возникает в ситуации большой откровенности или открытости, незащищенности. Например, когда партнер знает твои больные и слабые места, когда твои чувства открыты и беззащитны. К подобным относятся также ситуации, в которых не работают или отключены постоянно действующие психологические защиты. Например, общение учитель-ученик, в котором каждое слово учителя имеет для ученика особое значение и отключена обычно включенная у взрослого человека защита обесценивания (то, что чаще всего называют «критическим мышлением»). В обычной ситуации, прежде чем принять что-либо новое на веру, мы вначале отодвигаем это от себя, лишаем статуса «правдивого факта», чтобы оценить со своей точки зрения, «объективно»6. Если авторитетная фигура наделена особым статусом непререкаемости или истинности, то даже неосторожное слово может в прямом смысле уязвить, то есть нанести глубокую рану и остаться обидой на десятки лет. В безоговорочно уязвимой позиции находятся по отношению к друг другу любящие люди, супруги, родители, дети, друзья. В такой же безоговорочно уязвимой позиции пребывает больной в отношении врача.
Стоит особо выделить позиции – психолог и клиент. Терапевтические отношения7 в психологическом консультировании предполагают открытость и беззащитность (отсутствие защит) с обеих сторон. Уязвимы и клиент, и психолог. В некоторых психологических подходах считается, что психолог не должен раскрываться личностно, а обязан оставаться в профессиональной позиции, которая в разных подходах предполагает разную степень усеченности эмоций, экспрессии, искренности, вовлеченности и т. п. В реальной жизни такая защищенность и невключенность получается редко даже у представителей психоанализа или когнитивно-поведенческого подхода. В гуманистически ориентированных подходах личность психолога, а значит, его эмоции, мировоззрение, представление о том, что приемлемо и что неприемлемо, что обидно и что не обидно, является рабочим инструментом. Соответственно, в такого рода подходах психолог особенно уязвим. Обида в уязвимой позиции практически неизбежна, не стоит даже пытаться ее предотвратить. Хотя помнить о такой возможности, как и о том, что клиент все-таки более уязвим, несомненно, стоит. К счастью, сама ситуация близости, искренних и открытых отношений позволяет быстро прощать и лечить обиды.
В каждой ситуации бывают свои особенности и дефициты ресурса. Мы описали базовые варианты. Необходимо помнить, что, если имеются признаки таких ситуаций, то, скорее всего, человек может испытывать обиду. С этой точки зрения, обидчивость у детей и пожилых можно снизить, если подчеркивать их высокий статус.
Если человек чувствует себя уверенным, сильным и защищенным, он не обижается. Он или не замечает неправильных действий со стороны других в отношении себя, или немедленно их прощает, или гневается открыто (но про гнев мы как-нибудь напишем отдельно).
ВВЧ: Как, на ваш взгляд, можно было бы восполнить другие формы дефицитов и снизить обидчивость?
2. Наличие настоятельной потребности, удовлетворяемой только в конкретном взаимодействии (реально или иллюзорно)Обида возникает, когда человеку отказывают в удовлетворении такой потребности. При этом данная потребность и способы ее удовлетворения должны быть приняты и одобрены большинством членов сообщества. Например, отношения маленького ребенка и мамы. Все знают, что временами ребенок хочет оказаться на руках именно у мамы, и никакие другие руки его не устраивают. Самые нежные объятия бабушки или папы все равно вызывают дикий обиженный рев и крик «Хочу к маме!» Нам понятно, что для такого поведения у ребенка есть не только психологические, но и физиологические обоснования, и его потребность наилучшим образом удовлетворяется именно – и только – в таком взаимодействии с мамой8. И чем больше людей согласны с тем, что мама должна брать ребенка на руки, когда он того так страстно желает, тем сильнее обида у ребенка, если ему отказывают в этом. По мере взросления, по мере того как уменьшается чисто физиологическая часть потребности ребенка в маме, психологическая тоже слабеет и все больше становится иллюзорной. С возрастом ребенок обнаруживает, что и папины, и бабушкины объятия достаточно хорошо успокаивают. Но ему может по-прежнему казаться, что именно мама должна удовлетворять его потребность в близости. Здесь дело уже не в потребности, а в законах, правилах, в том, «как должна вести себя хорошая, достойная мать». Особенно если вокруг много людей, которые тоже так считают. Если по каким-либо причинам потребность ребенка в именно этой близости с матерью при таком окружении не удовлетворяется, то возможно возникновение очень стойкой, глубокой и обширной обиды, причем не только на маму, но и на всех остальных людей и даже на весь мир. Такими обидами занимаются современные теории привязанности (Дж. Боулби, Л.В. Петрановская) [16, 42]. Что интересно, в сообществах, где длительное теплое общение с матерью не считается необходимым, обида на отказ в удовлетворении этой потребности не возникает или, по крайней мере, не фиксируется надолго9.