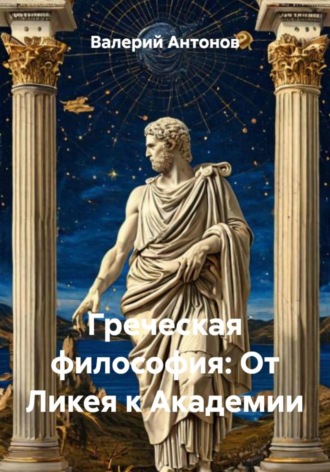
Полная версия
Греческая философия: От Ликея к Академии
Прообраз научного метода: Карнеад как предтеча современной науки
Параллель, которую проводят М. Бернетайс и другие исследователи, не является поверхностной. Она reveals глубокое структурное сходство.
· Гипотеза и фальсифицируемость: Представление на уровне pithanē – это аналог научной гипотезы. Оно изначально считается лишь правдоподобным, а не истинным. Процесс проверки на уровнях aperispastos и diexōdeumenē – это, по сути, попытка фальсификации. Ученый (и скептик) ищет не подтверждения, а противоречий. Если представление успешно выдерживает попытки его «опрокинуть» непротиворечивыми контр-данными, его вероятностный статус повышается.
· Когерентность как критерий: Наука не имеет доступа к «истине в себе»; она оперирует моделями, которые должны быть логически непротиворечивы и когерентны с массивом установленных данных (уровень 3 у Карнеада). Научная теория принимается не потому, что она «доказана», а потому, что она является наиболее pithanon, aperispaston и diexōdeumenon объяснением из всех доступных на данный момент. Как и у Карнеада, это знание является гипотетическим и исправимым.
· Прагматический успех: И наука, и карнеадовский скептик в конечном счете апеллируют к прагматическому критерию. Если теория позволяет строить работающие механизмы, предсказывать явления и действовать эффективно (как вода утоляет жажду), это является веским, хотя и не абсолютным, аргументом в ее пользу. Это знание-как-инструмент, а не знание-как-созерцание-истины.
Карнеад предложил миру высокоразвитую модель рациональности. Его философия – это мост между античной спекулятивной метафизикой и современным критическим, научным мировоззрением. Он показал, что можно быть последовательным, активным и разумным, признавая фундаментальную неопределенность мира и конечную ограниченность нашего познания. В этом его величайшее наследие: скепсис перестал быть тупиком и стал путем к обоснованной, ответственной и практической мудрости.
1. Трехуровневая система «Питанон»: От Импрессии к Обоснованному Действию
Эпистемологическая значимость трех ступеней.
· Уровень 1: Просто вероятное представление (pithanē phantasia): Это базовый уровень любого восприятия. Представление просто «кажется истинным». Например, в тумане вы видите силуэт, который кажется вам человеком. На этом уровне оснований для действия крайне мало, так как вероятность ошибки высока. Карнеад признавал, что сами по себе ощущения ненадежны, и это отправная точка скепсиса.
· Уровень 2: Вероятное и непротиворечивое (aperispastos – «неопрокидываемое»): Это уровень контекстуальной проверки. Вы продолжаете наблюдать за силуэтом: он движется как человек, у него две ноги, две руки. Эти новые, поступающие одно за другим, представления согласуются с первоначальным. Они образуют непротиворечивый «пучок» восприятий. Силуэт все еще может оказаться манекеном или кустом, но теперь для этого потребовалось бы более сложное объяснение, нарушающее складывающуюся когерентную картину. Этот уровень уже дает существенные основания для действия (например, окликнуть его).
· Уровень 3: Вероятное, непротиворечивое и проверенное (diexōdeumenē – «исследованное»): Это уровень системной проверки, высшая степень вероятности, доступная скептику. Вы не только наблюдаете, но и активно взаимодействуете с объектом: вы окликаете его, и он отвечает; подходите ближе и различаете черты лица; протягиваете руку для рукопожатия. Каждое новое действие порождает новые восприятия, и все они согласуются друг с другом, укрепляя исходную гипотезу. Представление становится «проверенным» всей совокупностью доступного опыта.
Важнейший нюанс, который подчеркивает М. Фреде в «The Cambridge History of Hellenistic Philosophy»: даже на третьем уровне мудрец не дает своего «согласия» (synkatathesis) в том смысле, что это является несомненной истиной. Он действует в соответствии с этим хорошо проверенным представлением, но сохраняет осознание его принципиальной возможности быть ложным (например, это мог бы быть невероятно реалистичный андроид). Таким образом, Карнеад проводит четкую грань между теоретической невозможностью достоверности и практической необходимостью действовать на основе наилучшего из доступных оснований.
2. Полемический и Практический Контекст.
· Ответ стоикам: Эта теория была прямым ответом на стоический критерий. Карнеад показывал, что для жизни не требуется «каталептическое представление». Достаточно иерархии вероятностей, причем система проверки на непротиворечивость сама по себе является формой рациональности, более сложной, чем простая опора на «очевидность».
· Основа для риторики и этики: Карнеад знаменит тем, что в Риме он прочел две речи – одну за справедливость, другую – против, демонстрируя, что по любому сложному вопросу можно построить равносильные вероятностные аргументы (in utramque partem). Его теория питанон предоставляла инструмент для оценки силы этих аргументов: какая из позиций более «непротиворечива» и «проверена» в контексте конкретной ситуации? Это делало его скепсис мощным орудием не только в теории познания, но и в практической жизни, праве и морали.
Триумф и Самопреодоление Академического Скепсиса.
Карнеад стал вершиной и одновременно кризисом скептицизма в Академии. Его философия была столь совершенна, что в ней уже содержались зачатки ее собственного разрушения.
Детализация тезиса:
1. Конструктивная Позиция: Скепсис как Зрелая Рациональность.
Карнеад завершил превращение скепсиса из метода чистой критики (эленхоса) в полноценную эпистемологическую и этическую систему. Он дал ответ на все ключевые вызовы:
· Проблема apraxia: Решена через иерархию вероятного.
· Требование рациональности: Реализовано через процедуру проверки на непротиворечивость.
· Отсутствие догм: Сохранено через принципиальный отказ от окончательного «согласия» (synkatathesis).
Это была не просто защита, а альтернативная модель знания – знание как обоснованная вероятность, а не как слепая вера или недостижимая абсолютная истина.
2. Внутреннее исчерпание: Парадокс «Догматического Скепсиса».
Однако именно совершенство этой системы породило новые проблемы, которые вскрыли ее внутренние противоречия.
· Статус самой теории «питанон»: На каком основании сам Карнеад утверждает, что его трехуровневая система является наилучшим руководством к действию? Является ли сама эта теория лишь pithanon, или же она претендует на некий более высокий статус? Если она всего лишь вероятна, то почему ей следует доверять как фундаменту? Если же она обоснована надежно, то Карнеад сам становится догматиком, утверждающим некое позитивное знание о том, как работает познание. Этот круг был труднопреодолим.
· Практическая необходимость как скрытый догматизм: Чтобы жить и действовать последовательно в соответствии с теорией вероятности, скептик de facto должен вести себя так, как если бы проверенные представления были истинными. Эта практическая необходимость постепенно размывала жесткость epochē. Тонкая грань между «действовать на основе X» и «верить, что X истинно» на практике оказалась очень зыбкой.
3. Возрождение догматического платонизма: Филон из Ларисы и Антиох из Аскалона.
Кризис проявился в деятельности последних схолархов Новой Академии.
· Филон из Ларисы попытался смягчить радикализм, заявив, что, хотя знание о вещах в себе недостижимо, мы можем иметь уверенность (katalēpsis) в наших восприятиях для практических целей. Это был шаг назад от Карнеада и уступка догматизму.
· Антиох из Аскалона совершил окончательный разрыв. Он провозгласил, что расхождения между Академией, Ликеем и Стоей – лишь терминологические, и что истинное учение Платона является по сути догматическим и совпадает с учением стоиков и перипатетиков. Он объявил о «возвращении к Древней Академии», что на деле означало отказ от скептической традиции и возрождение догматического платонизма, который впоследствии расцвел в среднем платонизме.
Историко-философский итог:
Таким образом, эволюция Академии от Платона до Антиоха описывает грандиозную диалектическую триаду:
· Тезис: Догматизм Древней Академии (систематизация Платона).
· Антитезис: Радикальный скепсис Средней и Новой Академии (критика догм и разработка вероятностной эпистемологии).
· Синтез: Возрождение догматизма на новом уровне, обогащенное скептической критикой и потому более изощренное.
Скепсис Карнеада был высшей точкой развития критической мысли в Античности. Он выполнил свою историческую задачу, очистив платонизм от наивного догматизма, и, исчерпав себя, уступил место новой форме философии, которая могла утверждать, уже пройдя через горнило тотального сомнения. В этом его величайшее значение.
Общий вектор эволюции Академии и ее роль как интеллектуального катализатора.1. Историография вопроса о связи Академического и Пирронического скепсиса.
Сторонники тезиса о прямом или значительном влиянии.
Эта позиция была более характерна для классической историографии XIX – начала XX века и основывалась на очевидном хронологическом и аргументативном сходстве.
1. Эдуард Целлер (1814—1908): В своей фундаментальной «Die Philosophie der Griechen» Целлер рассматривал развитие скепсиса как единую линию. Он видел в Академическом скепсисе непосредственную стадию эволюции, ведущую к Пирронизму. Для него Аркесилай и Карнеад были прямыми преемниками скептической традиции, которая после упадка Новой Академии была подхвачена и систематизирована Энесидемом.
2. Виктор Брошар (Victor Brochard, 1848—1907): В работе «Les Sceptiques grecs» (1887) Брошар также отстаивал идею преемственности. Он считал Энесидема прямым наследником академической традиции, который возродил скепсис, придав ему более систематическую форму.
3. Родни Нидхэм (Rodney Needham, 1923—2006): В своих более поздних работах, посвященных верованиям, он также отмечал прямую линию преемственности, видя в скепсисе единый культурный феномен.
Их аргументы: Хронологическая последовательность (Академия приходит в упадок, а пирронизм возрождается), использование схожих аргументов против догматиков (например, тропы о различии восприятий) и общая цель – опровергнуть догматические претензии на знание.
Сторонники тезиса о сложной и опосредованной связи (современный консенсус).
Начиная со второй половины XX века, благодаря более глубокому изучению источников (особенно Секста Эмпирика), этот взыл был пересмотрен. Ключевой фигурой здесь является сам Секст, который прямо и яростно отрицает тождественность академиков и пирронистов.
1. Майлз Бернетайс (Myles Burnyeat): В своей знаменитой статье «Can the Sceptic Live His Scepticism?» (1980) и других работах, Бернетайс провел фундаментальное разграничение. Он подчеркнул, что академический скепсис – это прежде всего эпистемологическая доктрина (учение о невозможности знания), в то время как пирронизм – это «образ жизни» (agoge), где скепсис является путем к достижению душевного покоя (ataraxia). Для Бернетайса, утверждение академиков «Знание невозможно» – само является догмой, что недопустимо для пирроника.
2. Р. Дж. Ханкинсон (R.J. Hankinson): В своей книге «The Sceptics» (1995) Ханкинсон детально анализирует аргументы Секста против Академии. Он показывает, что с точки зрения пирронизма, академики – это «негативные догматики» (dogmatikoi), так как они уверенно утверждают нечто о состоянии вещей (а именно, что оно непознаваемо). Истинный пирроник воздерживается от суждения даже по этому вопросу.
3. Джеймс Аллен (James Allen): В работах, посвященных Энесидему, Аллен утверждает, что возрождение пирронизма в I в. до н.э. было сознательной реакцией и отталкиванием от Академии, в частности, от учения Филона из Ларисы, которое казалось Энесидему отступлением от чистого скепсиса. Таким образом, пирронизм формировался не под влиянием, а в полемике с Академией.
4. А. А. Лонг (A.A. Long) и Д. Н. Седли (D.N. Sedley): В их авторитетной двухтомной работе «The Hellenistic Philosophers» (1987) также проводится четкое различие между двумя школами. Они акцентируют, что, хотя академики и использовали скептические аргументы, их цель была иной – победа в споре с стоиками, а не достижение личной атараксии.
Их аргументы:
· Фундаментальное различие в цели: Академия – критиковать догматиков; Пирронизм – обрести душевный покой.
· Отношение к утверждениям: Академики утверждают, что знание невозможно (догма); Пирроники воздерживаются от всех утверждений, включая это.
· Свидетельство Секста Эмпирика: Прямые и пространные пассажи, где он доказывает, что академики – не истинные скептики («Пирроновы положения», Кн. I, §1—3, 220—235).
Компромиссная позиция.
Сегодня большинство исследователей придерживаются сбалансированной точки зрения:
Да, влияние существовало, но оно было опосредованным и сложным.
· Косвенное влияние: Академия создала интеллектуальную среду, насыщенную скептическими аргументами, которыми пирронисты могли пользоваться.
· Влияние через полемику: Пирронизм во многом определил себя через отрицание и разграничение с Академическим скепсисом. Академия была главным «оппонентом-двойником», споры с которым помогли пирронизму кристаллизовать свою собственную, более радикальную позицию.
· Заимствование аргументов, но не сути: Пирронисты могли использовать конкретные «тропы» и логические конструкции, разработанные академиками, но вкладывали в них иной, нефундационалистский смысл и ставили их на службу иной жизненной цели.
Таким образом, утверждение о «прямом влиянии» ошибочно, но и отрицать всякую связь нельзя. Отношения между двумя школами были не линией преемственности, а сложным диалогом и сознательным самоотталкиванием.
Утверждение о прямом влиянии Академии на формирование пирронизма требует серьезной детализации и уточнения, так как современная наука видит эту связь как более опосредованную и сложную.
2. Сложная диалектика взаимоотношений Академического и Пирронического скепсиса.
На основе детального анализа, проведенного с опорой на современных исследователей (Ханкинсон, Лонг и Седли, Бернетайс) и первоисточники (Секст Эмпирик), можно сформулировать следующий окончательный вывод, который развивает и уточняет исходный тезис:
1. Тезис верен в своей первой части: Академия проделала уникальный путь от догматизма к скепсису. Эволюция от метафизических систем Древней Академии к эпистемологической критике Средней и конструктивной вероятностной эпистемологии Новой Академии – это исторический факт, блестяще проанализированный еще Целлером и подтвержденный современной наукой. Роль Академии как «интеллектуального катализатора», заставившего стоиков и другие школы радикально пересматривать и укреплять свои теории познания, также не вызывает сомнений.
2. Однако вторая часть тезиса о «прямом влиянии» на пирронизм нуждается в кардинальном уточнении. Современная наука отвергает модель простой преемственности, выдвигая на первый план модель «сложной диалектики и самоопределения через отрицание».
Ключевые аргументы для уточнения:
· Фундаментальное различие в целях (Телеология):
o Академический скепсис был, прежде всего, полемическим оружием в борьбе с догматиками, особенно со стоиками. Его цель – победа в споре, демонстрация слабости оснований чужой доктрины.
o Пирронический скепсис был, прежде всего, экзистенциальной терапией. Его цель – достижение личной невозмутимости (ataraxia) через воздержание от суждений (epochē). Критика догм здесь – не самоцель, а средство для обретения душевного покоя.
· Эпистемологический статус: Адогматизм против Негативного Догматизма:
o Пирронизм стремится к радикальному адогматизму. Пирроник не утверждает ничего, включая утверждение «ничего нельзя познать». Он воздерживается от суждения, оставаясь в состоянии вечного поиска (zetesis).
o Академический скепсис, с точки зрения Секста Эмпирика, является «негативным догматизмом». Утверждая, что «знание невозможно» (katalēpsis), академики делают сильное догматическое заявление о природе реальности. Для пирроника это так же догматично, как и утверждение стоиков, что знание возможно.
· Свидетельство Секста Эмпирика как решающий аргумент: Пирроническая традиция сама ясно и осознанно проводила эту границу. Секст не просто констатирует различие, а атакует Академию как своего главного идеологического противника, чья позиция опасна для чистоты скептического образа жизни.
Современная модель влияния: не «прямое», а «опосредованное и полемическое».
Таким образом, правильнее говорить не о прямом влиянии, а о трехслойной опосредованной связи:
1. Интеллектуальный фон: Академия создала среду, в которой скептические аргументы стали общим достоянием. Пирронизм возник в этом «скептическом поле».
2. Полемический стимул: Академия стала для пирронистов негативным ориентиром. Необходимость дистанцироваться от «половинчатого» скепсиса Академии была мощным стимулом для кристаллизации более радикальной и последовательной пирронической доктрины.
3. Заимствование инструментов, но не доктрины: Пирронисты могли использовать и систематизировать конкретные аргументы (тропы), разработанные или популяризированные академиками, но встраивали их в принципиально иную философскую систему с иной конечной целью.
Эволюция Академии – это не прямая дорога к пирронизму, а мощная самостоятельная ветвь развития скептической мысли. Ее историческая роль по отношению к пирронизму заключается не в том, чтобы быть его «предшественником», а в том, чтобы быть его «оппонентом-катализатором», в споре с которым пирронизм обрёл свою уникальную идентичность. Поэтому исходный тезис верен в констатации исторического пути Академии, но требует существенной корректировки в части его отношений с пирронической традицией.
Часть II: Три пути к счастью: Великие школы эллинизма.
Глава 3: Сад Эпикура: Физика как основа безмятежности
Ключевое свойство: Терапевтический и эвдемонистический характер философии Эпикура.
Это свойство означает, что вся философская система Эпикура была задумана не как отвлечённое умозрение, а как практическое средство (терапия) для достижения конкретной цели – счастья (эвдемония), понимаемого как состояние полной безмятежности души (атараксия) и отсутствия телесной боли (апония).
Современное дополнение: Исследователи, такие как Марта Нуссбаум в своей фундаментальной работе «The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics» (1994), прямо называют подход Эпикура и других эллинистических школ «терапией желаний». Нусбаум проводит параллель между философией и медициной: как врач лечит тело, так философ лечит душу, используя логические аргументы и упражнения (askesis) для искоренения «болезненных» мнений и страстей. Эпикур, по её мнению, был одним из самых радикальных «терапевтов», поскольку его лечение было направлено на полное устранение целых категорий тревог (например, страха перед богами и смертью).
Детализация по разделам учения:
1. Физика (учение о природе) как терапия против страхов.
· Определение: Эпикурейская физика, основанная на атомизме Демокрита, – это не просто описание устройства вселенной. Это инструмент, призванный дать человеку единственно правильное, «безболезненное» объяснение природных явлений, чтобы избавить его от главных источников тревоги.
· Подробное дополнение на основе современных источников:
o Против страха перед богами: Эпикур утверждал, что боги – это бессмертные и блаженные существа, состоящие из тончайших атомов, обитающие в межмировых пространствах (metakosmia). Они абсолютно безразличны к человеческим делам, так как любое вмешательство в мир нарушило бы их блаженство и безмятежность. Современный исследователь Дэвид Седли в работе «Creationism and Its Critics in Antiquity» (2007) подчёркивает, что эпикурейская теология была прямой реакцией на платоно-аристотелевскую модель божественного провидения. Для Эпикура вера в богов, которые карают или награждают, была главным источником суеверного ужаса. Его физика доказывает, что такие боги – логическое противоречие, и тем самым «лечит» душу от этого страха.
o Против страха смерти: Ключевой аргумент: «Смерть для нас – ничто: ведь когда мы есть, смерти ещё нет, а когда смерть наступает, нас уже нет». Физика обосновывает это тем, что душа – материальна (состоит из особых, тонких атомов) и смертна. Со смертью тела она рассеивается, и всякая способность к ощущению (а следовательно, и к страданию) прекращается. Тим О'Кифи в книге «Epicurus on Freedom» (2005) анализирует этот аргумент не только как логический, но и как терапевтический. Цель – не просто убедить разум, но и вызвать глубокое эмоциональное изменение: если смерти нечего бояться, то исчезает основа для огромного пласта человеческой тревоги, связанной с загробной жизнью, божественным судом и небытием.
o Против страха перед небесными явлениями: Эпикур настаивал, что гром, молнии, затмения и т. д. имеют естественные, а не божественные причины. Причём, поскольку мы не можем знать их точную причину, следует допускать множество возможных естественных объяснений. Как отмечает Пьер-Мари Моро в своих комментариях к Эпикуру, этот метод «множественных объяснений» (pleonachos tropos) сам по себе является терапией: он освобождает от необходимости искать единственный, возможно, угрожающий, «божественный» смысл явления.
2. Каноника (учение о познании) как терапия против заблуждений.
· Определение: Каноника (или логика) Эпикура – это критериология, учение о критерии истины. Её цель – обеспечить надёжный фундамент для знания, чтобы человек мог отличать истинные суждения от ложных и тем самым избегать ошибок, ведущих к страданиям.
· Подробное дополнение на основе современных источников:
o Чувства как основа достоверности: Эпикур считал, что все наши ощущения (aistheseis) истинны, поскольку являются непосредственным результатом воздействия материальных «образов» (eidola), истекающих от вещей. Заблуждения возникают не в ощущениях, а в наших «мнениях» (doxai), которые мы добавляем к ним. Как пишет Джеймс Уоррен в «The Cambridge Companion to Epicureanism» (2009), эта сенсуалистическая теория была прямым ответом на скептицизм. Если чувствам можно доверять, то у человека есть твёрдый критерий для проверки своих убеждений о мире. Это терапевтично, так как избавляет от скептического смятения и даёт уверенность.
o «Пролепсис» (предвосхищение) как критерий значения: Пролепсис – это общее понятие, сформированное в памяти на основе многократных чувственных восприятий (например, понятие «человек», «благо»). Он позволяет нам узнавать вещи и общаться. С терапевтической точки зрения, пролепсис является ключом к правильному пониманию таких понятий, как «бог» и «смерть». Наш пролепсис «бога» – это существо блаженное и бессмертное, что сразу опровергает народные представления о гневных богах. Таким образом, каноника предоставляет инструмент для «самодиагностики» собственных ложных убеждений.
3. Этика (учение о благе) как терапия против неправильных желаний.
· Определение: Этика Эпикура – это квинтэссенция его терапии, прямое руководство по достижению атараксии через разумное управление желаниями.
· Подробное дополнение на основе современных источников:
o Тетрафармакос (Четверолекарствие): Эта знаменитая формула является готовым терапевтическим афоризмом:
1. Не страшно бог. (Вывод из физики).
2. Не страшно смерть. (Вывод из физики).
3. Благо легко достижимо. (Вывод из анализа желаний).
4. Зло легко переносимо. (Вывод из сравнения телесной и душевной боли). Кэтрин Уилсон в «How to Be an Epicurean» (2019) интерпретирует тетрафармакос как действенный мнемонический и психотерапевтический приём, который ученик должен был повторять, чтобы усвоить основные установки учения.
o Классификация желаний: Разделение желаний на естественные и необходимые (еда, питьё, кров), естественные, но не необходимые (изысканная пища) и пустые (власть, богатство, слава) – это диагностический инструмент. Современный экономист и философ Джон Стерба в своих работах видит в этом предвосхищение современных теорий о «нематериальном» счастье. Терапия заключается в том, что, удовлетворяя только первые, человек достигает апонии и атараксии, тогда как погоня за пустыми желаниями ведёт к бесконечной тревоге и страданиям.
o Дружба как социальная терапия: Вопреки стереотипу об эпикурейском эгоизме, дружба (philia) занимала центральное место в его «Саду». Митчелл Миллер и другие исследователи argue, что для Эпикура дружба была главной формой «безопасности» (asphaleia), альтернативной политической карьере и общественным благам. В кругу друзей человек получает эмоциональную поддержку, чувство защищённости и возможность совместно практиковать философию, что напрямую служит укреплению душевного здоровья и безмятежности.











