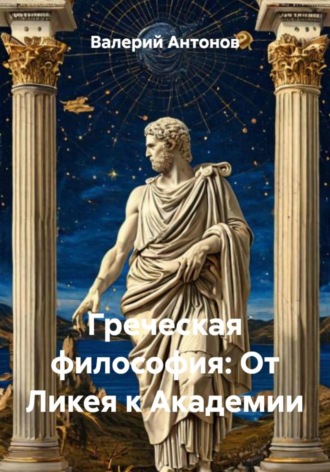
Полная версия
Греческая философия: От Ликея к Академии
o Как пишет Леоно Таран в «Speusippus of Athens», это была попытка избежать редукционизма – сведения всего многообразия бытия к одному-единственному типу сущности (будь то Идеи или материальные элементы).
· Роль математики: Числа и геометрические величины – не просто первые в ряду сущностей, а архитектонические принципы. Они являются тем каркасом, той формой, которая организует последующие уровни. Душа есть «число» не в смысле счетности, а в смысле обладания внутренней гармоничной структурой и самодвижущимся ритмом. Чувственный космос упорядочен благодаря геометрическим пропорциям.
3. Оценка: «Научная» метафизика и ее недостатки
· Сила системности: Система Спевсиппа была впечатляющей попыткой построить всеобъемлющую и внутренне непротиворечивую картину мира, основанную на ясных и дискретных началах. Она избегала многих логических ловушек раннего платонизма.
· «Безжизненное схематизирование»: Критика, восходящая еще к Аристотелю выше подмеченная нами, заключается в том, что эта система лишена телеологии (целевой причины) и, как следствие, жизненности. Если у Платона мир стремится к Благу, то у Спевсиппа он просто разворачивается по необходимости из начал. Этика оказывается оторванной от метафизики. Такой подход, с одной стороны, выглядел строго и «научно», но с другой – не мог дать ответа на экзистенциальные вопросы о смысле и цели человеческой жизни, которые были столь важны для Платона.
Философия Спевсиппа представляет собой самостоятельный и мощный метафизический проект. Его радикальный отказ от теории Идей и построение многоуровневой, математически детерминированной онтологии демонстрируют попытку решить внутренние проблемы платонизма его времени. Однако именно эта жесткая, дегуманизированная системность и стала той «догмой», которая в следующем поколении вызвала мощную скептическую реакцию Аркесилая, искавшего в философии не столько окончательные ответы, сколько чистоту незамутненного критического поиска.
Ксенократ: Догматический синтез и канонизация.Суть проекта Ксенократа: не радикальный пересмотр, как у Спевсиппа, а упрочение и канонизация наследия Платона через его догматизацию. Его система стала мостом между открытым диалогом Платона и жесткими схемами последующего платонизма.
1. Восстановление и Систематизация: Создание «Школьного Платонизма».
· Реакция на Спевсиппа: Ксенократ осознавал радикальный и, возможно, чрезмерный новаторский характер философии своего предшественника. Его целью было вернуть платонизм в русло учения основателя, но придать ему такую форму, которая была бы удобна для преподавания и защиты. Как пишет Джон Диллон, Ксенократ действовал как «верный хранитель наследия», но его верность выражалась в создании догматического каркаса.
· Канонизация «Неписаных учений»: Если Спевсипп развивал математическую линию платонизма творчески и независимо, то Ксенократ инкорпорировал учение о Едином и Неопределенной Двоице в формальную структуру теории Идей. Он стремился показать, что все элементы наследия Платона – и диалоги, и устные учения – составляют единую, непротиворечивую систему.
2. Триадическая Онтология: Структурирование Вселенной.
· Идеи-Числа: Важно уточнить природу отождествления Идей с числами. Для Ксенократа это не было простой метафорой. Каждая Идея была онтологическим числом, то есть структурным принципом и мерой. Идея-Число «Лошади» – это не цифра, а некий архетипический «логос», определяющий все экземпляры лошадей. Эта концепция, как показывает Г. Чернисс, была попыткой решить проблему связи мира Идей и мира вещей, но на деле создавала новые сложности, так как природа таких «идей-чисел» оставалась крайне туманной.
· «Небо» (οὐρανός) как теологическая и космологическая инновация: Эта промежуточная сфера – ключевое нововведение Ксенократа, имевшее огромные последствия.
o Функция моста: Она разрешала платоновскую дихотомию. Чувственный мир слишком изменчив, Умопостигаемый – слишком трансцендентен. «Небо» же, будучи видимым и вечно круговращающимся, но при этом математически упорядоченным, идеально подходило на роль посредника.
o Обитель богов: Отождествляя звезды и планеты с богами, Ксенократ, по сути, разрабатывал платоническую теологию и демонологию. Он дал физическое (астрономическое) обоснование существованию божественных существ, что делало платонизм конкурентоспособным в области религии. Эта доктрина напрямую повлияла на последующие спекуляции о «мировой душе» и иерархиях божественных сущностей в среднем платонизме и неоплатонизме.
3. Определения и Этика: Формализация философского дискурса.
· Сила определений: Давая четкие определения («Идея – парадигматическая причина…", «Душа – самодвижущееся число»), Ксенократ выполнял работу школьного философа, создавая лексикон и набор доктринальных формул, которые ученики могли заучивать и использовать в дискуссиях. Это был важный шаг в профессионализации философии.
· Концепция «согласия с собой» (homologia), разработанная в Академии, стала прямым предшественником стоического идеала «жизни в согласии с природой» (homologoumenōs tē physei zēn). Согласно Ксенократу, homologia подразумевала достижение внутренней цельности и гармонии разумного существа, которое действует в соответствии с разумным порядком космоса. Таким образом, разработки платоновской Академии непосредственно повлияли на формирование центральных этических принципов стоицизма.
Почему Ксенократ стал «каноном»?
В отличие от эксцентричной и сложной системы Спевсиппа, синтез Ксенократа был более доступным, всеобъемлющим и идеологически удобным. Он:
· Сохранил теорию Идей (пусть и в модифицированной форме).
· Предложил ясную трехуровневую картину мира.
· Интегрировал теологию и космологию.
· Сформулировал практическую этику.
Именно эта догматическая завершенность и сделала его систему уязвимой. Претендуя на окончательные ответы, она дала последующим скептикам в лице Аркесилая четкие цели для критики. Таким образом, Ксенократ, стремясь укрепить платонизм, своими догматами невольно подготовил почву для величайшего скептического кризиса в истории Академии.
Почему это привело к скепсису? Анализ трех факторов
Догматизм Древней Академии стал катализатором скепсиса, является центральным для понимания всей истории платонизма. Этот поворот был не случайным отклонением, а закономерной реакцией.
1. Неубедительность: Уязвимость догм перед внешней критикой
Догматические системы Спевсиппа и Ксенократа выдвигали сильные онтологические утверждения, которые не могли быть удовлетворительно верифицированы.
· Критика со стороны Аристотеля и Перипатетиков: Аристотель, бывший член Академии, в своей «Метафизике» подверг жесткой критике как теорию Идей Платона, так и ее развития у преемников. Он указывал на логические несообразности:
o «Третий человек»: Проблема, которую Спевсипп пытался обойти, отказываясь от Идей, но его собственная система с числами была уязвима для аналогичных вопросов.
o Хорисмос (отделение): Аристотель атаковал саму идею отдельно существующих умопостигаемых сущностей (Идей-чисел), спрашивая, как именно они влияют на чувственный мир. Ответы Ксенократа («парадигматическая причина») казались метафорическими и не удовлетворяли требованиям логической строгости.
· Вызов со стороны Стоиков: Возникшая в III веке до н. э. Стоя предложила альтернативную, материалистическую и в высшей степени догматическую систему. Их учение о каталептическом представлении (katalēptikē phantasia) как критерии истины стало новым вызовом. Аркесилай понял, что догмы Древней Академии не выдерживают конкуренции с этой новой, более разработанной теорией познания. Чтобы защитить дух Платона, нужно было не защищать слабые догмы, а атаковать саму возможность догматического знания.
2. Противоречивость: Кризис легитимности внутри Академии.
Самое разрушительное для любой догмы – это наличие равносильной, но альтернативной догмы в рамках той же традиции.
· Несовместимые системы: Ученики Академии видели, что два ее главы, сменявшие друг друга, предлагают радикально разные версии «платонизма».
o Спевсипп: Отрицает Идеи, утверждает примат чисел, отделяет Единое от Блага.
o Ксенократ: Восстанавливает Идеи, но отождествляет их с числами, сохраняет связь онтологии и этики.
o Этот внутренний раскол, как показывает Дж. Диллон, подрывал саму претензию на обладание окончательной истиной. Если сами «наследники» Платона не могут прийти к согласию по фундаментальным вопросам, то, возможно, такое знание в принципе недостижимо?
3. Отрыв от гносеологической осторожности: Предательство духа Платона и Сократа.
Это самый глубокий и идеологический фактор. Аркесилай и его последователи увидели в догматизации измену истинному философскому методу.
· Возврат к Сократу: Для Аркесилая образцом был не «Платон-догматик», сконструированный Ксенократом, а Сократ из ранних диалогов, который лишь задавал вопросы и демонстрировал незнание собеседников, воздерживаясь от позитивных утверждений. Знаменитое «я знаю, что ничего не знаю» стало эпистемологическим идеалом Средней Академии.
· Диалектика против догмы: Платоновские диалоги, особенно такие как «Парменид» или «Теэтет», – это в первую очередь упражнения в диалектике, демонстрация равной силы противоположных аргументов (изостении). Древняя Академия проигнорировала этот критический метод, выхватив из контекста отдельные тезисы и превратив их в догмы. Скептический поворот был, по сути, очищением платонизма от наслоений догматизма и возвратом к его живому, вопрошающему ядру.
Скептический поворот Аркесилая не был разрушением Академии, а, напротив, ее спасением и радикальным обновлением. Столкнувшись с кризисом легитимности своих догм (внешним и внутренним), Академия совершила гениальный ход: она отказалась от проигрышной игры – борьбы за «истинную систему» – и перешла в мета-позицию, начав доказывать, что сама эта игра (догматическая философия) в принципе не может быть выиграна. Это был возврат к истокам, но на новом, более изощренном уровне.
2. Средняя Академия (Аркесилай) – Радикальный скепсис и полемика со стоиками.Определение ключевого свойства: При Аркесилае (ок. 315–240 до н.э.) Академия совершает радикальный поворот к скепсису. Его центральным методом становится не утверждение собственного учения, а критическая полемика, в первую очередь, с догматизмом стоиков, и обоснование принципа «эпохе» – воздержания от суждения.
Подробное дополнение на основе современных источников:
Общий контекст: Скепсис как Академическая Ортодоксия Современные исследователи, такие как А. А. Лонг в «Hellenistic Philosophy» и М. Бернетайс в «The Cambridge Companion to Ancient Scepticism», подчеркивают, что скепсис Аркесилая не был нигилизмом, а сознательной стратегией, возводимой к Сократу и Платону. Он превратил критику в основной философский метод Академии, утверждая, что именно воздержание от суждения (epochē) является высшей формой мудрости, доступной человеку.
1. Полемика с каталептической фантасией: Деконструкция критерия истины.
· Аркесилай не ставил целью доказать, что знание невозможно вообще. Его задача была уже: показать, что стоический критерий истины – «каталептическое представление» – несостоятелен. Если этот критерий падет, то рухнет и все здание стоической догматической системы, построенное на нем.
· Аргумент о неразличимости (аргумент из галлюцинаций и снов): Это был его главный тактический ход. Аркесилай утверждал, что не существует внутреннего маркера, который позволял бы с абсолютной уверенностью отличить истинное каталептическое представление от ложного, но субъективно неотличимого от него.
o Пример: Представление о реальной свече и идентичное ему представление о свече во сне. С точки зрения субъективного переживания, они тождественны. Если стоик утверждает, что каталептическое представление имеет особую «ясность и отчетливость», то Аркесилай спрашивает: а чем «ясность» реальной свечи отличается от «ясности» свечи в ярком, реалистичном сне? Ничем. Следовательно, критерий неработоспособен.
o Как пишет Джеймс Аллен в статье о Карнеаде, Аркесилай, по сути, показал, что любое представление, каким бы убедительным оно ни казалось, может быть ложным. Этой возможности достаточно, чтобы отказать ему в статусе безошибочного критерия.
· Использование «тропов»: Хотя систематизация тропов связана с именем более позднего скептика Энесидема, их логика уже активно использовалась Аркесилаем. Он указывал на:
o Разнообразие живых существ: То, что очевидно собаке (запах), неочевидно человеку.
o Разнообразие людей: То, что кажется истинным одному (врач диагносту), неочевидно другому (профану).
o Влияние обстоятельств: Один и тот же предмет кажется разным в здоровом и болезненном состоянии. Вывод: поскольку у нас нет «привилегированной» точки зрения, чтобы выбрать одно восприятие как истинное, мы должны воздерживаться от суждения.
2. Практический критерий: Решение проблемы «апраксии» (бездействия).
Упрек в том, что скепсис ведет к параличу действия (апраксия), был главным контраргументом догматиков. Ответ Аркесилая был краеугольным камнем его философии жизни.
· «Разумная вероятность» (to eulogon): Важно понимать, что Аркесилай не предлагал «эвлогон» как новый критерий истины. Это был исключительно практический ориентир для действия.
o Отказ от «согласия» (synkatathesis): Мудрец, следуя «разумному», не дает своего интеллектуального согласия с тем, что это представление истинно. Он действует так, как если бы оно было истинным, но сохраняет внутреннюю эпистемологическую неприкосновенность – воздержание от суждения.
o Аналогия с автомобилем: Представьте, что вы едете по туманной дороге. Вы не можете утверждать с абсолютной уверенностью (дать «согласие»), что дорога свободна. Однако наиболее разумно (eulogon) вести машину, исходя из предположения, что она свободна, будучи готовым к тому, что из тумана может возникнуть препятствие. Вы действуете на основе вероятности, а не догмы.
· Сократовские корни: Эта стратегия напрямую восходит к Сократу, который, заявляя о своем незнании, тем не менее, действовал в соответствии с тем, что ему представлялось наиболее правильным (doxa asteia – «верное мнение»). Аркесилай, таким образом, представлял свой скепсис не как разрушительный, а как единственно последовательную форму рациональности, ведущую к невозмутимости (ataraxia), поскольку мудрец свободен от догм, которые неизбежно влекут за собой беспокойство и ошибки.
Аркесилай превратил Академию в мощную критическую силу. Его радикальный скепсис был не концом философии, а ее очищением от необоснованных претензий на знание. Он показал, что можно быть последовательным философом, не имея позитивной догматической системы, и что мудрость заключается не в обладании истиной, а в безупречной чистоте критической мысли. Этот подход, однако, оставлял открытым вопрос о более надежном практическом критерии, что и стало задачей для следующего великого схоларха – Карнеада.
3. Новая Академия (Карнеад) – Учение о вероятности как практический критерий.Определение ключевого свойства: Карнеад (214–129 до н.э.) углубил и систематизировал скепсис Аркесилая, развив учение о вероятности (πιθανόν – питанон) в сложную трехуровневую систему, которая должна была служить надежным практическим ориентиром для действия в условиях отсутствия достоверного знания.
От Защиты к Конструктивной Альтернативе.
Карнеад совершил стратегический поворот в развитии академического скепсиса. Если Аркесилай был гением разрушения догм, то Карнеад стал архитектором, который на руинах догматизма построил пригодное для жизни здание вероятностной рациональности.
1. Диагностика проблемы: Недостаточность «эвлогона» Аркесилая.
Структурная слабость в конструкции Аркесилая. «Эвлогон» был действенным тактическим ответом на упрек в apraxia, но стратегически он оставлял скепсис уязвимым и неполным.
«Эвлогон» (от греч. eulogon – «благоразумный», «разумный») как слишком общий принцип: Проблема обоснования.
· Отсутствие процедуры верификации: Основной недостаток концепции «eulogon» заключается в отсутствии внутреннего механизма для проверки собственной обоснованности. Возникает ключевой вопрос: по каким критериям мы определяем, является ли то или иное соображение «разумным»? У Аркесилая этот выбор, по сути, оставался субъективным и интуитивным. Он не предложил методологии, с помощью которой сам скептик мог бы проанализировать свое представление и аргументированно заключить: «Да, это достаточно разумно, чтобы действовать в соответствии с ним».
· Пример со змеей: Пример идеально иллюстрирует проблему. Бегство при виде змеи действительно кажется eulogon для большинства людей. Однако скептик, следующий лишь этому принципу, оказывается в плену у собственного невежества или общераспространенных мнений (doxa). Его действие рационально лишь в самом общем, житейском смысле, но оно эпистемически несостоятельно, так как не прошло проверку на соответствие реальности. Карнеад же стремился создать систему, которая позволяла бы максимально приблизить «разумное» к «обоснованному», даже в условиях отсутствия достоверности.
· Риск иррациональности: Отсутствие четких критериев «разумности» позволяло применять это понятие к чему угодно, в том числе к предрассудкам и ошибочным умозаключениям. В результате теория Аркесилая не давала возможности отличить обоснованную вероятность от простого и потенциально ложного впечатления.
Необходимость внутреннего критерия для самого действия: Сдвиг в эпистемологии.
· От действия к представлению: Карнеад совершил ключевой сдвиг. Он понял, что проблема лежит не в сфере действия самого по себе, а в качестве ментального содержания, которое предшествует действию и служит его основанием. Вместо вопроса «Как мне действовать разумно?» он поставил вопрос «На основании какого представления мне следует действовать?»
· Эпистемический процесс: Ответ Карнеада заключался в том, что представление должно быть не просто «принято к сведению», а процедурно обработано. Этот процесс – его трехуровневая система – и является тем самым «внутренним критерием». Это не критерий истины, а критерий приемлемости представления для руководства к действию.
1. Уровень 1 (pithanē) отвечает на вопрос: Является ли это представление внутренне последовательным и правдоподобным?
2. Уровень 2 (aperispastos) отвечает на вопрос: Согласуется ли оно с другими моими актуальными восприятиями этого объекта?
3. Уровень 3 (diexōdeumenē) отвечает на вопрос: Согласуется ли оно со всей системой моих релевантных знаний и прошлым опытом?
· От субъективности к интерсубъективной проверяемости: В отличие от интуитивного «эвлогона», процедура Карнеада предполагала активную и многоступенчатую проверку, которую в принципе можно было бы формализовать и воспроизвести. Это делало его теорию не просто личным советом, а общей методологией рационального принятия решений в условиях неопределенности.
Карнеад, по сути, провел фундаментальную реформу академического скепсиса. Он переместил фокус с практики действия (что делать?) на гносеологию представления (на каком основании действовать?). Его теория «питанон» стала не просто заменой «эвлогона», а его логическим развитием и операционализацией, превратив скепсис из философии воздержания в философию обоснованного, хотя и вероятностного, выбора. Это была попытка создать работающую «логику вероятного» для мира, в котором «логика достоверного» оказалась невозможной.
2. Конструктивный ответ: Теория «питанон» как методология.
Карнеад не отказался от скепсиса, но направил его внутрь, на создание иерархии правдоподобия.
Скепсис, применяемый к самим представлениям: Активная эпистемология
Карнеад превратил epochē в активный процесс. Это больше не пассивное воздержание от суждения из-за равной силы аргументов, а проактивная интеллектуальная гигиена.
· От «судить» к «исследовать»: Если классический скептик приходил к epochē как к результату столкновения внешних аргументов, то скептик Карнеада применяет epochē к каждому отдельному представлению до того, как принять его за основу для действия. Он суспендирует согласие, чтобы освободить место для тщательного исследования. Как пишет М. Бернетайс, это переход от скепсиса как состояния к скепсису как методу.
· Трехуровневая система как алгоритм проверки:
1. Pithanē (Правдоподобное): Это «нулевая гипотеза». Любое представление, претендующее на внимание, должно быть хотя бы внутренне непротиворечивым и связным. Бессмысленное или логически невозможное представление отсекается уже на этом этапе.
2. Aperispastos (Непротиворечивое): Здесь вступает в силу принцип когерентности. Представление проверяется не на истинность, а на совместимость с другими представлениями в рамках данной ситуации. Это создает сеть взаимоподтверждающих данных, где вероятность каждого отдельного элемента возрастает за счет его связи с другими. Это аналог перекрестной проверки показаний в суде.
3. Diexōdeumenē (Проверенное): Это уровень системной верификации. Представление проверяется на соответствие не только сиюминутному контексту, но и всей широкой сети имеющихся у субъекта знаний и прошлого опыта. Это введение временнóго и кумулятивного измерения в оценку.
От обороны к наступлению: Скепсис как риторика и практическая мудрость.
· In utramque partem («к обеим частям» или «за и против») как демонстрация метода: Карнеад действительно показывал не просто, что «все возможно», а как именно работать с аргументами. Выступая за справедливость, он демонстрировал, как можно построить высоковероятностный (pithanon) и непротиворечивый (aperispaston) корпус аргументов. Выступая против, он не «опровергал» первую речь, а показывал, что для той же проблемы можно построить альтернативную, столь же вероятностную и непротиворечивую модель. Цель – не нигилизм, а демонстрация того, что рациональное решение часто заключается не в выборе «истины», а в выборе наиболее проверенной и когерентной из доступных вероятностных моделей.
· Скепсис против догматизма на его территории: С этой методологией Карнеад мог вступать в спор с догматиками по любому конкретному вопросу – физике, этике, политике. Он не просто говорил: «Вы не можете этого знать». Он говорил: «Давайте проанализируем ваши основания по моей трехступенчатой системе. Уверены ли вы, что ваше представление непротиворечиво и всесторонне проверено?». Это был переход от тотального отрицания к изощренной, точечной критике, которая была гораздо более разрушительной для догматических систем.
Карнеад, таким образом, совершил эпистемологическую революцию. Он показал, что отказ от категории «истина» не ведет к интеллектуальному параличу, а, напротив, открывает пространство для более сложной, критической и прагматичной работы с знанием. Его «питанон» – это не суррогат истины, а альтернативная эпистемическая ценность, основанная на когерентности, проверяемости и практической эффективности. Это была попытка заменить догматический идеал абсолютной достоверности на скептический идеал максимальной обоснованности, что делает его философию удивительно современной.
3. Практическая полезность: Скепсис как руководство к жизни.
Тезис о преодолении apraxia через «проверенную вероятность» и аналогия с научным методом являются центральными для понимания исторического значения Карнеада.
Решение проблемы apraxia на новом уровне: Рациональность без догмы.
· От «веры» к «обоснованному ожиданию»: Карнеад радикально пересматривает саму основу для действия. Догматик (стоик, перипатетик) действует, давая свое «согласие» (synkatathesis) на то, что его представление истинно. Скептик Карнеада воздерживается от этого финального согласия, но при этом активно действует на основе того, что прошло многоступенчатую проверку. Его действие основано не на вере, а на обоснованном ожидании определенного результата, основанного на прошлом опыте и системной проверке.
· Пример с водой: Пример показывает, что карнеадовский скептик – не парализованный мыслитель, а активный исследователь реальности.
1. Уровень 1 (pithanē): Жидкость в стакане выглядит как вода.
2. Уровень 2 (aperispastos): Она прозрачна, не имеет цвета и запаха, как вода. Эти новые восприятия согласуются с первоначальным.
3. Уровень 3 (diexōdeumenē): В прошлом подобные жидкости утоляли жажду и не причиняли вреда. Это согласуется с общей системой знаний о воде. После этого, хотя теоретическая возможность ошибки сохраняется (это могла бы быть бесцветная, безвязанная жидкость-мимикр), действие по утолению жажды является максимально рациональным из возможных. Карнеад, по сути, сформулировал принцип: Рациональность действия определяется не гарантией успеха, а качеством процедуры, предшествующей действию.









