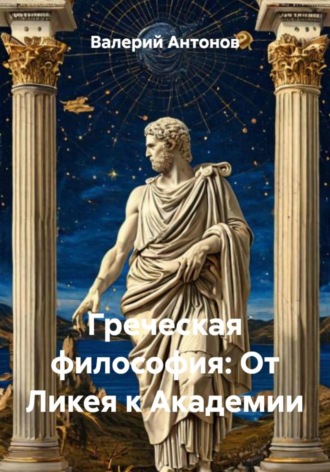
Полная версия
Греческая философия: От Ликея к Академии

Валерий Антонов
Греческая философия: От Ликея к Академии
Введение: Кризис полиса и рождение космополитизма.
Часть I: Наследие и Раскол: Мир после Аристотеля и Платона.Введение: Кризис полиса и рождение космополитизма
Это введение важно для понимания эллинистической философии. Оно затрагивает два ключевых аспекта:
1. Кризис полиса – социально-политического и духовного центра античного мира.
2. Изменение философских идеалов: переход от гражданской добродетели к личному спасению.
1. Кризис полиса как социально-политической и духовной реальности.Современная наука, опираясь на достижения микроистории, истории эмоций и интеллектуальной истории, рассматривает кризис полиса как фундаментальную смену парадигмы бытия-в-мире (Dasein), которая затронула самые сокровенные слои человеческого опыта. Этот процесс можно детализировать через следующие концепты:
1. Распад «Горизонта Ожиданий» и рождение нового исторического сознания.
Немецкий историк Райнхарт Козеллек ввел ключевые для анализа эпох категории: «пространство опыта» (Erfahrungsraum) и «горизонт ожиданий» (Erwartungshorizont). В классическом полисе эти категории были неразрывно связаны и стабильны.
· «Пространство опыта» гражданина – это история его предков, запечатленная в публичных памятниках и устных преданиях, мифы о героях-основателях, свод неписаных законов и традиций.
· «Горизонт ожиданий» – это уверенность в том, что будущее будет воспроизводить прошлое и настоящее: сын будет таким же гражданином, как отец, полис будет вести те же войны с теми же соседями, религиозные ритуалы гарантируют благосклонность богов.
Кризис полиса, как показывает в своих работах историк Ангелос Ханиотис, разорвал эту связь. Опыт прошлого (автономия, слава предков) перестал быть надежным ориентиром для будущего. Горизонт ожиданий стал неопределенным, туманным и пугающим. Рождается новое, «эллинистическое» историческое сознание, для которого характерны:
· Осознание разрыва эпох: Люди начали ощущать, что живут в «новое время», радикально отличное от «золотого века» классики. Это порождало как ностальгию, так и поиск новых оснований для жизни.
· Непредсказуемость: Будущее теперь зависело не от решений народного собрания, а от каприза монарха, династического брака или битвы между диадохами, происходящей за тысячи стадий.
2. Трансформация темпоральности: от циклического времени полиса к линейному времени империи.
Полисное время было по своей сути циклическим и ритмичным: смена времен года, религиозные праздники (Дионисии, Панафинеи), выборы магистратов, Олимпийские игры. Это создавало ощущение стабильности и повторяемости.
С возникновением эллинистических монархий, как утверждает исследователь Жан-Мари Бертран в контексте изучения царских указов, доминирующей становится линейная темпоральность, центрированная на фигуре царя.
· Время теперь отсчитывается по царствованиям и династиям.
· Судьбоносными становятся единичные, необратимые события: основание нового города, издание царского эдикта, смерть правителя.
· Это порождало чувство исторического ускорения и нестабильности, контрастирующее с прежним, размеренным ритмом полисной жизни. Индивид оказывался втянут в неконтролируемый поток истории, что напрямую способствовало ощущению astathasia.
3. Кризис как «Когнитивное диссонирование» на микроуровне.
Этот аспект ярко освещен в работах историка Дэвида Констана, анализирующего эллинистические поэзию и комедию. Кризис можно описать в терминах когнитивного диссонанса, переживаемого каждым человеком.
· с одной стороны, в полисах продолжали существовать и даже развиваться институты, риторика и система образования (пайдейя), воспроизводящие классический идеал гражданина.
· с другой стороны, реальная социально-политическая практика требовала совершенно иных навыков: умения найти покровителя при царском дворе (клиентские отношения), проявить лояльность далекому монарху, адаптироваться к мультикультурной среде.
Этот разрыв между усвоенной идентичностью (я – гражданин) и социальной реальностью (я – подданный) создавал мощнейший внутренний конфликт. Философские школы предлагали пути разрешения этого диссонанса: стоицизм – через переопределение понятия «гражданства» как принадлежности к космополису; эпикуреизм – через декларацию ненужности политической идентичности для счастья.
Кризис полиса был не просто политическим событием, а глубочайшей антропологической и экзистенциальной революцией. Он изменил:
· Восприятие времени – от циклического к линейному и непредсказуемому.
· Восприятие пространства – от замкнутого, понятного мира ойкумены полиса к безграничному и анонимному миру империи.
· Структуру идентичности – от данной от рождения и коллективной (гражданин) к конструируемой и индивидуальной (мудрец, подданный, «человек мира»).
Именно этот всеобъемлющий сдвиг, затрагивающий самые основы человеческого самоощущения, и создал ту интеллектуальную и духовную «нишу», которую с такой эффективностью заняли эллинистические философские школы, предложив человеку новые «карты существования» в радикально изменившейся вселенной.
Политический аспект: От гражданства к подданству и появление «глобализированного» мира.Современная историография, вслед за упомянутыми авторами, рассматривает этот процесс не как простое «угасание» полиса, а как смену политической парадигмы – от модели гражданской общины к модели подданства в административной системе.
1. От «Власти-Слова» (Логоса) к «Власти-Приказу».
· Классическая модель: В афинской демократии, как блестяще показал Пьер Видаль-Накэ в работе «Афинская демократия: группа и метафора», власть (kratos) принадлежала народу (demos) и осуществлялась через публичную речь, убеждение, дискуссию на агоре и в буле. Ключевым инструментом был логос – аргументированное слово, которое могло быть оспорено. Политическое участие было перформативным актом, конституирующим коллективную волю.
· Эллинистическая модель: в новых монархиях, как анализирует Пол Картледж в «Александре Великом и Эллинистическом мире», власть становится авторитарной и трансцендентной. Она исходит не от коллектива, а от одного человека – царя (basileus), чья воля часто облекалась в форму указа (prostagma). Этот указ не подлежал обсуждению, а лишь исполнению. Как отмечает исследовательница Г. Г. Косаченко, речь на месте сменяется молчаливым подчинением, а дискуссия – бюрократической процедурой. Гражданин, чья идентичность была построена на владении словом, превращался в подданного, чья роль сводилась к молчаливому повиновению.
2. Приватизация политической жизни и утрата «политической телесности».
· Классический идеал: Гражданин был «политическим телом». Его физическое присутствие в фаланге защищало полис, его присутствие в народном собрании – творило закон. Тело гражданина было публичным достоянием, подчиненным дисциплине и готовым к жертве.
· Эллинистическая реальность: С исчезновением классической фаланги и народного собрания как высших органов власти, тело индивида деполитизируется и приватизируется. Его благополучие больше не зависит от его личного участия в коллективной обороне или законодательстве. Армия становится профессиональной, наемной, а законы пишутся в канцеляриях. Как следствие, фокус смещается с благополучия полиса на личное выживание и процветание. Философские школы (особенно эпикурейцы и киники) легитимируют этот уход в частную жизнь, предлагая этику, центрированную на индивидуальном теле и его удовольствиях или аскезе.
3. Новые формы политической активности: патронаж и прошения.
· Исчезновение традиционных форм участия не означало конца политики как таковой. Оно породило новые, вертикальные ее формы. Ключевыми фигурами становятся не ораторы, а патроны и посредники, имеющие доступ к царскому двору.
· Исследователь Ангелос Ханиотис в работе «Война в эллинистическом мире» показывает, как полисы были вынуждены постоянно отправлять посольства к царям с просьбами (enteuxeis) о предоставлении привилегий, налоговых льгот или военной помощи. Политическая активность превратилась из процесса совместного принятия решений в искусство ходатайства и лести. Это радикально меняло политическую этику: на смену идеалу равенства граждан (isonomia) пришла необходимость искать милости у более сильного, что порождало культуру патрон-клиентских отношений.
4. Символическая компенсация: полис как «почетная рамка».
· Картледж и другие исследователи подчеркивают, что эллинистические монархи не уничтожали полисы, а интегрировали их в свою систему, оставляя им видимость самоуправления в местных делах. Полис становился декоративной структурой, «почетной рамкой» для жизни индивида, лишенной реального суверенитета.
· Внешние атрибуты полисной жизни – гимнасии, театры, соревнования – даже расцвели, но они выполняли новую функцию: они были инструментом социального контроля и демонстрации лояльности царю. Участие в них было не выражением коллективного суверенитета, а формой социализации в рамках, предписанных сверху.
Современные исследователи видят суть кризиса не в том, что «полисы исчезли», а в том, что изменилась сама ДНК политического. Власть из имманентной (исходящей изнутри сообщества) стала трансцендентной (нисходящей извне). Участие из горизонтального и коллективного превратилось в вертикальное и индивидуальное (в форме просьбы). Политический язык из языка спора и убеждения стал языком приказа и лести. Это была подлинная революция, которая, лишив индивида его прежней политической роли, заставила его искать новые идентичности и новые источники смысла – что и стало миссией эллинистической философии.
· Трансформация политического пространства: Речь шла не просто о переносе центра принятия решений в царскую канцелярию, а о кардинальном изменении масштаба. Полис был обозримым миром, где связь между личным действием (голосование в собрании, служба в фаланге) и общественным результатом была прямой и очевидной. Эллинистические монархии создали непрозрачную, бюрократическую дистанцию между индивидом и властью. Как отмечает Картледж, это порождало не просто бессилие, а чувство политической иррелевантности: твои действия больше не могли влиять на судьбу сообщества.
· Новые формы лояльности: Исследователь Ангелос Ханиотис в своих работах по эллинистическому миру подчеркивает, что полис не исчез, но был интегрирован в новую иерархию. Лояльность теперь была разделенной: между родным городом и далеким царем-благодетелем (эвергетом). Это создавало экзистенциальный разрыв: гражданин должен был служить полису, но его благополучие все чаще зависело от милости внешней силы. Полисная автономия стала фикцией, поддерживаемой лишь в сфере местного самоуправления, лишенной реального суверенитета в вопросах войны и мира.
· Экономический детерминизм: Работы Моники Фруштус и других историков экономики показывают, что кризис был усугублен экономическими изменениями. Создание крупных эллинистических царств привело к перемещению торговых путей и экономических центров. Мелкий полис не мог конкурировать с мегаполисами вроде Александрии или Антиохии. Экономическая маргинализация усиливала чувство упадка и потери значимости.
Вывод по политическому аспекту: Таким образом, кризис с точки зрения современной науки – это не просто «утрата независимости», а фундаментальная перестройка политической онтологии: переход от модели прямого участия в суверенном сообществе к жизни в сложной, многоуровневой системе, где индивид является объектом управления, а не субъектом политики.
Социальный и духовный аспект: Рождение индивида и поиск новой идентичности
Здесь современные интерпретации, в частности, работы Мишеля Фуко (в его поздних трудах о «заботе о себе») и А. В. Петрова, развивают и конкретизируют тезисы Лосева и Целлера.
· Антропологический сдвиг и «забота о себе»: Фуко утверждает, что эллинистическая эпоха знаменует поворот философии от проблем космоса и полиса к проблемам индивида. Это не был уход в эскапизм, а формирование новой этики, центрированной на «заботе о себе» (epimeleia heautou). Кризис полиса разрушил внешние опоры идентичности (статус гражданина). В ответ философия предложила технологию конструирования идентичности внутренней, через самодисциплину, самоанализ и духовные упражнения. Это был прямой ответ на экзистенциальный вакуум.
· Конкретизация понятия ἀσταθασία (неустойчивость): Современные исследователи, такие как Давид Констан, наполняют это понятие конкретным социальным содержанием. Это не просто чувство бесприютности, а реальный опыт жизни в мире, где судьба целых городов и отдельных людей могла радикально измениться из-за династического спора или воли одного полководца. Социальные лифты работали хаотично; карьера зависела от удачи и связей при дворе, а не от доблести в малом, но стабильном сообществе. Это порождало онтологическую неуверенность.
· Религиозная трансформация: Работы Ганса-Йоахима Гайке показывают, что кризис полиса напрямую связан с кризисом полисной религии. Боги-покровители полиса (Афина Паллада для Афин) теряли свою силу перед лицом транснациональных культов (Сарапис, Кибела) и обожествленных монархов. Индивидуальный поиск спасения, обещаний загробной жизни в мистериальных культах (например, в культах Деметры и Диониса) становится ответом на коллективную духовную дезориентацию. Человек искал спасения не для своего города, а для своей души.
Вывод по социально-духовному аспекту: Кризис полиса, с современной точки зрения, – это катализатор процесса индивидуации. Распад коллективной идентичности заставил человека впервые осознать себя как отдельную, автономную единицу, несущую ответственность за свой внутренний мир и свою судьбу в неподконтрольном ему космосе. Рождение кинизма, стоицизма и эпикуреизма – это прямые философские проекты по созданию «духовного убежища» для этой newly-born личности.
Кризис как экзистенциальный вызов и импульс для философии
Таким образом, антропологический кризис, о котором шла речь, сегодня трактуется как глубокий перелом в самом способе человеческого бытия-в-мире.
· Старые ответы: Полисная идеология давала готовый ответ: «Жить – значит участвовать в жизни полиса, его слава – твоя слава, его судьба – твоя судьба».
· Новые вопросы: Кризис сделал этот ответ несостоятельным. Возникли вопросы: «Как быть счастливым, когда твой город оккупирован? Как сохранить достоинство, будучи подданным? Где искать опору, если мир стал хаотичным и непредсказуемым?».
Философские школы эллинизма дали на эти вопросы системные ответы:
· Стоицизм: Опора – во внутреннем логосе, в следовании природе и принятии того, что от тебя не зависит.
· Эпикуреизм: Опора – в дружбе и ограничении желаний, уходе от бурь общественной жизни в «садик».
· Кинизм: Опора – в радикальном отвержении условностей этого неправильного мира и следовании собственной природе.
Кризис полиса, рассмотренный через призму современных исследований, предстает не как просто «упадок», а как сложный, многогранный процесс трансформации, который, разрушив старую, полисную модель человечности, создал питательную среду для рождения новой – индивида, обращенного к самому себе и ищущего смысл и устойчивость в универсальных законах космоса или в глубинах собственного сознания.
2. Смена философских идеалов: от гражданской добродетели к индивидуальному спасению
Современные исследователи, такие как Пьер Адо и Мишель Фуко (в своей поздней работе «Забота о себе»), видят в этом переходе не просто смену тем для философских дискуссий, а радикальное преобразование самой цели философии и ее практической функции в жизни человека. Философия превращается из теории о наилучшем устройстве полиса в технику жизни (technē tou biou) для индивида, оказавшегося в неустойчивом мире.
Детализация аспектов:1. От Полисной Аретэ к Индивидуальной Эвдемонии: Переопределение «Добродетели».
· Классическая аретэ: В понимании Сократа, Платона и Аристотеля добродетель (ἀρετή) была неразрывно связана с функцией (ἔργον – ergon) человека как гражданина-политика. Справедливость Платона – это гармония частей полиса и души, где каждая часть выполняет свою общественную роль. Аристотель определял человека как «политическое животное» (zōon politikon), чье предназначение реализуется только в полисе.
· Эллинистический пересмотр: Новые школы переопределяют природу человека. Для стоиков, как показывает А. А. Столяров в своих исследованиях по стоицизму, человек – это прежде всего разумное существо (zōon logikon), часть мирового Логоса. Его добродетель – это жизнь в согласии с разумной природой Космоса, а не с законами родного города. Для эпикурейцев, по мнению Дж. Уоррена, сущность человека – это чувствующее тело, стремящееся к удовольствию и избегающее страданий. Таким образом, аретэ смещается с социального плана на онтологический (жизнь по природе) или психофизиологический (мудрое управление желаниями).
2. Философия как «Духовное Врачевание» и «Упражнение» (Askēsis).
Это, пожалуй, ключевой вклад Пьера Адо в понимание эллинистической философии. Он настаивает, что она была прежде всего духовной практикой, набором интеллектуальных и психических упражнений, направленных на преобразование самого себя.
· Цель: Не познание мира ради самого познания, а достижение внутренней свободы, безмятежности (атараксия) и самодостаточности (автаркия). Философ становится «врачом души».
· Методы: Современные исследования, вслед за Адо, выделяют конкретные практики:
У стоиков: «Предвосхищение зла» (praemeditatio malorum) – мысленное проживание будущих несчастий, чтобы лишить их силы; «разделение и анализ» – разложение страшного события на безобидные составляющие; ежевечерний самоанализ.
У эпикурейцев: «Тетрафармакос» («Четверолекарствие») – краткие формулы, опровергающие главные страхи людей (перед богами, смертью, страданием и т.д.).
У киников: Аскеза как прямое и нарочитое упражнение в лишениях (холод, голод, публичное унижение) для закалки духа и доказательства своей независимости от условностей.
3. Социальное измерение нового идеала: От гражданской дружбы к сообществу избранных.
Классическая философия была обращена ко всему полису (идеи Платона о правителях-философах). Эллинистические школы, как отмечает Дэвид Седли, создают альтернативные сообщества, заменяющие полис.
· Стоицизм: Вводит концепцию «космополиса» – мирового государства разумных существ. Гражданин полиса теперь – лишь житель провинции, тогда как истинный мудрец – гражданин Вселенной. Это позволяло сохранить идеал служения, но перенести его на универсальный уровень.
· Эпикурейство: Создает модель «Сада» – закрытой коммуны друзей, ушедших от общественной суеты. Это была не политическая, а приватная утопия, где высшей ценностью была надежная дружба, защищающая от бурь внешнего мира.
· Кинизм: Предлагал наиболее радикальную форму отчуждения, представляя себя «гражданином мира» (космополитом) в смысле отказа от любых социальных связей и законов, кроме закона собственной добродетели и природы.
4. Лингвистический сдвиг: Язык «внутренней крепости».
Исследовательница Марта Нуссбаум в работе «Терапия желания» обращает внимание на изменение философской метафорики.
· Классическая этика использовала язык публичный: слава, честь, бесчестье, долг перед отечеством.
· Эллинистическая этика говорит на языке внутреннего опыта: невозмутимость, спокойствие, страсть (pathos как болезнь души), апатия (отсутствие страстей), «границы внутренней крепости». Даже понятие долга (kathekon у стоиков) – это не долг перед полисом, а внутреннее обязательство разумного существа действовать в согласии с природой.
Смена философских идеалов, рассматриваемая через призму современных исследований, предстает как комплексный ответ на антропологический кризис. Это был переход:
· От этики долга – к этике спасения.
· От философии как публичной дискуссии – к философии как личной терапии.
· От идеала гражданина-патриота – к идеалу мудреца-космополита или частного человека, обретшего убежище в «Саду».
Философия перестала быть просто знанием о добродетели и стала практическим инструментом для ее достижения, предлагая индивиду надежную внутреннюю опору в мире, лишенным внешних гарантий.
Поворот к частному человеку: от классики к эллинизму.
Этот поворот можно описать как переход от экстероцентричной (внешне-ориентированной) этики, где мерилом человека является его роль в полисе, к интроцентричной (внутренне-ориентированной) этике, где мерилом всего становится внутреннее состояние индивида.
Классический Идеал: Индивид как Орган Полиса.1. Платон: Справедливость как Гармония Целого
· Установка: В «Государстве» Платон прямо отождествляет справедливость в душе отдельного человека со справедливостью в государстве. Индивид обретает свою добродетель (ἀρετή) только тогда, когда его разумная часть (логос) управляет яростной (thumos) и вожделеющей (epithumia), что в масштабах полиса соответствует мудрому правлению философов-стражей, защите воинов и повиновению производителей.
· Аргументация: Личность не самодостаточна. Ее благо – производное от блага целого. Вне полиса или в плохо устроенном полисе полноценная реализация человеческой природы невозможна. Философия Платона – это грандиозный проект создания условий, при которых душа может вспомнить идеи, и эти условия носят сугубо социально-политический характер. Как отмечает современный исследователь М. Ф. Бычков, у Платона «личность находит себя лишь в служении общему».
2. Аристотель: Человек как «Политическое Животное» (Zōon Politikon)
· Установка: В «Никомаховой этике» и «Политике» Аристотель утверждает, что высшее благо человека – эвдемония – достигается через деятельность души в соответствии с добродетелью. Однако полноценно добродетельным человек может быть только в полисе, который является естественным завершением человеческой природы.
· Аргументация: Тот, кто живет вне полиса, – либо божество, либо зверь. Добродетели (справедливость, мужество, дружба) по своей сути проявляются в отношениях с другими гражданами. Даже созерцательная жизнь, высшая форма деятельности, по Аристотелю, требует досуга, обеспеченного полисом, и друзей для совместного поиска истины. Таким образом, частное благо индивида неотделимо от общественного блага.
Современная трактовка (Пьер Адо): Классическая философия была пропедевтикой к политической жизни. Она готовила элиту к управлению полисом. Ее цель – не личное спасение, а построение справедливого общества, в котором только и возможна полноценная жизнь.
Эллинистический Идеал: Полис внутри Себя.В эллинистическую эпоху полис перестал быть надежной опорой. Философия была вынуждена найти новый «полис» – внутренний, неуязвимый для внешних бурь.
1. Стоицизм: Переопределение Гражданства и Долга
· Установка: Да, стоики провозглашают космополитизм. Но его суть не в простом отрицании полиса, а в переносе источника лояльности и долга.
· Детальный анализ:
o Новый Полис: Космос – это гигантский, хорошо устроенный полис, управляемый божественным Логосом (разумом). Человек – не «гражданин Афин», а «гражданин Космоса».
o Новый Закон: Естественный закон (lex naturalis) заменяет писаные законы полиса. Долг (kathēkon) – это действие, согласное с разумной природой человека-космополита.
o Фокус на Контроле: Ключевое учение, детализированное Эпиктетом – разграничение того, что «в нашей власти» (prohairetic) и что «не в нашей власти» (aprohairetic). Наша добродетель, мнения, желания – в нашей власти. Наше имущество, слава, здоровье, сама жизнь – нет. Таким образом, философ строит «крепость» внутри себя, делая свое счастье абсолютно независимым от внешних, неподконтрольных событий.
· Сравнение с Классикой: Если для Аристотеля мужество проявлялось в битве за полис, то для стоика мужество – это правильное отношение к страху смерти, которое является внутренней работой разума. Долг остается, но его адресат меняется.
2. Эпикуреизм: Радикальный Уход и «Осадное Положение» Души
· Установка: Эпикур предлагает стратегию, прямо противоположную классической. Если полис стал источником страданий, от него надо уйти.
· Детальный анализ:
o Критика «Естественного»: Эпикуреизм оспаривает тезис Аристотеля. Для него человек – не «политическое животное», а «животное, стремящееся к удовольствию и избегающее страдания». Общество – это договор о взаимной безопасности, а не естественная среда обитания.
o «Сад» как Альтернатива: «Садик» Эпикура – это не просто клуб по интересам, а сознательно созданная контр-община. Ее цель – не управлять полисом, а защититься от него. Высшая ценность здесь – дружба (philia), но не как гражданская добродетель, а как инструмент личной безопасности и душевного комфорта.









