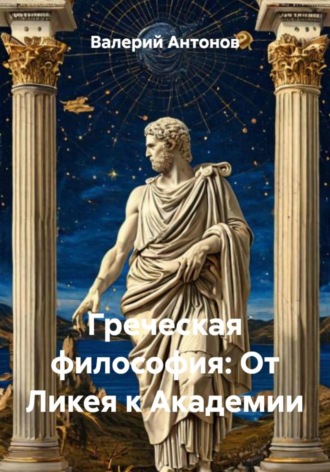
Полная версия
Греческая философия: От Ликея к Академии
· Актуализация Человеческой Сущности: Если «эргон» (специфическая функция) человека – это деятельность души в согласии с разумом (logos), то эвдемония – это полная актуализация этой функции. Счастливая жизнь – это не субъективное ощущение, а объективное состояние процветания живого существа, достигшего высшего расцвета своих специфически человеческих способностей. Это делает этику Аристотеля натуралистической: благо выводится из природы человека.
· Роль Фронесиса (Практической Мудрости): Добродетель – это не просто привычка, а прочный склад души, согласный с правильным суждением. Ключевую роль здесь играет фронесис – интеллектуальная добродетель, позволяющая верно оценивать конкретные обстоятельства и выбирать верное действие для достижения блага. Фронесис – это мост между общими принципами и единичными поступками. Как отмечает Марта Нусбаум, Аристотель настаивает на некодифицируемости этики: универсальных правил недостаточно, требуется восприимчивость к особенностям ситуации, что делает морального агента чем-то вроде «художника жизни».
2. Неоаристотелевская Этика Добродетели: Критика и Возрождение.
Ваше указание на Аласдера Макинтайра верно. В своей книге «После добродетели» Макинтайр использует Аристотеля для критики современной моральной философии (кантианства, утилитаризма).
· Критика Модерна: Макинтайр утверждает, что современная этика, оторванная от понятия «назначения» (telos) человека, оказалась в тупике бесплодных споров о необоснованных моральных принципах. Она не может дать внятного ответа на вопрос «Почему я должен быть моральным?».
· Аристотелевская альтернатива: Этика добродетели предлагает вернуться к идее, что мораль – это не следование правилам, а качество характера, воспитываемое в рамках определенной традиции и социальной практики, направленной на реализацию человеческого потенциала. Это оживило дискуссию о роли привычки, воспитания и сообщества в формировании морального субъекта.
3. Политика как Естественное Завершение Этики: Глубина «Политического Животного».
Утверждение, что человек – «zōon politikon», часто понимается поверхностно. Современные исследователи, такие как Ричард Краут («Аристотель: Политическая философия»), раскрывают его глубокий смысл.
· Биологическое и Этическое: Для Аристотеля политическая природа человека – это не просто социальный инстинкт, а логическое завершение его биологической и разумной природы. Язык (logos) дан человеку не только для обозначения полезного и вредного, но и для обсуждения справедливого и несправедливого. Таким образом, полис – это не просто договор о взаимной безопасности, а единственная среда, где может расцвести logos в его полном этическом значении.
· Полис как Предпосылка Автаркии: Индивидуальная самодостаточность (autarkeia) – цель эвдемонии – невозможна для изолированного индивида. Только полис, как завершенная и самодостаточная община, предоставляет весь спектр благ (дружба, образование, законы, культура), необходимых для полной и добродетельной жизни. Таким образом, высшее благо индивида и высшее благо полиса совпадают.
· Антитеза Эллинизму: Как верно отметил Целлер, эта модель является апогеем классического идеала. В то время как эллинистические философы (стоики, эпикурейцы) будут искать добродетель и счастье внутри индивида, часто вопреки полису, Аристотель видит их реализацию через и благодаря полису. Его философия – это философия интеграции, тогда как философия эллинизма – это философия защиты и ухода.
Этика и политика Аристотеля представляют собой неразрывное целое – грандиозный проект достижения человеческого процветания через рациональную организацию индивидуальной жизни и жизни сообщества. Это проект, основанный на вере в разум, целесообразность человеческой природы и возможность построения общества как «инкубатора» добродетели. Его сила и историческое влияние заключаются в этой целостности, которая, даже будучи оспоренной последующими эпохами, остается одним из самых мощных и последовательных учений о том, что значит жить хорошо.
Итог: Аристотель – Универсальный Лексикон Европейской Философии
Система Аристотеля, действительно, стала не просто одним из учений, а смысловым и категориальным универсумом, внутри и по отношению к которому выстраивала себя вся последующая философская традиция. Ее можно рассматривать как гигантское «семантическое поле», которое обеспечило общий язык и набор проблем для философских дискуссий на два тысячелетия вперед.
Детализация взаимодействия с эллинистическими школами:
Эллинистические философы не столько игнорировали Аристотеля, сколько вели с ним напряженный диалог, формируя свои учения через полемику, адаптацию и переориентацию его ключевых концепций.
1. Полемика и Отрицание: Разрыв в Основаниях.
· Телеология: И стоики, и эпикурейцы радикально пересмотрели аристотелевскую телеологию, но сделали это по-разному.
o Стоики сохранили идею целесообразно устроенного Космоса, но заменили имманентную телеологию Аристотеля идеей провиденциального Логоса, пронизывающего и сознательно управляющего миром. Их телеология была более глобальной и фаталистичной.
o Эпикурейцы, напротив, совершили радикальный разрыв, объявив Вселенную продуктом случайного столкновения атомов. Их механистическая картина мира была прямым отрицанием как аристотелевской, так и стоической телеологии.
· Ценность политики: Здесь разрыв был наиболее очевиден. Если для Аристотеля полис был естественной средой реализации человеческой природы, то:
o Эпикурейцы видели в политике источник тревог и предлагали стратегию «живи незаметно».
o Стоики, провозглашая космополитизм, переносили идею гражданства с полиса на вселенское государство, тем самым обесценивая традиционный полис как высшую ценность.
2. Адаптация и Трансформация: Переработка Концептуального Инструментария
· Логика: Это самый яркий пример адаптации. Стоики, особенно Хрисипп, не отбросили логику, а создали свою собственную, сосредоточившись не на категориально-силлогистической структуре (Аристотель), а на логике высказываний и импликаций. Их система стала не заменой, а альтернативной и во многом дополняющей парадигмой, что отмечает современный логик Сюзанна Бобзиен. Они спорили с Аристотелем на его же поле, используя его же уровень логической рефлексии.
· Этика добродетели: И стоики, и в определенной степени эпикурейцы сохранили фокус на добродетели и достижении эвдемонии (счастья). Однако они индивидуализировали и психологизировали ее. Если для Аристотеля добродетель была неотделима от социально-политической деятельности, то для эллинистических школ она стала состоянием внутренней крепости и независимости (атараксии/апатии) от внешнего мира, включая полис.
· Физика: Стоики, заимствуя аристотелевскую терминологию (например, «качества», «потенция»), наполняли ее совершенно иным содержанием, встраивая в свою монистическую и пантеистическую картину мира, где все есть тело, а Бог (Логос) – тончайшая материя.
3. Историческая Перспектива: От Эллинизма к Средневековью и Науке
· Через неоплатонизм (где аристотелевская логика и метафизика были синтезированы с платонизмом) учение Аристотеля было усвоено средневековой схоластикой.
· Арабский и еврейский аристотелизм (Авиценна, Аверроэс, Маймонид) стали мостом, через который Corpus Aristotelicum вернулся в Европу.
· Фома Аквинский совершил грандиозный синтез аристотелизма с христианским богословием, сделав его официальной философской доктриной католицизма.
· Научная революция была, по выражению Александра Койре, в значительной степени «революцией против Аристотеля», но, как и эллинистические школы, она была вынуждена определять себя через полемику с его системой (Галилей против аристотелевской физики, Декарт против его телеологии).
Система Аристотеля сыграла роль, аналогичную роли классической механики Ньютона в физике: она создала исходную парадигму, «нормальную науку» (в терминах Т. Куна), в рамках которой велась основная интеллектуальная работа. Даже когда последующие мыслители выходили за ее рамки, они делали это, отталкиваясь от ее проблем, используя ее категории и оспаривая ее выводы. Быть философом в пост-аристотелевскую эру означало так или иначе определять свою позицию по отношению к Аристотелю. В этом и заключается подлинное величие и универсальность его философского проекта, так точно зафиксированного Целлером
Глава 2: Древняя Академия и поворот к скепсису.
Эволюция Академии после Платона представляет собой постепенный отход от позитивной метафизики к радикальному эпистемологическому скепсису. Этот процесс, подробно описанный Целлером, прошел три стадии: систематизацию и догматизацию учения Платона его непосредственными преемниками (Древняя Академия), переход к тотальному отрицанию возможности знания (Средняя Академия) и разработку практического критерия для жизни на основе вероятности (Новая Академия).
1. Стадия: Древняя Академия – Систематизация и догматизация учения Платона
Определение ключевого свойства: Период непосредственных преемников Платона (Спевсипп, Ксенократ), характеризующийся не творческим развитием диалектики, а формализацией, систематизацией и онтологизацией платоновского учения в жесткую догматическую систему. Это создало предпосылки для скептической реакции, так как огрубленная догматическая система стала уязвимой для критики.
Подробное дополнение на основе современных библиографических источников:
· От Диалога к Догме: В отличие от самого Платона, чьи диалоги часто не дают окончательных ответов и носят исследовательский характер, Древняя Академия стремилась извлечь из них последовательную доктринальную систему. Как отмечает Джон Диллон в своей фундаментальной работе «The Heirs of Plato: A Study of the Old Academy (347—274 BC)», Спевсипп и Ксенократ занимались созданием «школьной догмы», превращая открытые вопросы в закрытые доктрины. Это была попытка институализировать мысль Платона, что неизбежно вело к ее упрощению.
· Онтологизация Учения о Принципах: Ключевым моментом стала разработка и догматизация учения о двух высших принципах – Едином (to Hen) и Неопределенной Двоице (dyas). Если у Платона в «неписаных учениях» эти принципы, по-видимому, были методологическими началами для порода числа и идей, то у Ксенократа они становятся четко определенными онтологическими сущностями.
o Спевсипп, племянник Платона, пошел по пути отрицания тождества Единого и Блага, а также отделил идеи от чисел, создавая сложную иерархическую метафизику. Как показывает Леоно Таран в своем исследовании «Speusippus of Athens», его система была крайне рационализированной и отстраненной от этики, что делало ее абстрактной и уязвимой.
o Ксенократ дал ставшие каноническими для последующих платоников определения: «Идея – парадигматическая причина естественных сущих», «душа – самодвижущееся число». Его систематизация, как пишет Г. Чернисс в «The Riddle of the Early Academy», была наиболее влиятельной, но и наиболее догматичной, сводя живую мысль Платона к удобоусвояемым формулам.
· Этический Догматизм: Этика также была систематизирована. Ксенократ формально разделил философию на три части: логику, физику и этику, и провозгласил конечной целью жизни «жизнь в соответствии с естественным законом», объединяющим все сущее. Этот догматический этический идеал, оторванный от диалектического поиска, впоследствии будет подвергнут сомнению скептиками, которые зададутся вопросом: если знание о «естественном законе» недостижимо, то как можно жить в соответствии с ним?
Вывод по стадии: Древняя Академия, стремясь сохранить и систематизировать наследие Платона, создала жесткую метафизическую и этическую догматику. Эта догматическая система, с ее претензией на окончательное знание о высших принципах, стала мишенью для критики со стороны следующих поколений академиков, которые, осознав слабость этих догм, перешли к отрицанию возможности знания как такового.
2. Стадия: Средняя Академия – Переход к тотальному отрицанию возможности знания
Определение ключевого свойства: Радикальный эпистемологический поворот, инициированный Аркесилаем (ок. 315–240 до н.э.), который, опираясь на сократовское «я знаю, что ничего не знаю» и диалектический метод Платона, подверг тотальной критике стоический критерий истины – «каталептическое представление» (katalēptikē phantasia), и, как следствие, пришел к отрицанию возможности достоверного знания вообще. Это ядро академического скепсиса.
Подробное дополнение на основе современных библиографических источников:
· Полемика со Стоей как Двигатель Скепсиса: Современные исследователи, такие как А. А. Лонг в работе «Hellenistic Philosophy», подчеркивают, что скепсис Аркесилая был не просто нигилизмом, а целенаправленной полемической стратегией против догматизма, в первую очередь, стоиков. Стоики утверждали, что существует особый класс восприятий – «каталептические» (постигающие), которые с такой очевидностью и точностью представляют объект, что не могут быть ложными. Аркесилай блестяще доказывал, что не существует никакого критерия, чтобы отличить такое «каталептическое» представление от не-каталептического, так как для любого истинного представления можно представить ментально неотличимое от него ложное (например, сон или галлюцинацию).
· Isostheneia (Изостения) – Равенство Противоположных Аргументов: Методом Аркесилая было построение для любого догматического тезиса (p) равносильного по убедительности контртезиса (не-p). Это состояние «изостении» – равновесия аргументов – делало невозможным вынесение суждения (epochē). Как подробно анализирует М. Бернетайс в «Introduction to the Skeptical Tradition», Аркесилай возводил этот метод в ранг прямого продолжения сократо-платоновской диалектики, видя в приостановке суждения (epochē) истинную цель философского поиска.
· Эпистемологический Агостицизм, а не Нигилизм: Важно уточнить, что Аркесилай не утверждал «знания о том, что знания нет». Его позиция – это агностицизм в отношении возможности знания. Он не догматизировал незнание, а демонстрировал, что никакое догматическое утверждение о знании не может быть удовлетворительно обосновано. Таким образом, его скепсис был радикальной формой анти-догматизма. Джеймс Аллен в статье «Carneades» (Stanford Encyclopedia of Philosophy) указывает, что Аркесилай, по сути, отождествлял мудрость Сократа и Платона с отказом от assent (согласия) на недостоверные впечатления.
Вывод по стадии: Средняя Академия под руководством Аркесилая совершила радикальный эпистемологический разрыв с догматизмом Древней Академии. Скепсис стал не случайным элементом, а системообразующим принципом, направленным на демонстрацию невозможности найти надежный критерий истины, что логически вело к необходимости воздержания от суждения (epochē) по всем вопросам.
3. Стадия: Новая Академия – Разработка практического критерия для жизни на основе вероятности
Определение ключевого свойства: Философский синтез, осуществленный Карнеадом (ок. 214–129 до н.э.), который, сохраняя радикальный эпистемологический скепсис в теории, признал необходимость практического критерия для руководства в повседневной жизни и действиях. Таким критерием стала концепция «вероятного» или «правдоподобного» (to pithanon).
Подробное дополнение на основе современных библиографических источников:
· Практическая Проблема Скепсиса и ее Решение: Карнеад осознавал уязвимость чистого скепсиса Аркесилая: если мы ни в чем не можем быть уверены, то как мы можем действовать? Полный паралич действия (apraxia) был главным обвинением догматиков против скептиков. Ответом Карнеада стала разработка сложной теории вероятностного критерия, который не претендует на истину, но является практическим ориентиром. Как пишет А. А. Лонг, Карнеад «спас скепсис от обвинения в нежизнеспособности».
· Иерархия «Правдоподобного» (to pithanon): Карнеад не просто предложил полагаться на «вероятное», а разработал целую градацию:
1. Просто правдоподобное представление (pithanē phantasia): Впечатление, которое кажется истинным.
2. Правдоподобное и непротиворечивое (aperispastos): Впечатление, которое проверяется на согласованность с другими восприятиями в рамках данного контекста.
3. Правдоподобное, непротиворечивое и проверенное (diexōdeumenē): Впечатление, которое прошло всестороннюю проверку на непротиворечивость со всей совокупностью связанных представлений. Эта трехступенчатая система, подробно реконструируемая по Сексту Эмпирику и Цицерону (который был последователем Новой Академии), представляет собой прообраз научно-критического метода, основанного не на достоверности, а на когерентности и проверке.
· Теория как Практический Инструмент: Карнеад не отступил от скептического принципа epochē в отношении абсолютной истины. Он утверждал, что мудрый человек будет использовать «правдоподобное» представление как руководство к действию, не давая ему своего согласия (synkatathesis) в том смысле, что это является несомненной истиной. Таким образом, он проводил четкую границу между теоретической невозможностью знания и практической необходимостью действовать на основе наилучшего из доступных оснований. М. Фреде в «The Cambridge History of Hellenistic Philosophy» подчеркивает, что это была «рациональная» модель поведения без «догматического» обоснования.
Вывод по стадии: Новая Академия под руководством Карнеада нашла выход из тупика радикального скепсиса, разработав сложную прагматическую эпистемологию. Это позволило сочетать теоретическую непоколебимость (отсутствие догм) с практической жизненной активностью, основанной на вероятностном и проверяемом критерии. Эта стадия завершает эволюцию Академии от метафизического догматизма к последовательному анти-догматизму, который, однако, нашел способ быть функциональным в реальном мире.
Библиографический:
1. Dillon, J. The Heirs of Plato: A Study of the Old Academy (347—274 BC). Oxford, 2003.
2. Tarán, L. Speusippus of Athens: A Critical Study with a Collection of the Related Texts and Commentary. Leiden, 1981.
3. Cherniss, H. The Riddle of the Early Academy. Berkeley, 1945.
4. Long, A. A., Sedley, D. N. The Hellenistic Philosophers. Vol. 1: Translations of the Principal Sources with Philosophical Commentary. Cambridge, 1987.
5. Bett, R. (Ed.). The Cambridge Companion to Ancient Scepticism. Cambridge, 2010.
6. Hankinson, R. J. The Sceptics. London, 1995.
7. Striker, G. Essays on Hellenistic Epistemology and Ethics. Cambridge, 1996.
8. Allen, J. «Carneades», The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Ed. Zalta, E. N.).
9. Frede, M. «The Skeptic’s Two Kinds of Assent and the Question of the Possibility of Knowledge», in Essays in Ancient Philosophy. Minneapolis, 1987.
2. Древняя Академия (Спевсипп, Ксенократ) – Систематизация и догматизация
Определение ключевого свойства: Прямые преемники Платона (его племянник Спевсипп и затем Ксенократ) предприняли попытку систематизировать и формализовать многогранное, часто диалогическое и незавершенное учение основателя. Это привело к его догматизации и усилению нумерологических и пифагорейских элементов.
От «Исследования» к «Доктрине».После смерти Платона Академия из живой философской мастерской начала превращаться в formal school с устоявшимся корпусом учений. Этот переход от «исследования» (zetesis) к «доктрине» (dogma) является ключом к пониманию всей последующей эволюции платонизма.
1. Проблема Наследия: Многоголосие Платона Как подчеркивает Джон Диллон в «The Heirs of Plato», наследие Платона не было монолитом. Оно представляло собой сложный конгломерат:
· Письменные диалоги: Многие из которых (например, «Парменид», «Теэтет») заканчиваются апориями (безвыходными положениями) и не содержат позитивных догм.
· «Неписаные учения» (agrapha dogmata): Устные наставления для «продвинутых» учеников, касающиеся высших принципов – Единого и Неопределенной Двоицы, которые, судя по свидетельствам Аристотеля, имели более догматический и систематический характер.
· Авторитет Учителя: Личность самого Платона как основателя, чьи идеи нуждались в защите, истолковании и развитии.
Задача схолархов (глав школы) заключалась в том, чтобы создать из этого единую, последовательную и защищаемую систему.
2. Институциональный Императив и Внешняя Конкуренция Работа Гарольда Чернисса «The Riddle of the Early Academy» акцентирует внимание на внешних факторах, способствовавших догматизации:
· Конкуренция с Аристотелем: Основание Ликея Аристотелем, который разрабатывал альтернативную, строго систематизированную философскую систему, создавало для Академии мощный стимул к консолидации и формализации собственного учения. Чтобы конкурировать, нужно было иметь четкие «школьные позиции».
· Необходимость учебного процесса: Для обучения новых поколений студентов требовался структурированный корпус знаний, а не только искусство задавать вопросы. Философия начинала превращаться в учебную дисциплину со своим каноном.
3. Суть Процесса: От Апории к Догме Современные исследователи, такие как М. Боннаци (в работах, посвященных истории Академии), показывают, как именно происходила эта трансформация:
· Разрешение апорий: То, что у Платона было предметом исследования и сомнения (например, «существуют ли идеи?»), у его преемников стало утвердительным догматом. Апории «Парменида» были прочитаны не как демонстрация проблем теории Идей, а как пропедевтика к ее «правильному» – догматическому – пониманию.
· Систематизация и классификация: Спевсипп и Ксенократ стремились выстроить все сущее в иерархические онтологические схемы (Единое -> Числа -> Геометрия -> Душа -> Космос). Они занимались тем, что можно назвать «метафизическим картографированием», заполняя белые пятна, которые Платон намеренно оставлял пустыми.
· Создание дефиниций: Ксенократ, в частности, известен тем, что давал четкие, почти схоластические определения ключевым понятиям («Идея есть парадигматическая причина…", «Душа есть самодвижущееся число»). Это – ярчайшее проявление догматизации: живая, текучая мысль заключается в жесткие формулировки.
4. Последствия: Уязвимость догм и почва для скепсиса Этот переход имел решающее значение для будущего Академии. Создав жесткие догматические системы, Древняя Академия сама создала мишень для критики. Когда вы утверждаете, что «идеи – это числа», или что «Единое – это высший принцип», эти утверждения можно оспорить. И именно это в следующем поколении и сделал Аркесилай. Он обратил диалектику Платона не против внешних оппонентов, а против догм собственной школы, показав, что ни одна из этих претензий на знание не является окончательно обоснованной.
Спевсипп: Радикальная ревизия и математическая онтология.Суть метафизического проекта Спевсиппа – сознательный разрыв с платоновской теорией Идей и построение альтернативной, строго иерархической и математизированной модели бытия.
1. Отказ от теории Идей: Критический и конструктивный подход
· Критика «Третьего Человека»: Спевсипп, вслед за Аристотелем, признавал логическую уязвимость теории Идей. Проблема «третьего человека», по сути, указывала на регресс в бесконечность: если существует Идея Человека, причастная к которым делает отдельных людей людьми, то должно существовать нечто третье, что объединяет саму Идею и отдельных людей, и так далее. Спевсипп решил эту проблему радикально – ликвидировав сам класс Идей как отдельно существующих сущностей.
· От онтологии подобия к онтологии причинности: Современные исследователи, такие как М. Ф. Бурнье (в работах о постплатоновской философии), подчеркивают, что Спевсипп заменил платоновскую модель, где вещи «подражают» Идеям или «причастны» им, на модель каузальной эманации. Высшие принципы (Единое и Двоица) не являются парадигмами-образцами, а выступают как безличные причины, порождающие нижележащие уровни реальности через математические структуры.
2. Иерархическая онтология: Принцип автономии уровней.
· Единое (to Hen) как онтологический, а не этический принцип: Разделение Единого и Блага – это не просто частная корректива, а фундаментальный сдвиг. Для Платона высшее начало было одновременно источником бытия, единства и ценности (Благо). Спевсипп, как отмечает Дж. Диллон, проводит десакрализацию метафизики. Его Единое – это абстрактный, почти логический принцип единства и предела, необходимый для возникновения порядка из неопределенности Двоицы (принципа беспредельности и множественности). Это шаг в сторону более «научного», менее теологического понимания первооснов.
· Теория не-транзитивности (ἀνϵπιβασις): Это центральный и самый новаторский элемент его системы. Принцип означает, что:
o Каждый уровень сущего (числа, геометрия, душа, мир) качественно уникален.
o Законы и свойства одного уровня неприменимы напрямую к другому. Например, благость числа или души – это не то же самое, что благость чувственной вещи. Этика отделена от онтологии.









