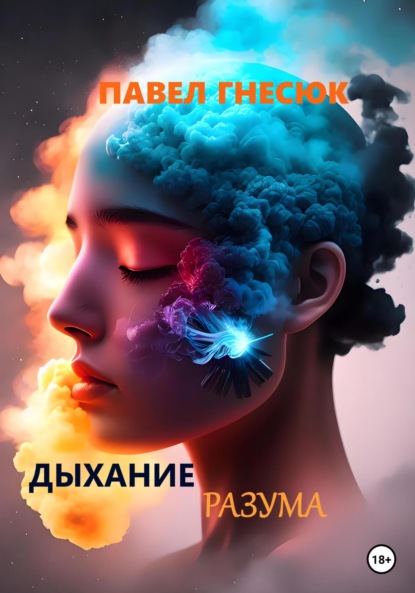Полная версия
Белый шейх: путь мести
Сердце Нагиба ёкнуло, когда скрипнула дверь кабинета его дяди Мансура. Комната, бывшая символом порядка и безопасности, теперь принимала воров ночи. Ледяная волна страха и любопытства подняла его с постели. Босиком, затаив дыхание, он, как тень, скользнул к двери и приник к холодной стене коридора.
Луна, пробивавшаяся сквозь высокое окно, рисовала на полу бледные призрачные узоры. В этом полумраке он увидел их: две фигуры, замершие посреди комнаты. Один – высокий и костлявый, его лицо было скрыто тенями, и Нагиб не узнал в нём ни одного гостя, бывавшего в доме. Второй… Второй заставил кровь застыть в жилах. Это был Рашид, правая рука дяди, человек, улыбку которого Нагиб видел каждый день за завтраком, человек, которому Мансур доверял самые важные дела долгие годы.
– Он начинает копать слишком глубоко. – Шипел незнакомец, и его голос был похож на скрежет камня по стеклу. – Эти вопросы, эти поездки в архив… Если он сложит пазл, если узнает правду, всё рухнет. Наши планы, всё, что мы строили!
– Успокойся. Паника – наш худший враг. – Рашид, обычно такой спокойный и величавый, нервно провёл рукой по лицу. – Пока он лишь бродит вокруг да около, как слепой щенок. Он пока не представляет реальной угрозы. – Он сделал паузу, и в этой паузе повисла немая, страшная угроза. – Лишь бы его любопытство не переросло в уверенность! – Холодно продолжил Рашид, и его глаза блеснули в темноте сталью, – если он станет настоящей проблемой… мы знаем, что делать. С ним поступят так же, как и с его непокорными родителями.
Вот они тайные слова, произнесённые в безмолвной ночи. Слова, повисшие в воздухе откровенным приговором. Нагиб замер, вжавшись в стену. Казалось, сердце вырвется из груди, его громкий, предательский стук эхом отдавался в его ушах. Он не понял всех деталей, но главное было ясно как белый день: эти люди, один из которых был почти что семьёй, желали ему зла. Они что-то скрывали, что-то огромное и тёмное. И самое ужасное – они были напрямую связаны с тем, что случилось с его матерью и отцом. Это была не трагическая случайность, не нелепая авария. Это было… спланированное действие.
Нагиб не помнил, как вернулся в комнату. Ноги сами понесли его, повинуясь слепому инстинкту самосохранения. Он рухнул на кровать, дрожа всем телом, но не от холода. Снаружи доносился приглушённый ропот голосов, а потом – тихие, удаляющиеся шаги. Но теперь тишина дома казалась ему враждебной и ложной.
Сон бежал от него. Нагиб лежал, уставившись в потолок, и чувствовал, как рушится последний оплот его старой жизни. Он не просто потерял семью. Он стал пешкой в чужой игре. В большой, опасной, смертельной игре, правила которой ему были неизвестны, а противники оказались сильнее и коварнее, чем он мог себе представить. И в этой леденящей душу ясности родилась новая, железная решимость. Чтобы раскрыть правду, чтобы отомстить, чтобы просто выжить, ему нельзя было оставаться мальчиком. Ему предстояло стать сильнее. Сильнее обмана, сильнее предательства, сильнее страха. Сильнее их всех.
Утро, казалось, насмехалось над его страхом. Солнечный свет, игривый и беззаботный, заливал просторную столовую, переливаясь в хрустальных подвесках массивной люстры и отражаясь в отполированной до зеркального блеска поверхности длинного стола из тёмного красного дерева. Стол ломился от изобилия. В изящных серебряных блюдах дымились горячие лепёшки, в расписных фаянсовых пиалах золотился душистый мед.
В хрустальных графинах играл на солнце рубиновый гранатовый сок. Воздух был густ и сладок от ароматов свежей выпечки с корицей, кофе с кардамоном и дорогого табака – это Мансур, уже закончивший трапезу, курил свою длинную трубку, разглядывая утреннюю почту.
Но для Нагиба вся эта роскошь, вся эта показная идиллия стала ядовитой декорацией. Каждый сверкающий предмет казался ему свидетелем, каждый звук – угрозой. Звон позолоченного ножа о фарфоровую тарелку резал слух, как скрежет стали. Его взгляд скользнул по сидящему напротив Рашиду. Тот, как ни в чём не бывало, аккуратно, с помощью специальных щипцов, клал себе на тарелку кусочек сладкой, пропитанной сиропом пахлавы, украшенной фисташками. Эта картина сытого, довольного спокойствия была невыносима. Она была страшнее любой ночной угрозы.
Именно в этот момент он поймал на себе взгляд дяди. Мансур отложил в сторону газету и свою трубку, опёрся локтями о столешницу, сцепив мощные, покрытые старыми шрамами пальцы. Его пронзительные глаза, скрытые под густыми седыми бровями, утратили обычное отстранённое спокойствие. Теперь они изучали Нагиба с пристальностью алмазного бура.
Это выполнялось так, словно пытались проникнуть сквозь усталость и напускное безразличие – прямо в душу, где бушевала буря из страха, гнева и обречённости. Долгие секунды в столовой царила тягостная пауза, нарушаемая лишь мерным тиканьем массивных напольных часов в углу, отсчитывающих секунды до неизбежной развязки.
– Ты плохо спал, Нагиб? – Нарушил молчание Мансур. Его низкий, грудной голос, обычно смягчённый привычной нежностью, сегодня был твёрдым и ровным, как сталь. В нём чувствовалась не просто забота, а настороженная, бдительная проницательность. – Ты бледен. И глаза пустые, будто ты не отдыхал, а сражался с тенями всю ночь. Ты чего—то боишься?
Нагиб почувствовал, как ладони стали влажными. Он сжал в кулаке тяжёлую льняную салфетку с вышитым фамильным гербом. Лгать этому человеку, чей взгляд, казалось, видел все тайны дома, было бессмысленно. Но и правда была равна самоубийству. Оставался лишь полумрак намёка, игра в откровенность, где можно было бросить камень и наблюдать за кругами на воде. Он сделал глоток прохладного сока из высокого хрустального бокала, чтобы растянуть время и убрать дрожь из голоса.
– Не боялся, дядя, ночью я видел сон. – Он помедлил, глядя прямо на Мансура, пытаясь уловить малейшую тень на его непроницаемом лице. – Сон показался мне слишком реальным. Ночные видения были о людях, кто живет среди нас, сидят с нами за одним столом, улыбаются, а в душе носят чёрную, как смоль, ненависть. Ко мне, к тебе. Ко всему, что носит нашу фамилию.
Словно по команде, Рашид отложил в сторону серебряные щипцы. Они негромко звякнули о мраморное подносное блюдо. Звук был крошечным, но в напряжённой тишине он прозвучал как выстрел. Мансур не отвел взгляда от племянника. Его сцепленные пальцы сжались чуть сильнее.
– Интересный сон, – медленно, растягивая слова, проговорил Мансур. В его голосе зазвучала неподдельная, суровая озабоченность, смешанная с неким странным любопытством. – Слишком взрослый, слишком… детализированный для мальчика. Слишком много в нём яда и точности. Откуда у тебя такие мысли? Кто тебе такое нашептывает?
Вопрос повис в воздухе откровенным обвинением. Нагиб почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Кто нашептывает? Твой же верный пёс, что сейчас вытирает сладкие пальцы о шёлковую салфетку!» – кричало внутри него. Но внешне он лишь откинул плечи, демонстрируя остатки детской обиды, за которой можно было спрятать железную решимость.
– Может, потому что я больше не ребёнок, – парировал Нагиб, и в его тихом голосе впервые прозвучали низкие, вибрирующие нотки, несвойственные мальчишке. Он отодвинул изящную фарфоровую тарелку с не тронутым завтраком. – Дети верят в сказки и пряничные домики. А мне уже показали, что даже самый крепкий дом может быть полон скрытых ходов, а мир – это тёмный лес, где у каждого, кто улыбается тебе в лицо, за пазухой припрятан камень. Или отточенный кинжал.
Мансур откинулся на спинку своего массивного резного кресла. Оно тихо заскрипело, приняв его вес. Он не ответил. Его взгляд, всё так же пристальный, будто замер в глубокой, бездонной задумчивости. Он видел перед собой не просто испуганного сироту, дрожащего от ночных кошмаров. Он видел блеск в этих юных глазах – не слезливый, а холодный, обжигающий, как лезвие, закалённое в горниле потери и предательства.
Он видел твёрдую, упрямую линию сжатых губ, в которой не было и тени каприза, лишь молчаливое, непоколебимое принятие какого—то страшного решения. И тогда Мансур медленно, почти торжественно кивнул. Это был не кивок одобрения или утешения. Это был кивок полководца, который видит перед собой неожиданно обнаруженный, но крайне ценный и опасный ресурс, и принимает стратегическое решение о его использовании.
– Нагиб слишком быстро взрослеет и уже всё осознает. – пронеслось в голове у Мансура с ясностью удара колокола. – То, что не понимает – чувствует нутром.
Зерно правды упало не в мягкую детскую почву, а на камень, и проросло не цветком, а стальным клинком. Он не просто мой бедный мальчик, не просто сирота, о котором нужно заботиться. Судьба, отняв у него одно, выковала ему другое. Он – оружие. Слепое пока, не отточенное, но уже смертельно опасное в своей непредсказуемости. И если я смогу направить его остриё в нужную сторону… если он выживет в этой игре.
Мысль была одновременно пугающей и восхитительной. Он бросил быстрый, оценивающий взгляд на Рашида, на его безмятежное, сытое лицо, и впервые за долгое время почувствовал не только тяжесть заговора, но и проблеск надежды, острой и хищной.
– Однажды, возможно, именно этот мальчик изменит ход истории. Не я, не мои интриги, а этот мальчик, в чьих глазах горит неугасимый огонь его отца. Он может стать либо нашим палачом, либо нашим спасителем. Судьба всей семьи Риядов теперь лежит на этих хрупких, но уже не по—детски напряжённых плечах.
– Допивай сок, Нагиб, – вдруг мягко, но с новой, незнакомой интонацией – не дяди, а Наставника – сказал Мансур. – Сегодня, после уроков, мы с тобой поднимемся в библиотеку. У нас будет важный разговор. О твоём отце. О мести и о том, каким мужчиной тебе предстоит стать.
Кабинет Мансура был не просто комнатой. Это была крепость внутри крепости, сердце дома, где принимались все судьбоносные решения. Воздух здесь был густым и насыщенным, пахнущим старыми переплётами книг, дорогой кожей, полированным деревом и слабым, но стойким ароматом табака, въевшимся в тяжёлые бархатные портьеры. Стены, обитые темно—зелёным штофом, были уставлены книжными шкафами до самого потолка. На полках стояли не только книги, но и странные артефакты, привезённые из разных уголков мира: резная каменная печать, древний кинжал с рубином в рукояти, пожелтевшие карты с нанесёнными от руки пометками.
Центром вселенной был массивный дубовый стол, заваленный бумагами, свитками и несколькими телефонами. За ним, в высоком кресле с резной спинкой, похожем на небогатый трон, сидел Мансур. Он не курил, а просто смотрел на Нагиба, вошедшего и остановившегося посредине комнаты. Пол был застелен толстым персидским ковром, приглушавшим любой звук, – здесь даже шаги тонули в безмолвии.
– Садись, Нагиб. – Голос Мансура был тихим, но идеально слышимым в этой тишине. Он указал на кожаное кресло по другую сторону стола. – Ты сказал утром очень важные слова. Слишком важные, чтобы оставить их без внимания.
Нагиб опустился в кресло. Оно было огромным и, казалось, хотело поглотить его. Он чувствовал себя маленьким и уязвимым в этом месте силы, но внутри всё сжималось в твёрдый, холодный комок.
– Ты говорил, что больше не ребёнок. – Начал разговор хозяин дома. – Это не выбор, Нагиб. Это констатация факта. Судьба лишила тебя права на детство. Ты стал мужчиной в ту ночь, когда потерял родителей. А сегодня утром… ты это подтвердил.
– Он знает. Он точно знает, что я не спал. Знает, что я слышал. Это ловушка? – Лихорадочно общался сам с собой Нагиб. – Он проверяет меня? – Пронеслось в голове у Нагиба. Он молчал, уставившись на трещинку в полировке стола.
– Твой сон… о ненависти. Я даже бы назвал это проявлением инстинкта, что спасёт тебе жизнь, если ты научишься его слушать. Мир, в котором мы живём, – это не пикник в саду. Это шахматная доска, где пешки часто гибнут, даже не поняв, кто и зачем их передвинул. – Рассуждения Мансура проникали в сердце мальчика. – Наша семья, наш род… у нас есть друзья. Но у нас ещё больше врагов. Одни – явные, их легко увидеть. – Мансур провёл рукой по воздуху, и его взгляд на мгновение стал отстранённым, – другие носят маски друзей. Они пожимают тебе руку, улыбаются тебе в лицо, а в другой руке держат нож, готовый воткнуть тебе в спину.
– Как Рашид. – Испугался мальчик. – Этот человек улыбался мне сегодня утром. Он предложил мне мёд. Ночью же говорил о том, чтобы со мной поступить. Лицемер. Змея. Что же дядя… он ведь доверяет ему? Или он тоже что-то подозревает? – Нагиб сглотнул комок в горле, боясь поднять глаза.
– Ты стал частью игры, правила которой тебе не объясняли. Прости меня за это. Я надеялся… я хотел отдалить этот день. Но твоё любопытство, твоя боль – они опередили мои планы. – Мансур с сожалением и одновременно с печалью в глазах покачал головой. – Ты хочешь знать правду о том, что случилось с твоими родителями?
Нагиб резко поднял голову. Его глаза широко распахнулись. В них был и страх, и жгучее, нестерпимое ожидание.
– Правда горька. Смерть твоих родителей не была случайностью. Это была расплата. Расплата твоего отца за то, что он, начал копать слишком активно. – Мансур подумал о брате с улыбкой на устах, а в глазах сверкнули кристаллики слез. – Он наткнулся на тайну, которая стоила ему жизни. Он был храбрым человеком. Слишком храбрым и слишком доверчивым.
– Они убили их. Они убили папу за то, что он хотел докопаться до правды. А теперь… теперь они говорят то же самое обо мне. Если станет проблемой… мы знаем, что делать. – Сердце Нагиба заколотилось так сильно, что ему показалось, Мансур сможет это слышать.
– Теперь они видят тебя. И теперь у тебя есть только два пути. Первый – закрыть глаза, заткнуть уши и сделать вид, что ничего не знаешь. Жить в страхе, что однажды ночью маска спадет с очередного «друга» и тебе представят счёт. Возможно, ты проживёшь долгую жизнь. Но это будет жизнь труса. И я не думаю, что сын моего брата на это согласен.
– Второй путь… Он сложен. Он опасен. Он потребует от тебя всего. Ты должен будешь учиться. Не только математике и истории. Ты должен научиться читать людей. – Мансур помолчал, давая словам улечься. Его взгляд был тяжёлым, как свинец. – Видеть ложь в их глазах, скрытые угрозы в комплиментах. Ты должен стать сильнее. Не только телом – духом. Ты должен понять, что доверять можно только делам, а не словам. И что иногда… чтобы победить змею, нужно притвориться камнем, подпустить её близко—близко, и только тогда наносить удар. Точечный и смертельный.
– Он говорит со мной как со взрослым. Как с равным. Он предлагает мне… месть. Не детскую обиду, а настоящую, холодную месть. – Нагиб сжал кулаки так, что ногти впились в ладони. Боль помогала сосредоточиться. Страх начал медленно превращаться в нечто иное – в яростную, непоколебимую решимость.
– Тогда запомни моё первое и последнее прямое наставление, мальчик мой. Никогда и никому не показывай, что ты знаешь больше, чем ты знаешь на самом деле. – Мансур медленно кивнул. В его глазах вспыхнула искра – не улыбки, а гордого, сурового одобрения. – Пусть твои враги недооценивают тебя. Пусть думают, что ты всего лишь ребёнок, напуганный сирота. Это будет твоей лучшей броней и твоим самым острым оружием. Начинается твоё настоящее обучение. С сегодняшнего дня.
– Я не хочу жить в страхе, но постараюсь изображать перед ненавидимыми врагами наивного мальчика. – Тихо, но чётко сказал Нагиб и его голос даже не дрогнул.
– Теперь иди. И ни словом, ни взглядом, ни намёком не показывай, о чём мы здесь говорили. – Приёмный отец откинулся на спинку кресла, его фигура слилась с тенями, заполнявшими кабинет. – Для всех ты просто расстроенный мальчик, которого дядя отчитал за плохие манеры за завтраком. Твоя игра началась. Выживи в ней.
Нагиб молча встал и вышел. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком, отделяя его от прошлой жизни. Он шёл по коридору, и каждый его шаг был теперь осознанным. Он не просто сирота. Он – оружие. И его только что взяли с полки, чтобы начать затачивать.
***
Годы, как воды одной реки, несли братьев по жизни, но постепенно размывали один берег и намывали другой, незаметно меняя их русла. Нагиб и Халид оставались неразлучны, но тень между ними росла, тонкая и почти невидимая, как паутина в углу богато убранной комнаты. Мансур, чьё сердце давно признало Нагиба родным сыном, с тревожной проницательностью начал замечать перемены.
В мальчике, кого он растил с нежностью, проклёвывалось нечто холодное, твёрдое и неуловимое, словно лёд, проступающий под тонким шёлком, – нечто, что не поддавалось ни ласке, ни строгости. Их детские забавы, некогда наполненные беззаботным смехом под сенью цветущих миндальных деревьев в саду, перерождались во что-то иное. Где-то затерялись деревянные мечи, битвы на которых заканчивались дружескими объятиями.
Теперь в каждом движении Нагиба, в каждом его выпаде сквозила не игра, а безжалостная проверка – на прочность, на боль, на предел. Он вкладывал в удар всю силу растущего тела, и в его глазах, устремлённых на вздрагивающего от боли Халида, плясали не весёлые искорки, а холодные блики любопытства хищника, впервые пробующего когти.
– Зачем ты так сильно бил? – Однажды спросил Халид, потирая ушибленное плечо, на котором уже проступал сине—багровый след.
Солнце играло в его потных волосах, но не могло разогнать обиды в его глазах. Нагиб опустил своё импровизированное оружие – толстую ветку, заменявшую клинок. Его дыхание было ровным, в отличие от прерывистого дыхания брата.
– В бою не бьют аккуратно. Ты должен быть готов к настоящему, – ответил он, и в его голосе не было ни намёка на прежнее веселье, лишь плоская, безжизненная констатация факта. Этот голос казался чужим, пробивающимся из—под маски знакомого лица.
Переломный момент наступил на плоской, нагретой солнцем крыше особняка, откуда открывался вид на весь их мир – ухоженный сад, белые стены дома, дальние холмы. Мансур, искавший их к обеду, застыл в проёме чердачной двери, заслонив собой солнце. Картина, представшая его глазам, врезалась в память с остротой ножа.
Халид, бледный, прижимал руку к голове, а по его лицу из носа стекала алая струйка, пачкающая белую рубашку. Над ним, возвысившись в позе победителя, стоял Нагиб. В его руке, сжатой в белом каменном кулаке, был зажат острый обломок черепицы.
– Он оступился и упал с лестницы. – Повисла тишина, звенящая, как натянутая струна. Первым нарушил её Нагиб, его голос прозвучал на удивление ровно, почти бесстрастно.
Мансур медленно перевёл взгляд на своего родного сына. Тот молчал, сжимая зубы, но его широкие, полные слёз боли и предательства, глаза кричали громче любого обвинения. Они говорили всё. Вся история была написана в этом испуганном, умоляющем взгляде. Сердце Мансура сжалось в тисках мучительной дилеммы. Справедливость требовала немедленного, сурового наказания старшего.
Нечто более глубокое, холодный расчёт стратега, уже видевшего в Нагибе не просто мальчика, а орудие, заставило его отступить. Он не проронил ни слова. Лишь тяжело вздохнув, развернулся и молча направился прочь, в свою тихую крепость—кабинет, где пахло кожей и тайнами. Но на полпути он вдруг остановился, обернулся, и его голос, на удивление спокойный, разрезал тягостное молчание:
– Хватит бездельничать. – Приказал отец. – Идите в сад, воздухом подышите.
Нагиб замер на мгновение, и в его глазах мелькнуло нечто – не облегчение, а скорее понимание. Словно он услышал не произнесённые слова, а сам ход мыслей дяди, тот самый миг, когда гнев был отменён холодным расчётом. Он без слов бросил черепицу и помог подняться Халиду, его движения были резкими, без намёка на вину.
Внизу, в тени старого платана, они повалились на прохладную, упругую траву. Деревянные мечи, валявшиеся неподалёку, были напрочь забыты. Воздух был густ и сладок от аромата цветущего жасмина. Казалось, сад пытался убаюкать их, вернуть в беззаботное детство.
– Знаешь, я всё решил, – внезапно, глядя в бескрайнее голубое небо, проговорил Нагиб. Ему только что исполнилось шестнадцать, и в его голосе звучала непоколебимая уверенность человека, составившего карту своей жизни. – Ты будешь врачом. А я – бизнесменом. Так будет правильно.
Халид повернулся к нему, и на его добром лице появилась улыбка, тут же смягчившая следы недавнего испуга. Брат хорошо знал мечты Халида, так как игры и детские сражения ранее всегда заканчивались разговорами о их будущем.
–А ещё мы будем править миром! – воскликнул он с лёгким, беззаботным смехом, в котором ещё жил дух их общих игр.
Нагиб не счёл необходимым улыбнулся в ответ. Он отвернулся, и в его глазах, казалось, сгустились все тени сада. Внутри него нарастала чёрная, клокочущая волна ожесточения, та самая, что выплёскивалась в их жёстких играх. Внезапно, с яростью, которой не могло быть в этой идиллической картине, он вскочил, схватил валявшийся на траве деревянный меч и, круша им воздух, словно раненого врага решил добить лежащего Халида.
– Сражайся или умри! – Дико прокричал Нагиб.
Меч Халида мирно покоился под раскидистым цветущим кустом, и пока тот потянулся было к нему, Нагиб сделал стремительный выпад. Дерево со свистом рассекло воздух и обожгло щёку Халида, оставив на нем алеющую ссадину. Это не было нечаянностью. Это был точный, выверенный удар.
– Зачем? – Едва не плача прошептал Халид, потирая больное место. В его глазах стояла уже не обида, а неподдельный страх и недоумение перед этим чужим, холодным существом, в которого превратился его брат.
– Потому что так бывает в реальной жизни. – Голос Нагиба был ровным и безжизненным, как гладь озера в безветренную погоду. – Ты должен быть готов ко всему. Всегда.
С того дня Халид стал замечать всё больше. Нагиб не испытывал увлечения от игр, теперь в нём было больше тренировок, допуская и излишне жестоких. Он лазал выше всех, рискуя сорваться, прыгал дальше, играл жёстче, видя в любом состязании не удовольствие, а испытание на прочность. Однажды, карабкаясь по могучему старому баньяну, чьи корни сплелись в сказочные арки, Нагиб, оказавшись выше, вдруг качнул и отпустил ту самую ветку, за которую цеплялся Халид.
– Прости, я не заметил. – Бросил он сверху, глядя, как Халид кубарем летит вниз и с глухим стуком ударяется о землю.
С гримасой на лице Нагиб видел, как больно брату и как тот морщится от ушибов. Халид взглянул в глаза Нагиба. Его потрясло от внимательного злобного холода. Во взоре брата и друга по играм не отразилось и тени раскаяния, будто он проводил расчётливый, безжалостный эксперимент.
В школе их пути расходились ещё очевиднее. Халид учился хорошо, наслаждаясь самим процессом познания. Он любил погружаться в пучины истории, блуждать в лабиринтах литературы. В тишине библиотеки иногда выводил на бумаге робкие, лиричные строфы. Мансур гордился его тонкой, чувствительной натурой, но в его отцовской гордости всегда жила тревожная нота. Он понимал, что в мире, где власть держится на острие ножа и жёсткости воли, такой душистой доброты может оказаться недостаточно.
– Ты слишком добр, Халид, – говорил он ему как—то раз, беседуя в сумерках на веранде. – Это твой ценнейший дар и твоя величайшая слабость.
– А разве быть добрым – плохо? – Искренне удивился юноша, его глаза отражали последние лучи заходящего солнца.
– Нет, сын мой. Никогда. Но запомни: будь осторожен. Не все в этом мире добры в ответ. – Подбирая слова, отец не делал сравнение родного сына с приёмным, считая их одинаково любимыми для себя.
Учёба давалась Нагибу с пугающей лёгкостью, словно он не изучал науки, а просто вспоминал то, что уже знал и хранил внутри себя. Несомненно, на его способности сказывалось блистательные гены родителей. В тоже время ум был направлен не на познание, а на конфликт. Учителя разводили руками, называя его неуправляемым и опасно одарённым. Мансур же неизменно заступался за него перед директором школы.
– Парень переживает глубокую травму, утрату. Ему нужно время, чтобы прийти в себя. – Где-то глубоко в душе Мансур ругал себя за жалость к Нагибу и полагал нужно действовать жестче.
Но время шло, а израненное сердце мальчика не заживало. Оно покрывалось рубцами и обрастало бронёй. От того весёлого сорванца, что когда-то носился с Халидом по саду, не осталось и следа. Теперь Нагиб предпочитал одиночество. Он мог часами сидеть в сторонке, наблюдая за людьми: за тем, как гость поправляет галстук, прежде чем войти в кабинет к Мансуру, как служанка опускает глаза, произнося неправду.
Он изучал их, анализировал, раскладывал на составляющие, как часовой механизм, учась нажимать на невидимые пружинки и рычажки, чтобы добиваться своего. Однажды, проходя поздно вечером мимо полуоткрытой двери в библиотеку, Мансур услышал низкий, уверенный голос Нагиба. Он разговаривал с одним из своих немногочисленных «друзей», сыном делового партнёра.
– Запомни, люди – это как карты в колоде. – Рассуждал Нагиб, и в его голосе звучала леденящая уверенность. – Сначала ты их тщательно изучаешь, запоминаешь ценность. Потом решаешь – выбросить как шестёрку или использовать как туза. Главное – никогда не путай их ценность и никогда не играй с ними в fairplay. Мансуру было тяжело слышать слова приёмного сына отвергающего негласный свод этических и моральных законов.