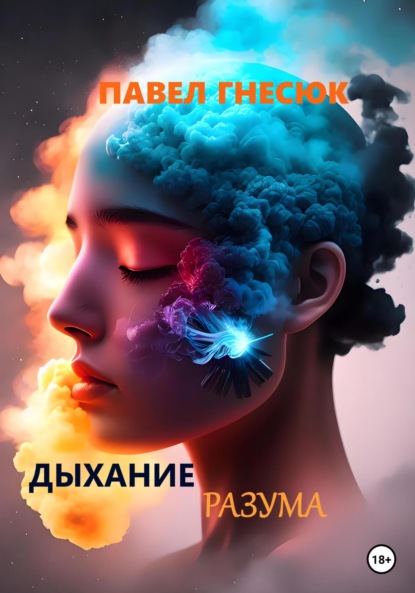Полная версия
Белый шейх: путь мести
– Прости меня, Фарух! – Прошептал Мансур однажды вечером, рассматривая фотографию брата. – Я не смог найти того, кто тебя убил.
Он чувствовал себя беспомощным. Впервые за всю жизнь. Он мог купить любую фабрику, любого министра, любого журналиста, а правду купить не смог. Не мог отыскать пути к справедливости. Али Хусейн, закончив дело, принёс ему отчёт – толстую папку с записями, фотографиями, выводами.
– Я сделал всё, что мог. – Детектив печально склонил голову. – Этого недостаточно. Они слишком умны. Или слишком влиятельны.
– Спасибо, Али. – Мансур долго смотрел на него, потом закрыл папку и положил её в ящик стола. – Ты получил то, что тебе причитается.
– А вы? Что теперь будете делать? – Беспокоился детектив.
– **Я не знаю, но сдаваться я не намерен. – Рияд указал, что его ждут другие дела. – В этом деле нужно научиться быть терпеливым и ждать. Мои враги когда-нибудь ошибутся, вот тогда я и отвечу.
Расследование Мансура не дало результатов. Все усилия, деньги, время – всё ушло впустую. Он так и не узнал, кто именно организовал аварию. Не нашёл ни одного доказательства против своих тайных врагов. Он приказал себе набраться терпения, ведь враги существуют. Значит однажды они снова дадут о себе знать. Все эти месяцы безрезультатных поисков произошли позже. Мансур заставил закостенеть собственным моральным страданиям. Придя в себя после потрясения от увиденного на месте аварии, он осознал главное – необходимо взять под опеку племянника Нагиба.
***
Машина Мансура резко, с визгом тормозов, остановилась у ворот школы, подняв облако рыжей осенней пыли. Он вышел, и его высокая, мрачная фигура в идеально отутюженном черном костюме казалась чужеродным элементом в этом наполненном беззаботным гомоном пространстве. Он всегда ненавидел эти места, – промелькнуло у него в голове, – эти храмы наивных надежд, где детей готовят к жизни, хотя на самом деле она всегда оказывается коварнее и жестче любых учебников. Не глядя по сторонам, он тяжелой, уверенной поступью прошел по длинному, пропахшему хлоркой и старыми партами коридору и без стука вошел в кабинет директора. Несколько тихих, отточенных фраз, произнесенных низким, не терпящим возражений голосом.
– Мне нужно забрать Нагиба Рияда немедленно, – в его интонации не было вопроса, это был приказ. Лицо директора, человека, привыкшего к своему авторитету, побледнело. Он что-то пробормотал о правилах, учебном процессе, но встретившийся со взглядом Мансура, мгновенно смолк и лишь суетливо закивал.
– Конечно, я провожу вас сам. – Директор школы выглядел испуганным, но постарался гордо поднять голову. – Следуйте за мной.
Десятилетний Нагиб сидел на уроке математики, погруженный в привычную, почти медитативную тишину. Он любил эти минуты сосредоточенности, где царил только чистый разум, а каждое уравнение было маленьким сражением с хаосом, где можно было выиграть с помощью логики и правил. Он был странным ребенком. Так иногда думал учитель, так как был слишком тихим, слишком взрослым для своих лет, будто уже тогда носил в себе какую—то важную и недетскую тайну. Внезапно дверь в класс с громким стуком распахнулась. На пороге замер директор, а за его спиной – та самая мрачная тень, которая уже успела поселить смутную тревогу в сердце мальчика.
Директор, избегая глаз учителя, прошел прямо к парте Нагиба. Его лицо было маской из вежливости и ужаса.
– Нагиб, собери вещи, пожалуйста. За тобой пришли. – Директорский голос сорвался на шепот, он пытался быть мягким, но получалось только испуганно.
– Извините, господин Аббас, но у нас урок. Что случилось? – Учитель математики, молодой мужчина с добрым и строгим лицом, сделал шаг вперед.
Директор лишь резко, почти отчаянно мотнул головой, и его взгляд, полный немой мольбы, мгновенно закрыл учителю рот. В классе повисла звенящая тишина, нарушаемая лишь сдвиганием парт и сдержанными перешептываниями. «С ним что-то случилось?» «Кто этот дядя? Похож на бандита из сериала…» «Наверное, его отец снова за границу уезжает, вот и приехал попрощаться с помпой», – пронеслось в головах у одноклассников.
Нагиб, уже не слышавший этого шепота, понимал: все гораздо хуже. Этот визит пахнет не отпуском, а бедой. Его сердце, прежде бившееся ровно в такт решению задач, теперь бешено колотилось, предчувствуя крах. Мальчик медленно, будто в воде, стал складывать вещи в портфель. Руки не слушались, пальцы стали ватными и непослушными.
– Главное – не показать страх, – твердил он про себя, – главное – держаться.
Когда он вышел в пустынный, прохладный холл, Мансур стоял там, неподвижный, как скала. Его лицо было высечено из камня, но глаза… Взгляд взрослого человека, который несет в себе смерть, – с ужасом подумал Нагиб. Именно так должны выглядеть люди, приносящие самые страшные вести.
Мансур молча положил тяжелую, большую ладонь на плечо мальчика. В этом жесте была не просто тяжесть, в нем была вся неподъемная громада случившегося.
– Поехали! – Только и сказал он, и его голос прозвучал хрипло и устало.
В машине царила гнетущая тишина, разрываемая лишь стуком дождя по стеклу, начавшегося, как только автомобиль выехал на шоссе. Так сама природа отбивала такт для вселенской скорби. Нагиб не выдержал.
– Дядя Мансур? Что случилось? Папа? Мама? – Собственный голос показался Нагибу тонким и чужим.
Мансур сжал пальцами руль так, что костяшки побелели. Он смотрел прямо на дорогу, но видел, кажется, что-то совсем иное.
– Нагиб…твой отец… и твоя мама… – Брат отца замолчал, подбирая слова, может их не существовало на свете, чтобы смягчить удар. – Они были сегодня в дороге. Твоих родителей больше нет с нами. Они ушли к Аллаху. – Мансур произнес это тихо, сдавленно, будто каждое слово ранило его изнутри. – Отныне ты остаешься со мной. Я отвечаю за тебя.
Мир Нагиба рухнул в одночасье. Звуки машин за окном, шум дождя – все смешалось в какофонию нереальности. “Не может быть. Это ошибка. Сон. Сейчас я проснусь, а мама разбудит меня в школу. “ Лихорадочно метались мысли мальчика. Каменное лицо дяди и та боль, что стояла в его глазах, стали страшной реальностью.
– Как? – Выдохнул он, чувствуя, как горло сдавил спазм, а глаза застилают предательские слезы. – Как это произошло?
– Авария на загородной трассе. Их машина столкнулась с фургоном. – Ответы Мансура были краткими, рублеными, будто он отбивал их молотом. – Сказали, тормоза отказали.
– Полиция? Что говорят? – Мальчик цеплялся за тающую надежду, как утопающий за соломинку, пытаясь вернуть хоть каплю контроля над ситуацией. Мансур резко повернул к нему голову, в его глазах впервые вспыхнул не холод, а огонь.
– Полиция говорит— несчастный случай, я не верю и не хочу верить в такие случайности. – Мансур почти прошипел эти слова, и в них сквозила такая лютая уверенность, что Нагибу стало холодно. – Сейчас это не важно. Сейчас важен ты. А с врагами? – О снова уставился на дорогу, и его лицо окаменело, – …с врагами я разберусь позднее сам.
В тот вечер величественный дом Риядов, всегда похожий на сияющий золотой дворец, впервые за многие годы погрузился во мрак. Обычно с наступлением сумерек под его просторным куполом зажигались массивные лампы, отбрасывая на резные стены теплый, живой свет, в котором танцевали блики от замысловатых узоров мушарабии. Окна, словно дружелюбные глаза, сияли радушным светом, говоря всем вокруг о благополучии, тепле и семейном уюте, что царили внутри. Но в этот вечер окна были темными, слепыми и пустыми. Казалось, сам дом затаил дыхание, погрузившись в траур, что тяжелым саваном накрыл его стены. Он не просто стоял в темноте – он оплакивал, его молчание было громче любого плача, а его темнота была пронзительнее самых ярких огней. Камни, помнившие столько детского смеха и радостных голосов, теперь хранили лишь гнетущую тишину.
На пороге этого внезапно осиротевшего дома Нагиба встретила Амина, жена Мансура. Ее фигура в простом темном платье казалась хрупкой в полумраке высокого арочного проема, но в ее осанке читалась несгибаемая внутренняя сила. Ее лицо, обычно озаренное мягкой, лучистой улыбкой, сейчас было бледным и застывшим, но в его чертах не было и тени отчуждения или холодности. Это было лицо человека, познавшего горе и готового стать опорой для другого. Ее глаза, красные и припухшие от бесслезных, выжигающих душу слез, светились таким бездонным состраданием.
Нагибу, несмотря на весь ужас происходящего, на мгновение показалось, будто он увидел отсвет материнской любви. Она не стала говорить пустых, заученных слов утешения. Вместо этого она просто раскрыла объятия и крепко, почти отчаянно, прижала его к себе, как самого родного человека. Ее пальцы вцепились в ткань его школьной курточки, а губы коснулись его виска, и он почувствовал исходящее от нее тепло.
– Теперь ты наш сын. – Ласково прошептала Амина, ее голос, тихий и сдавленный, был наполнен такой железной решимостью, что в ее правдивости нельзя было усомниться. – Слышишь меня, Нагиб? Ты часть этой семьи. Ты мой мальчик, никогда, слышишь, никогда больше не будешь один. Мы всегда будем рядом. Мы твоя крепость.
Рядом, прижавшись к косяку двери, стоял семилетний Халид. Его большие, темные глаза, обычно сиявшие озорным огоньком, сейчас были округлены от не до конца осознанного, но глубоко прочувствованного волнения. Он видел слезы матери и каменное лицо отца, и детское сердце сжималось от смутной тревоги.
Он не до конца понимал слова «авария» и «смерть», но он прекрасно понимал язык печали, на котором сейчас говорил весь мир вокруг него. В его маленькой руке была зажата его самая ценная сокровищница – деревянный конь по имени Зайтун, вырезанный с удивительным искусством, с настоящей гривой из черных ниток. Халид недолго колебался, внутренняя борьба между детской жаждой оставить игрушку при себе и внезапно проснувшимся чувством взрослой ответственности была написана на его лице. Сделав шаг вперед, он робко, почти благоговейно, протянул коня Нагибу.
– Не грусти, пожалуйста. – Сказал он, и его голосок, чистый и звонкий, прозвучал как камертон в гнетущей тишине холла. – Вот, держи Зайтуна. Он будет тебя защищать. Мы теперь с тобой братья, навсегда. И братья делятся всем.
Нагиб механически взял предложенную игрушку. Гладкое, отполированное детскими ладонями дерево ощущалось чужим и бессмысленным в его руке. Он не смог улыбнуться в ответ на жест мальчика, не смог найти в себе сил даже на слабую гримасу благодарности. Вся его душа была парализована всепоглощающей болью. Он лишь кивнул, коротко и сухо, сжав деревянного коня в ладони так сильно, что сучки впились в кожу.
В этом сжатии была не благодарность, а отчаянная попытка ухватиться за что-то реальное, материальное, что могло бы хоть на секунду удержать его от падения в черную, зияющую бездну отчаяния, что разверзлась у его ног. Эта маленькая фигурка была его якорем в мире, который в одночасье потерял все свои краски, смыслы и опоры.
Воспоминания, острые и яркие, как осколки стекла, вонзались в сознание Нагиба, контрастируя с мраком настоящего. Внутренний двор дома Риядов с его знаменитым фонтаном в андалузском стиле был когда-то средоточием их с Халидом вселенной. Белоснежный мрамор, даже в летний зной, оставался прохладным и сиял под лучами солнца, а вода в фонтане не просто журчала – она пела свою вечную, умиротворяющую песню, похожую на колыбельную, знакомую им обоим с колыбели. Они, два мальчика, разница между которыми составляла всего одиннадцать месяцев, были не просто братьями – они были двумя половинками одного целого, неразлучными тенями. Их беззаботный, звонкий смех, словно перезвон хрустальных колокольчиков, разносился под сводами мраморных галерей, отражаясь эхом от древних стен.
Их любимой игрой был «джихад» – наивная, детская версия великих сражений, где длинные пальмовые ветви, подобранные в саду, мгновенно превращались в зазубренные клинки легендарных воинов, а сложенные из влажного песка замки у кромки бассейна становились неприступными цитаделями, которые нужно было отстоять или, наоборот, штурмом взять.
– Я Абдуррахман ад—Дахиль, и я завоюю всю Андалусию! – кричал Халид, взмахивая своим «мечом» и с грохотом опрокидывая песчаную башню.
– А я твой визирь, и я уже подсчитал все твои будущие богатства! – парировал Нагиб, уворачиваясь от атаки и с хитрым прищуром доедая украдкой припасенный кусок сладкой халвы.
Их войну внезапно прервал голос, мощный и властный, который разносился по дворику, подобно раскату грома среди абсолютно ясного неба.
– Халид! Нагиб! Немедленно ко мне! – Властно прогремели слова по дому.
Это был голос Мансура Рияда, главы семьи, человека, чье слово было законом не только в этих стенах, но и далеко за их пределами. Два мальчика, испачканные песком и липкие от сладостей, мгновенно оторвались от своего занятия. Халид, высокий и стройный для своего возраста, с широко распахнутыми, чистыми глазами, полными неподдельного любопытства и обожания к отцу, тут же бросился к нему, сметая все на своем пути. Нагиб, всегда более коренастый, осмотрительный и хитрый, не спешил. Он следовал за двоюродным братом не торопясь, стараясь незаметно схватил последний кусочек халвы и, засунув в рот, стер следы пиршества с уголков рта.
Мансур окинул их суровым, испепеляющим взглядом, его глаза задержались на разорванных в клочья рубахах и испачканных песком штанах.
– Опять воевали? – Спросил он, и в его голосе звучала не столько строгость, сколько усталая покорность судьбе. – Вы превратите весь дворец в руины раньше, чем вражеская армия.
– Это не война, отец, это самые настоящие тренировки! – Поспешно оправдался Халид, с энтузиазмом вытирая испачканные в песке ладони о дорогие брюки. – Я должен быть сильным и смелым! Когда-нибудь я буду спасать людей, как доктор Ахмед, который вылечил мою руку!
Его глаза горели искренней мечтой, в них не было ни капли лукавства или сомнения. Мансур перевел взгляд на Нагиба, ожидая его ответа. Тот выдержал паузу, слегка поднял подбородок и ответил с вызывающей, мальчишеской бравадой, подмигнул.
– А я буду зарабатывать огромные деньги, как ты, дядя. – Нагиб горделиво посмотрел на брата. – Очень огромные. Чтобы хватило на сто таких дворцов и тысячу самых быстрых скакунов!
Мансур усмехнулся уголком рта, и на мгновение суровые складки на его лице разгладились. Но почти сразу же, еще до того, как улыбка успела коснуться его глаз, в их глубине мелькнула быстрая, как тень от пролетающей птицы, тень. Глубокая, тяжелая и знающая. Он смотрел на двух этих мальчиков – одного, рвущегося спасать, и другого, жаждущего покорять и зарабатывать, – и знал то, что было сокрыто от них самих. Он знал с непреложной уверенностью, продиктованной роком: судьба распорядится так, что один из них продолжит его дело, станет наследником его империи и хранителем его имени. А другой, столь же любимый и родной, неизбежно предаст. И этот день, день страшного выбора, неумолимо приближается.
Прошло несколько недель с момента той страшной трагедии, что расколола жизнь Нагиба на «до» и «после». Календарные листы отсчитывали дни с безжалостной механистичностью, не обращая внимания на то, что для мальчика время застыло, превратившись в густую, тягучую субстанцию боли. Он по-прежнему физически находился в роскошном доме Риядов, в его стенах, дышащих благополучием и историей, но он был здесь призраком, тенью того резвого, хитрого и бойкого мальчишки, который когда-то бегал здесь, мечтая о богатствах. Дом предоставил ему кров, пищу, новую, дорогую одежду, сменившую школьную форму, – все, что можно было купить за деньги. Но он не мог дать ему самого главного – ощущения дома.
Он стал другим, и эта перемена была видна невооруженным глазом. Его смех, некогда такой заразительный и беззаботный, что эхом разносился под сводами галерей, теперь если и появлялся, то был коротким, сухим, деланным звуком, мгновенно обрывающимся, словно ему было стыдно за эту секундную слабость. Его глаза, всегда такие живые, полные озорного огонька и любопытства, теперь потухли и ушли глубоко внутрь, скрываясь под тяжелыми веками. Он стал постоянно задумчивым, погруженным в себя, а его натура, всегда общительная, теперь сменилась глубокой, почти непроницаемой замкнутостью. Он стал мастером по отступлению, по поиску тихих, заброшенных углов, где никто не мог нарушить его одиночество.
Его любимым убежищем стал дальний угол сада, заросший диким жасмином и кипарисами, куда даже садовники заглядывали нечасто. Там, скрытый от всех любопытных глаз, под сенью плакучей ивы, чьи ветви, словно зеленые струи, касались земли, он позволял себе то, чего не позволял внутри дома, – он плакал. Тихо, беззвучно, до исступления, до боли в горле, пока глаза не опухали и не начинали слезиться от малейшего ветерка. Он плакал о родителях, о своем разрушенном мире, о кровати в своей комнате, о запахе маминых духов и о смехе отца. В эти минуты он был не наследником могущественного клана, не гостем в роскошном дворце, а просто маленьким, смертельно раненым мальчиком, который не понимал, как жить дальше.
Халид, с его чистой, детской и непосредственной душой, всеми силами пытался пробиться через эту стену горя. Он был как солнечный зайчик, без устали прыгающий вокруг темной тучи, пытаясь ее развеять. Он звал Нагиба играть, предлагал свои самые ценные игрушки, пытался вовлечь в разговоры о новых видеоиграх или скакунах. Но с каждым разом он все острее чувствовал, что между ними возникла невидимая, но непреодолимая преграда. Иногда он ловил на себе взгляд Нагиба, и от него становилось холодно. В том взгляде читалась не дружба и не братская привязанность, а какая—то странная, горькая зависть, смешанная с глубокой, непонятной Халиду обидой. Это был взгляд человека, который смотрит на того, у кого есть все, с позиции того, у кого отняли абсолютно всё.
Однажды они сидели у их общего, такого любимого когда-то фонтана. Вода журчала свою вечную, беззаботную песню, но теперь ее звук не веселил, а лишь подчеркивал глубину молчания между ними. Халид, не выдержав этой тягостной паузы, снова попытался заговорить, о чем—то пустяковом. Нагиб сидел, сгорбившись, бросая в воду камешки.
– Ты не понимаешь, Халид! – Вдруг прозвучал его голос, тихий, плоский, лишенный каких—либо интонаций. Он прервал поток слов брата, словно острым ножом. – Ты не понимаешь и никогда не поймешь. У тебя есть заботливая мама, целующая тебя на ночь, сильный отец, чью руку можешь потрогать, чтобы убедиться, что он настоящий. У тебя есть эта уверенность, этот фундамент под ногами. А у меня… Он замолчал, сглотнув ком в горле. – У меня ничего не осталось. Вообще ничего. Только пустота.
Халид, искренне озадаченный, посмотрел на него своими большими, ясными глазами. Для него логика была простой и неоспоримой.
– Нагиб, ты же живешь здесь, с нами! – Возразил он, и в его голосе звучала мягкая, детская укоризна. – Мы же твоя семья теперь. Мама так сказала. Папа так сказал. Мы все за тебя. Мы любим тебя.
Эти слова, сказанные с самой искренней любовью, словно раскаленная игла, вонзились в самую сердцевину боли Нагиба. Они не утешили, а, наоборот, обожгли его, заставив выплеснуть наружу всю ту горечь, что копилась в нем неделями.
– Вы не мои! – его голос внезапно сорвался на хриплый, почти истеричный шепот. – Вы – Рияды. Вы богатые, важные, у вас есть своя крепость, свои правила, своя жизнь! А я… я теперь никто. Сирота. Просто несчастный приемыш. Паразит на вашей шее, кого все обязаны жалеть из чувства долга!
Он выкрикнул эти слова, и ему сразу стало стыдно, но остановиться он уже не мог. Эти мысли, эти черви, грызущие изнутри, наконец—то вырвались наружу. Халид отшатнулся, словно от удара. Его детское лицо исказилось от смятения и боли. Он не понимал таких сложных, ядовитых категорий. Для него все было просто.
– Не говори так! Никогда так не говори! – в его голосе впервые прозвучали слезы. – Ты мой брат. Мой старший брат. И это навсегда. Ничто не может это изменить. Никто.
Нагиб не ответил. Он не смог вынести искренности в глазах Халида, этого чистого, незамутненного источника любви, который лишь оттенял его собственную черную тоску. Он лишь сжал кулаки так, что ногти впились в ладони, оставляя красные полумесяцы, и уставился в воду фонтана. Там, в колеблющемся, искаженном рябью отражении, ему виделось чужое лицо – изможденное, озлобленное, постаревшее на десяток лет. Лицо сироты. Лицо человека, которому не на что больше опереться и некому доверять. Он не видел в этом отражении брата Халида. Он видел одинокого волчонка, выброшенного из стаи и готового в любой момент оскалить зубы даже тем, кто протягивает ему руку.
Несколько месяцев пролетели в доме Риядов, как один долгий, туманный день, где границы между реальностью и кошмаром стерлись. Мансур, с его привычкой подмечать малейшие изменения в расстановке сил, не мог не заметить метаморфозы, происходившие с Нагибом. Мальчик, некогда погруженный в тихое, глубокое горе, словно вышел из него закаленным, но не очищенным, а искалеченным. Его скорбь, прежде тихая и уединенная, кристаллизовалась во что-то острое, колючее и целеустремленное.
Мансур начал замечать странные вещи. Внезапное затишье в коридоре за его спиной, когда он вел деловой разговор по телефону, и едва уловимое шуршание за тяжелой портьерой, которого там быть не должно. Он видел, как Нагиб, будто невзначай, замирал у полуоткрытой двери кабинета, когда там шли совещания, не играя в игрушки, а весь превратившись в слух. Мальчик стал задавать вопросы.
Слишком много вопросов. И не детских, не о игрушках или сладостях, а острых, точных, как отточенный клинок. Он интересовался структурой компании, ее доходами, партнерами и, что самое тревожное, конкурентами. Он выспрашивал у служанок и охранников, кто из гостей дома был «недругом», впитывая, как губка, каждую крупицу информации, каждую случайно оброненную фразу.
Он ищет пути дальнейшей жизни – с холодной ясностью понял Мансур. Это хорошо, что Нагиб не плачет. Тяжесть потери не сломала его – она лишь огранила его, как алмаз. Однажды вечером, когда Мансур в одиночестве разбирал бумаги в своем кабинете, погруженный в янтарный свет настольной лампы, дверь тихо приоткрылась. На пороге стоял Нагиб, без робости, извинений за вторжение. Он стоял прямо, его плечи были расправлены, а в глазах, таких взрослых и не по—детски серьезных, горел не вопрос, а требование.
– Дядя Мансур, кто убил моих родителей? – Прозвучало в тишине комнаты. Вопрос висел в воздухе, тяжелый и неизбежный, как приговор.
Мансур отложил перо. Он встретился взглядом с племянником, и в его душе разверзлась пропасть между желанием защитить этого мальчика от ужасной правды. Мансур осознавал необходимость общения, но разве этого мальчика можно уберечь сказками. Слова, отточенные и готовые, сами сорвались с его губ, как хорошо заученная, но бессмысленная мантра.
– Нагиб, я же говорил тебе. Это была трагическая авария. Случайность, которую никто не мог предвидеть.
Мальчик стоял возле двери и не отводил взгляда. В его глазах не было и тени доверия к этим словам, лишь холодная, всевидящая ясность, от которой сжималось сердце.
– Ты знаешь, что это не так!? – Парировал он, и его голос был низким и ровным, без детских ноток. – Ты сам сказал тогда, что не веришь в случайность. Почему ты продолжаешь скрывать от меня правду? Почему все вокруг молчат, как будто ничего не произошло?
Мансур откинулся в кресле, и наступившая тишина затянулась, стала густой, почти осязаемой. Он смотрел на этого юного мстителя, в чьих глазах плескалась уже не детская обида, а взрослая, неистовая жажда справедливости. Или это жажда мести? – пронеслось в голове у Мансура. Разве можно отделить одно от другого, когда речь идет о крови? Он видел в этом хрупком теле стальную волю, готовую сокрушить все на своем пути к ответу и испугался. Испугался не за себя, а за него. За ту пропасть куда он мог рухнуть, узнав слишком рано, насколько жесток и беспощаден мир за стенами этого дворца.
– Иногда, Нагиб, правда бывает опаснее самой горькой лжи. – Наконец произнес он, и каждый звук дался ему с огромным трудом. – Она – как обнаженный клинок. Тот, кто не умеет с ним обращаться, может пораниться сам или покалечить невинного. Когда ты будешь готов… когда я буду уверен, что ты сможешь нести ее тяжесть, не сломавшись, я расскажу тебе всё. Даю слово.
Нагиб лишь молча смотрел на него, и в его взгляде Мансур прочитал страшную, непоколебимую решимость. Данное слово и обещание будущего откровения его больше не устраивали. Ожидание было пыткой, а тишина – сообщницей тех, кто лишил его всего. Он не хотел ждать. Мансур убрал документы в сейф, выключил настольную лампу и сопроводил приёмного сына до его спальни, раздумывая о пути избранном Нагибом.
Тишина ночи была не абсолютной – её наполняло мерное дыхание спящего дома, скрип старых балок и далёкий вой ветра за окном. Но именно этот звук, чужеродный и острый, вонзился в сон Нагиба и вырвал его из объятий забытья. Он замер, не в силах пошевельнуться, слушая неправильный ритм, нарушивший покой усадьбы. Это были шаги. Тихие, крадущиеся, но оттого ещё более зловещие шаги в пустом коридоре. Затем – приглушённый шёпот, похожий на шипение змей, в котором нельзя было разобрать слов, но можно было почувствовать скрытую угрозу.