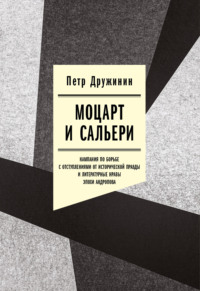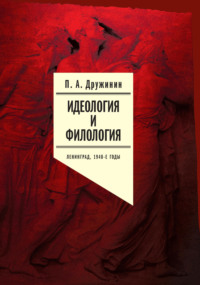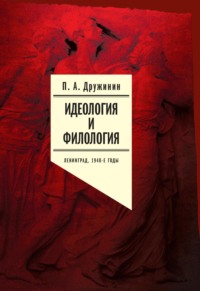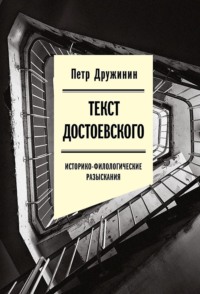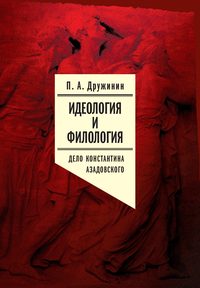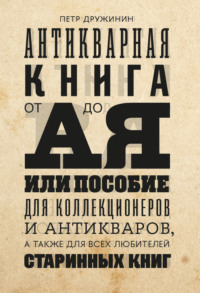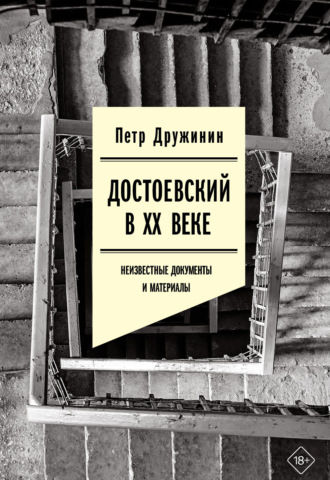
Полная версия
Достоевский в ХХ веке. Неизвестные документы и материалы
Публикуемый в настоящей книге материал не касается самой личности Ф. М. Достоевского, однако исчерпывая, по-видимому, все, что доступно современному исследователю относительно рода писателя, исследование М. В. Волоцкого освещает его болезнь с новой, до сих пор неизвестной, стороны и создает для нее недостававший до сих пор фон, на котором психопатологические откровения автора «Братьев Карамазовых» и «Идиота» приобретают особое, трагическое значение. Эпилепсия Достоевского, в свете собранных М. В. Волоцким данных, оказывается не только его личной болезнью, но и патологическим процессом, глубоко коренящимся в его семейном предрасположении. С этой точки зрения характерологическая история рода Достоевских, как мы уже выше отметили, оказывается одновременно и своеобразной семейной историей болезни, и чрезвычайно интересной семейной хроникой, богатством своего содержания, сложностью и напряженностью переплетающихся в ней социально-бытовых мотивов иной раз не уступающей романам самого гениального представителя рода. Материал для своих произведений Достоевский широко черпал из этой хроники, и не надо быть последователем Фрейда и принимать его аргументацию о механизме невротического изживания «Эдипова комплекса», чтобы оценить значение мотива «убийство отца» для фабулы «Братьев Карамазовых».
Но, конечно, патологическая окраска творчества Достоевского объясняется не только заимствованиями из семейной хроники. Гораздо более существенное значение в этом отношении имела болезнь самого великого писателя. Это обстоятельство, однако, еще не дает оснований для выводов, в какой бы то ни было степени умаляющих общечеловеческое и в частности социальное значение его произведений. Творчество гениальных людей, даже и больных, в основном определяется не биологическими, а социологическими законами. Поскольку они сохраняют свои умственные силы и связь с обществом, их деятельность можно оценивать как производное тех или иных социальных факторов и вне зависимости от их индивидуальных патологических особенностей. Их биологическая неполноценность иной раз, обуславливая повышенную их чувствительность к воздействиям окружающей среды, даже помогает им улавливать те явления окружающей жизни, которые для нормальных их современников не заметны110.
Овладевая диалектикой зла
Несмотря на грозный окрик Максима Горького на Первом Всесоюзном съезде советских писателей, отношение к Ф. М. Достоевскому в конце 1930‑х годов стало менее непримиримым: годы замалчивания, не сменявшиеся новыми витками репрессивных действий по отношению к памяти писателя, создавали ощущение, что государство успокоится и все-таки сменит гнев на милость.
Изменение настроений можно увидеть и в тех случаях, когда ортодоксальные представители литературной критики бросались в бой с рецидивами достоевщины, но уже не находили безоговорочной поддержки у советской «культурной общественности».
Наиболее заметный случай такого рода – попытка объявить рецидивом достоевщины произведения классика советской литературы Леонида Леонова. Когда в 1938 году была напечатана его пьеса «Половчанские сады», критик Михаил Левидов в подробной, но в целом положительной рецензии заметил: «Болезнь „достоевщинки“ Леонов преодолел. В существе ее. Но инерция болезни еще осталась и дает себя знать…»111
Через год это замечание показалось писателю похвалой, поскольку выход двух его пьес на сцену сопровождался менее робкими высказываниями критиков. Появившаяся 13 мая рецензия Льва Никулина на постановку «Половчанских садов» во МХАТе скорее обозначила проблему, но пока еще не громила писателя:
Основной недостаток произведений Леонова заключается в том, что рядом с голосом автора всегда слышится другой, иногда заглушающий Леонова, голос хорошо всем знакомого писателя-классика. Упоминание имени Достоевского в том случае, когда говорят о книгах Леонова, сделалось какой-то традицией нашей критики. Трудно упрекнуть современного автора в том, что он находится под влиянием великих писателей прошлого. Преемственность, неразрывная связь советской литературы с литературой классической естественна и необходима. Но положительное качество писателя Л. Леонова слишком часто переходит в свою противоположность. Временами нам кажется, что перед нами не самостоятельное творчество советского писателя Леонова, а своего рода имитация, подражание высокому стилю классических образцов112.
Затем над писателем разразилась гроза. 16 мая в газете «Советское искусство» была напечатана рецензия Д. Л. Тальникова на постановку пьесы «Волк. (Бегство Сандукова)», написанной в 1938 году. Пьеса эта
посвящена разоблачению классовых врагов, агентов иностранных разведок. С большой силой нарисован образ Сандукова, человека с волчьей душой, изменника родины, замаскировавшегося врага. В пьесе подчеркивается присущее врагам сознание обреченности, их моральный упадок. Пьеса проникнута пафосом очищения советского «дома» от всякого рода империалистической агентуры113.
В 1939 году «Волк» был поставлен на подмостках Малого театра режиссером И. Я. Судаковым. 3 мая была сыграна премьера, по следам которой критик обвинил писателя в достоевщине:
Выделяющее Леонова среди других драматургов качество – несомненная и настоящая литературность – к сожалению, очень часто переходит в «литературщину», то есть в литературный штамп и надуманность. А ведь к Леонову предъявляешь самые высокие требования.
Характерны ли вообще для современной жизни героя его пьесы, взятые напрокат у Достоевского и Чехова, их беседы и самый стиль их поведения в пьесе? Где автор видел их, где нашел, откуда взял в качестве, конечно, не единичных явлений, а обобщенных образов современности? На всех этих фигурах – даже «бодрячке» Насте – лежит отпечаток чего-то глубоко вчерашнего, даже литературно-«провинциального». Все это ни в какой мере не подсмотрено художником в жизни, а идет именно от «литературщины», в лучшем случае от литературных реминисценций. <…>
Леонов, исходя из литературных фактов, а не подлинной жизни, пытается и образы современных бандитов, шпионажа и диверсий густо замесить на дрожжах достоевщины. В результате и здесь мы имеем только литературную выдумку.
В пьесе действуют три врага – Магдалинин, глава организации, держащий все нити ее в своих руках, – некий сколок с «великого инквизитора», который у Леонова в своей «логике бешенства» развивает декламационную программу действия: «Валите людей, шепчите, сейте сомнение, делайте просеки… кусайте на сгибах, там трудней заживает». Дальше идет Лаврентий Сандуков – бывший поп, ехидный и елейный кликуша-садист, сколок с Карамазова-отца и Смердякова. И, наконец, его сын – Лука, герой пьесы. Все они – от Достоевского и от достоевщины, от карамазовщины…114
Премьера «Половчанских садов» во МХАТе (постановка В. Г. Сахновского под руководством В. И. Немировича-Данченко) также удостоилась разгромной рецензии. Тут нужно оговориться, что такая реакция заранее рассматривалась театром – в том же 1939 году зав. литчастью МХАТа П. А. Марков в статье в многотиражке театра писал:
На одной из репетиций Владимир Иванович сказал, обращаясь к исполнителям: «Мы знаем, что это будет очень рискованный спектакль, и мы должны идти на то, что он вызовет очень большие споры и очень многим не понравится». И после последней генеральной репетиции он снова, обращаясь к актерам, говорил о том, что самое страшное, что может случиться с исполнителями «Половчанских садов» и вообще с театром, – это если ожидаемая им разноголосица мнений в какой-нибудь мере повлияет на крепость художественных позиций МХАТ115.
В рецензии критика Б. И. Розенцвейга, который признал спектакль неудачей, отходом от великих традиций МХАТа и т. д., высказана и главная претензия – пьеса не отражает торжества нового строя, а отрицательные персонажи разработаны намного лучше, нежели положительные:
Нищета и бесцветность положительных образов, отсутствие сильных, боевых, политически страстных характеров, двумерность и плакатность положительных героев приводят к тому, что пьеса Леонида Леонова лишается внутреннего, психологического конфликта. В ней нет ощущения борьбы, нет окрыленности, действие развертывается вяло, несмотря на то, что пружина внешней интриги функционирует исправно. Леоновские персонажи рассуждают на волнующие и близкие советским людям темы: о природе советского патриотизма, о подвиге, о родине, о славе. А пьеса оставляет зрителя безучастным, холодным, не задевает «за живое», не трогает, не будит глубоких мыслей. Посвященная большой, актуальной теме, она звучит холостым залпом116.
Вероятно, если бы такая критика обрушилась на Леонида Леонова несколько лет назад, то писатель был бы вынужден признать мнимые ошибки, но весной 1939 года – уже после падения Н. И. Ежова и окончания эпохи массовых репрессий – обстановка переменилась, и автор решил противостоять организованной травле, тем более что писатель понимал: его пьесы далеко не худшие на фоне репертуара советского драматического театра своего времени.
И сразу после появления второй статьи, буквально в тот же день, Леонид Леонов пишет письмо Сталину, в котором лаконично излагает ситуацию и ожидает от вождя помощи:
…Тон статей бранный и издевательский. Не соблюдено даже элементарное уважение к чужому труду <…> Я выбит из колеи, вынужден оставить новую начатую работу. В эту крайнюю минуту у меня нет иного выхода, кроме обращения к Вам117.
Письмо возымело действие, и происходит нечто необычное для эпохи – начинается коллективное сопротивление газетной травле. Секция драматургов Союза советских писателей организует официальный диспут о пьесах Л. Леонова.
В приглашении, разосланном к этому мероприятию, уже читался намек на его направление:
Секция считает, что тон, взятый рядом газет («Советское искусство», «Московский большевик», «Комсомольская правда»), не соответствует правильной оценке творчества Л. М. Леонова как драматурга. Диспут должен выявить подлинное отношение драматургов и театральной общественности к новым пьесам т. Леонова и к их осуществлению на сценах Малого и Художественного театров118.
И диспут, конечно же, прошел в другой тональности, нежели газетные выступления, а «Литературная газета» поместила его описание. Скажем, театральный критик и драматург М. С. Гус отметил:
Стало тривиальным каждый раз «открывать» в произведениях Л. Леонова «достоевщину». Нужно и можно говорить уже о том, что отличает Л. Леонова от Достоевского, о тех чертах горьковского влияния, которые оберегают писателя от любования юродством и учат уважению и любви к человеку.
В целом обвинения были отвергнуты:
Единодушное возражение вызвала статья Д. Тальникова о «Волке», опубликованная в «Советском искусстве». Одни критиковали статью за то, что статьей опытный театровед Д. Тальников приписывает вину Малого театра – примитивную трактовку образов – автору пьесы. Другие – за то, что критик проводит в статье недопустимые параллели, сопоставляя, как равноценные литературные явления, произведения подлинного художника со слабыми пьесами, порой стоящими вне критерия литературы. Большое возмущение у многих вызвал и тон статьи Д. Тальникова <…>
Очень краток был в своем выступлении Л. Леонов. Он сказал, что резкая критика не убедила его. Критики вольны как угодно относиться к его произведению, но автор вправе требовать от них более высокого уровня, чем тот, на котором до сих пор шел спор119.
Такой отпор критикам со стороны драматургов вызвал недовольство редакции «Литературной газеты», которая хотя и поставила обзор дискуссии в номер, однако, по-видимому, не знала об источнике такой смелости и обвинила секцию в заранее определенной линии на реабилитацию писателя:
Организаторы диспута допустили ошибку, рассылая от имени секции драматургов повестку, в которой высказали определенную точку зрения на явление искусства, суждения о котором секция не имела. Это неправильно также и потому, что, приглашая на диспут, который должен был отразить различные точки зрения, организаторы его пытались заранее предопределить направление прений и тем косвенно повлиять на состав участников диспута120.
Правильно или нет, но различных точек зрения на пьесы Леонида Леонова уже не было, и 11 июня в рецензии М. Ю. Левидова на постановку «Волка» в Ленинграде, осуществленную в театре Ленсовета Ю. А. Завадским, мы видим одно восхваление:
Спектакль это прозвучал весьма убедительно и решил «проблему» этой пьесы, если таковая имелась. Решил очень наглядным способом, продемонстрировав весьма простую и хорошую истину: чем лучше спектакль, тем яснее пьеса, и в своих достоинствах и в недостатках.
Эта постановка показала «то настоящее, что есть в пьесе Леонова: любовь к Советской стране и заботу художника о том, чтоб его герои стали хорошими советскими людьми»121.
Однако последовали и намного более смелые высказывания в защиту Ф. М. Достоевского: речь о статье ленинградского филолога и критика П. П. Громова, ученика А. С. Долинина, которая формально была посвящена разбору постановки пьесы Б. И. Войтехова и Л. С. Ленча «Павел Греков». Но наиболее важный тезис был высказан при сделанном автором отступлении – о пьесе Леонида Леонова:
Во время обсуждения «Волка» Л. Леонова в нашей прессе критик Д. Тальников в весьма решительной форме заявил, что основным недостатком пьесы является некритическое следование Леонова образам Достоевского. Согласно Д. Тальникову образы, созданные Достоевским, не имеют никакого отношения к нашим дням. «Волк» имеет чрезвычайно мало общего с художественной манерой Достоевского. Но едва ли это является достоинством пьесы Леонова. Скорее недостатки пьесы Леонова вытекают из недостаточного овладения некоторыми элементами наследия Достоевского. <…>
По-видимому, вопрос о Достоевском не так прост, как это кажется Д. Тальникову. В сущности, почему мы должны отказываться от той диалектики зла, которая разработана в мировом искусстве? Разве неясно, что, изображая врагов болванами и штампованными злодеями, мы превращаем проблему художественной борьбы с врагами в борьбу с литературными фикциями?
Художественной и политической реальностью борьба с врагом в искусстве будет только тогда, когда враг предстанет не беспомощным, а вооруженным. Это значит, что он должен защищаться всеми доступными ему средствами. Это значит, что должны быть показаны диалектика его развития, его психология и его мировоззрение. Только в таком случае образ врага будет цельным, законченным, убедительным, и победа над ним будет обеспечиваться не нагромождением детективных тайн, а реальным столкновением художественных образов. А показать такого врага можно только при овладении той диалектикой зла, которая разработана в таких вещах, как «Племянник Рамо», или «Добр ли он? Зол ли он?» Дидро, или в романах Достоевского. Достоевский очень тонко разрабатывал тему зла – и общественного зла, и зла как этической и философской категории. Кроме того, он великолепно показывал процессы распада, деградации личности. И ничего зазорного нет в том, чтобы при изображении врага учиться у Достоевского122.
То, что эти слова П. Громова были напечатаны в ленинградском журнале «Звезда», в редколлегии которого ведущее положение (ответственного секретаря) занимал ортодоксальный Н. В. Лесючевский, говорит о многом. Не будь такого послабления со стороны Сталина (связанного, конечно, с отношением вождя к Леониду Леонову, а отнюдь не к Ф. М. Достоевскому), невозможно было бы представить напечатанные тогда строки.
Возникшая полемика вокруг «Волка» вследствие высказываний П. П. Громова показалась современникам чем-то невероятным: о событиях вокруг наследия Ф. М. Достоевского высказалась даже русская эмиграция. Парижские «Последние новости» сообщили о борьбе в СССР с рецидивами достоевщины: «Отстаивая установленный ЦК партии взгляд, что Достоевский и в целом и в деталях несозвучен советской эпохе, Тальников указывает, что „образы, созданные Достоевским, не имеют никакого отношения к нашим дням“, и попытки заново выводить эти образы на сцену могут быть поняты как замаскированная клевета на светлую жизнь советской страны»123 и процитировали ответные слова из статьи П. П. Громова как поворот в идеологии. Новость эта была перепечатана даже в далекой Аргентине124.
Юбилей 1941 года
1941 год для Ф. М. Достоевского был юбилейным: исполнялось 120 лет со дня рождения писателя, 60 лет со дня его смерти. Эти круглые даты вселяли в исследователей творчества Ф. М. Достоевского некоторые надежды. Например, Ленинградское отделение Союза советских писателей, пользуясь последствиями критики «достоевщины» в сочинениях Леонида Леонова, даже решило возобновить подготовку к печати последнего тома «Писем». А. С. Долинин писал 3 марта 1940 года В. С. Нечаевой:
Ленотгиз заключил, наконец, со мною договор на последний том писем Достоевского, который должен выйти к шестидесятилетию со дня смерти писателя (февраль 1941 года). Настоял на этом Союз писателей125.
Тот же А. С. Долинин завершил к началу 1940 года книгу «„Подросток“ Ф. М. Достоевского», основанную на черновых рукописях писателя. Заведующий отделом новой русской литературы Пушкинского Дома профессор Ленинградского университета О. В. Цехновицер отозвался 21 мая 1940 года об этой рукописи в превосходной степени – он писал, что обработанные А. С. Долининым материалы Достоевского
дают возможность проникнуть не только в творческую лабораторию гениального писателя, но и проследить путь развития и становления художественных образов не только романа «Подросток», но и центральных произведений Достоевского, начиная от «Преступления и наказания» вплоть до «Братьев Карамазовых»126.
Говоря же о предстоящем юбилее Ф. М. Достоевского, рецензент отмечал:
Я считаю совершенно необходимым опубликовать этот ценный труд в Издательстве Академии наук СССР. Обращаю внимание, что в 1941 году исполняется 120 лет со дня рождения и 60 лет со дня смерти Достоевского. Издание материалов, связанных с его работой над романом «Подросток», явилось бы закономерной данью со стороны Академии наук великому писателю-классику, избранному в 1877 году в члены-корреспонденты Академии наук по Отделению русского языка и словесности127.
Активное участие О. В. Цехновицера в возобновлении научных исследований творчества Ф. М. Достоевского не случайно: защитив в 1938 году в Ленинградском университете диссертацию по своей монографии «Литература и мировая война 1914–1918», он стал кандидатом исторических наук; но еще ранее увлекся творчеством Ф. М. Достоевского. В 1938 году в ЛИФЛИ им был прочитан курс о Достоевском128, летом 1939 года он готовил к печати монографию о творческом пути писателя, а позднее, в 1940‑м, в Ленинграде были напечатаны под его редакцией «Повести» Ф. М. Достоевского (куда вошли «Бедные люди», «Белые ночи», «Неточка Незванова», «Игрок», «Кроткая»)129. Будучи активным коммунистом, О. В. Цехновицер в силу своей политической безупречности оказался на рубеже 1930–1940‑х годов едва ли не главным специалистом по Ф. М. Достоевскому, которому такие работы оказалось возможным доверить. А летом 1940 года он сумел заручиться официальной поддержкой, вплоть до выделения ему специальной стипендии, о чем сообщили «Известия»:
По постановлению президиума Академии наук СССР и Комитета по делам высшей школы профессору О. В. Цехновицеру предоставлена стипендия имени Сталина в размере 1500 рублей в месяц для подготовки к защите докторской диссертации по литературе. Тема диссертации – «Творческий путь Ф. М. Достоевского».
Достоевский является одним из популярнейших писателей XIX века не только в СССР, но и за рубежом. Недавно немецкий литературовед Теодор Каупман защищал диссертацию «Достоевский в Германии». В Америке вышла книга Елены Мучник «Достоевский в Англии». Кроме того, за последнее время монографии о Достоевском появились во Франции и других странах Европы. Профессор О. В. Цехновицер поставил себе задачей осветить творческий путь Достоевского, охарактеризовать влияние этого писателя на развитие русской литературы и международное значение его произведений130.
В интервью «Литературной газете» Орест Вениаминович дал еще более подробные сведения о предстоящей работе:
Своей задачей я ставлю исследование основных проблем, возникающих в связи с литературной и публицистической деятельностью Достоевского.
Большинство теоретических работ, связанных с Достоевским, вышедших в дореволюционное время в России и за границей, трактовало наследие Достоевского с идеалистических позиций. Работы Д. Мережковского, А. Волынского. Вяч. Иванова установили реакционную легенду о Достоевском, которая, к сожалению, и поныне не преодолена во многих работах о писателе. Особенно это ощущается при знакомстве с зарубежными исследованиями.
Советское литературоведение до сих пор не пересмотрело установившиеся традиции. Между тем творчество Достоевского, заключающее в себе огромное богатство мысли и психологического анализа, позволившее А. М. Горькому поставить великого русского писателя в один ряд с такими гениями мировой литературы, как Шекспир, содержит и резкую критику (правда, часто не с прогрессивных позиций) современного капиталистического общества.
Отдельные главы моей работы будут посвящены следующим темам: Достоевский и социально-политический роман 60–70‑х годов; Достоевский и философский роман 70–80‑х годов; поэтика писателя; Достоевский и традиции классической русской литературы (Пушкин, Лермонтов, Грибоедов, Л. Толстой); Достоевский и зарубежная литература (Бальзак, Гюго, Диккенс и др.); Достоевский и современность.
Свою диссертацию я предполагаю закончить к 1942 году131.
Но важнее была напечатанная в марте 1941 года в журнале «Октябрь» большая юбилейная статья О. В. Цехновицера, которая, казалось, окончательно открыла дорогу писателю. При написании этого текста литературовед явно использовал материалы диссертации, над которой работал, даже с привлечением неизданных рукописных материалов романа «Подросток», предоставленных А. С. Долининым; однако почти полностью в своих положениях, а особенно выводах, она повторяла написанное им ранее послесловии к «Повестям»132. Так же этот юбилейный обзор и завершался:
Несмотря на все ошибки, все срывы, которые были свойственны Достоевскому, несмотря на то, что «голос зла» был в нем часто сильнее «голоса добра», наша социалистическая эпоха не может не отдать дань гениальному писателю. Вспомним, что за подписью В. И. Ленина 2 августа 1918 года в «Известиях» был опубликован «Список лиц, коим предположено поставить монументы в г. Москве и других городах Российской Федеративной Социалистической Советской Республики». На первом месте этого списка в разделе «Писателей и поэтов» было имя Льва Толстого, а на втором – Федора Достоевского133.
Однако начинания не были реализованы. Центральная пресса практически игнорировала 60-летие со дня смерти писателя; даже частично отведенная этой дате полоса в «Литературной газете» была сдержанной по тону. Наряду с тем, что В. С. Нечаева ставила вопрос о необходимости изучения черновых рукописей писателя134, а О. В. Цехновицер снабдил своим примечанием перевод отзыва Стефана Цвейга о русской литературе («Я боготворю Толстого и преклоняюсь перед ним и я люблю Достоевского…»)135, направляющий характер имела статья В. Ермилова. В ней партийный литературовед высказался в уже традиционном ключе: «Великая правда и великая ложь переплетались в творчестве Достоевского», однако вставал на защиту его гуманистических идей в свойственной только В. В. Ермилову речевой форме: «Мы работаем и боремся для того, чтобы ни в одном уголке земного шара не был оскорбленных и униженных людей и чтобы никто не смел обижать „дитё“»136. «Известия» сообщили, что в Ленинграде «в связи с исполняющимся 9 февраля 60-летием со дня смерти Ф. М. Достоевского Институт литературы Академии наук СССР провел открытое научное заседание», на котором в том числе был заслушан доклад А. С. Долинина о романе «Подросток»137.
Такая сдержанность имела причину: начинался очередной виток антидостоевских настроений, а Великую Отечественную войну писатель встретил в положении изгоя. Свидетельством тому книга И. М. Нусинова «Пушкин и мировая литература», вышедшая буквально в первые дни войны138. Этот литературовед с коммунистической закалкой (и трагическим будущим) посвятил целую главу низвержению Достоевского, озаглавив ее «Пушкин против Достоевского»139. Учитывая ту роль, которую с 1937 года играл в советской идеологии мифологизированный и гальванизированный Пушкин, такая постановка вопроса в принципе ничего хорошего Ф. М. Достоевскому не сулила.
Вспоминая высокие оценки писателя, делая реверансы его гениальности, в действительности книга И. М. Нусинова в целом, а особенно указанная статья, наполнены ядовитыми, зловещими инвективами. Разбирая в основном «Пушкинскую речь», литературовед обвиняет Достоевского в умышленном искажении Пушкина:
Достоевский претендовал на возвеличение Пушкина, на его глубокую и объективную оценку. Но он лишь исказил и унизил Пушкина.