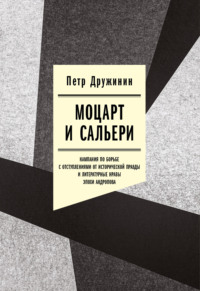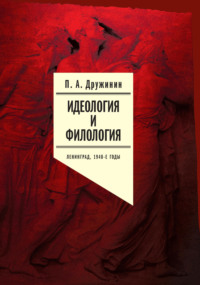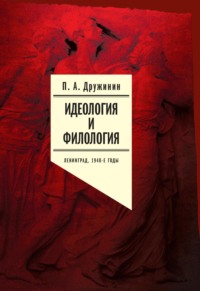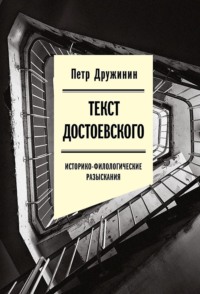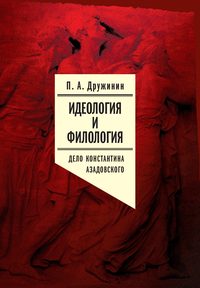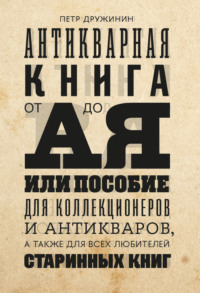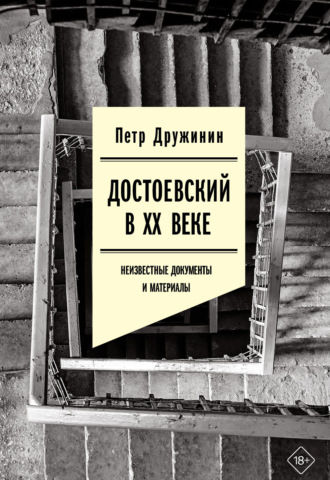
Полная версия
Достоевский в ХХ веке. Неизвестные документы и материалы
В отечественной науке о Достоевском считается, что внучка писателя Мария Михайловна (1878–1949) «была угнана вместе со своей племянницей М. В. Зеленевой на принудительную работу в Латвию. Последние годы прожила на Рижском взморье», а Мария Васильевна Зеленева (1906–1969) «после освобождения трудилась воспитателем в детских садах Риги»191. Но когда нацистская пресса нашла их в начале 1943 года в латышском Балдоне, то представила их судьбу иначе.
Вблизи Риги, в Балдоне, сейчас живут родственники Ф. М. Достоевского – внучка писателя Мария Михайловна Достоевская и правнучка его родного брата – Мария Васильевна Зеленова, переселившаяся сюда из Царского Села.
Мария Васильевна сообщает об участи некоторых членов семьи писателя. В Советском Союзе скончалась от голода дочь Федора Михайловича Достоевского, Любовь Федоровна – тоже писательница.
Большевики не умели чтить память великих русских писателей и не уважали их потомков. Немало испытаний выпало и на долю Марии Васильевны Зеленовой. Ей был закрыт путь к высшему образованию. При поступлении в университет ее прошение было отклонено, и отказ мотивирован тем, что Достоевский, якобы, «являлся помещиком, а дети помещиков не имеют права на высшее образование в СССР». Правнучке великого писателя с большим трудом удалось поступить в педагогический техникум, причем ей было предложено стать комсомолкой, либо учиться на одних отличных отметках. Мария Васильевна напрягала все свои силы для получения отличных отметок, но в комсомольскую организацию не вступила. Немалых трудов стоило ей окончить образование. Из Царского Села М. В. Зеленова добровольно эвакуировалась с германскими войсками в Осьмино, где работала в течение одиннадцати месяцев переводчицей, а оттуда переехала в Балдон192.
Намного более резонансной стала другая публикация – статья румынского литератора Георга Ганя в газете «Viaţă» («Жизнь»). В августе 1942 года он оказался в оккупированном Крыму и познакомился в том же месяце с потомками Ф. М. Достоевского – невесткой Екатериной Петровной (1875–1958), а также ее родной сестрой Ниной Петровной Фальц-Фейн (1870–1958). Вскоре он написал очерк для газеты, и 1 февраля 1943 года материал был отправлен в Бухарест под названием «Трагедия семьи Достоевского», с приложением двух фотографий Екатерины Павловны (одна из них – с немецкими солдатами). После заметного промедления, 28 апреля 1943 года, статья была напечатана193. Приведем ее переложение в оккупационной периодике, озаглавленное «Издевательства большевиков над семьей великого писателя Достоевского»:
Румынская газета «Виаца» опубликовала потрясающую статью о семье великого русского писателя Достоевского. Симферопольский корреспондент этой газеты Ганер нашел в Симферополе невестку Достоевского – жену его единственного сына – Екатерину Достоевскую в состоянии ужасающей нужды. Екатерина Достоевская рассказала, что до большевистской революции вся семья писателя – его жена Анна Григорьевна, сын и она сама проживали в Петербурге и работали над литературным наследством Достоевского. Доходы от издательств и получаемая пенсия давали возможность безбедно существовать. После октябрьской революции настали времена преследования, бедствий и горькой нужды. Семья Достоевского вынуждена была бежать из Петербурга. Анна Григорьевна нашла убежище в небольшом домике, принадлежавшем Достоевскому недалеко от Ливадии, в Крыму. Сын поспешил в Москву в надежде что-нибудь спасти из состояния, находящегося в банках. Екатерина Достоевская поселилась в усадьбе родителей на Кавказе. После разгрома армии Врангеля Анну Григорьевну выбросили из домика, который был сожжен. Она была вынуждена просить милостыню, чтобы не умереть от голода. Старые друзья приняли в ней участие, поселили ее в полуразрушенном доме на чердаке и помогали ей. Но и они долго поддерживать ее не могли, так как сами сильно нуждались. Она умерла от истощения и вместе с другими нищими ее закопали в общей могиле.
Судьба Екатерины Достоевской была не лучше. Дом ее родителей также подожгли большевики. Она кое-как перебивалась, исполняла всякую черную работу. Ее муж, единственный сын Достоевского, подвергался в Москве преследованиям, как «буржуй». Он вынужден был скрываться в окрестностях Москвы у старого кучера, служившего ранее у Достоевских. Три года полуголодного существования подорвали силы Достоевского и он умер от тифа. Старый слуга великого писателя своими руками похоронил его сына194.
Статья эта получила, без всякого преувеличения, всеевропейский резонанс; она была многократно изложена в других периодических изданиях на различных языках195. В целом смысл ее сводился к мысли: «Вот до чего довел большевизм все потомство великого русского писателя, предсказавшего в „Бесах“ тот ужас, который принес его родине большевизм»196.
Когда Е. П. Достоевская и ее сестра в начале 1944 года после несчастного случая лежали в больнице, они поместили в одесской газете объявление следующего содержания:
Екатерина Петровна Достоевская (невестка Федора Михайловича) и ее сестра Нина Петровна Фальц-Фейн находятся в Одессе на Слободке-Романовке, в немецкой больнице шеф д-р Рихо, за грузинской больницей, маршрут трамвая № 15 – просят друзей и знакомых навещать их197.
Георг Ганя, вдохновившись успехом статьи, нашел издателя для будущей книги «Федор Достоевский» – та же газета 13 марта 1944 года сообщила, что эта книга уже готова и скоро появится198, но перелом хода Великой Отечественной войны не позволил ей выйти в свет.
Если можно кого-то из семьи Достоевских назвать настоящим коллаборантом, то Евгению Александровну Достоевскую (Щукину), вторую жену Милия Федоровича Достоевского, которая в 1942 году также оказалась на оккупированной территории. Хотя родственники Достоевского пытались откреститься от «самозванки», утверждая, что брак ее с М. Ф. Достоевским был мимолетным увлечением, а их фамилию та использовала незаконно, но в действительности брак с М. Ф. Достоевским был не только официальным, но даже церковным: 20 августа 1917 года священник церкви Воскресения на Малой Бронной А. П. Сперанский повенчал «потомственного дворянина, окончившего курс специальных классов Лазаревского института Восточных языков Милия Федоровича Достоевского, православного вероисповедания, первым браком, 33‑х лет» с «Тульской губернии, города Белева мещанкой девицей Евгенией Андреевой Щукиной, православного вероисповедания, первым браком, 20-ти лет»199.
Она оказалась на оккупированной территории; работая в театре, ушла с немецкой армией и, оказавшись в Германии, начала активное сотрудничество с немцами. Не зная подлинных обстоятельств жизни своего мужа после революции (даже о том, что он потерял возможность самостоятельно передвигаться), Е. А. Достоевская сочинила его историю, заканчивавшуюся смертью в сибирской тюрьме, многократно повторяла ее, так что эта мифологизированная биография М. Ф. Достоевского впоследствии даже попала в научную литературу200.
Давая интервью нацисткой прессе, она заявляла, что теперь ее целью является борьба с большевизмом, объясняла гонения на нее и на семью Ф. М. Достоевского ненавистью «кремлевских евреев» и вообще пылала антисемитизмом. Уже находясь в Берлине, в марте 1944 года, она дала интервью Герберту Касперсу, с которым встречалась весной 1943 года в Крыму, и заявила: «Большевизм никогда не менялся, как за три тысячи лет своей истории никак не изменились и кровожадные еврейские лица»201. После разгрома нацизма Е. А. Достоевская спасается в Австрии, где ее вербует американская разведка202.
Руководящую роль в австрийской резидентуре ЦРУ в послевоенные годы играл скрывшийся от Нюрнбергского трибунала Отто фон Большвинг – нацистский преступник, активный участник «окончательного решения еврейского вопроса», служивший при Гитлере в СС первым помощником Адольфа Эйхмана. В его материалах, рассекреченных в 2005 году, также имеются сведения об участии Е. А. Достоевской в агентурной деятельности на стороне американской разведки203. И именно фигура Большвинга стала причиной того, что в рамках принятого в 1998 году в США «Закона о раскрытии военных преступлений нацистом» в 2006 году оказались рассекречены и другие документы, в которых можно найти материалы о деятельности Е. А. Достоевской.
Она была завербована бельгийский священником-иезуитом Марселем Ван Куцемом (1909–1973). Это был крупный религиозный деятель, историк-византинист, с отличием окончивший католический университет в Лувене; в годы войны был причислен к Священной конгрегации по делам Восточной церкви и жил в Риме, обретя значительное число знакомств в русской антифашистской среде. В 1945 году кардинал Эжен Тиссеран, секретарь конгрегации, направил Ван Куцема своим представителем в британской зоне оккупации, а затем и во всей Австрии и Германии. В числе девяти языков, которыми Ван Куцем владел, был и русский (его он выучил в студенческие годы, чтобы изучить работы русских византинистов); общение в среде эмигрантов помогало ему быть полезным спецслужбам; наибольшую известность в русской среде он получил, живя в Зальцбурге и издавая бюллетень «Луч» (часть русскоязычного книгоиздания «Ди-Пи», издавался в 1945–1954, Ван Куцем был главным редактором с августа 1952 года)204; связь его с ЦРУ позволила запросить в 1952 году финансовую помощь на издание газеты205. Связав жизнь с одной из завербованных им женщин и нарушив целибат, святой отец обзавелся семейством, в 1954 году эмигрировал в Бразилию, а в 1955‑м оставил служение. Преодолевая материальные и физические трудности (после переезда его разбил паралич), он c женой и четырьмя детьми обосновался в Сан-Паулу, занимался переводами и преподаванием; причем в интервью 1957 года он отдельно упомянул, что начинал изучать русский язык и совершенствовал его в общении «с советскими солдатами, оккупировавшими часть Германии»206; ныне его именем названа улица в этом бразильском городе.
Как в жизни любого представителя духовенства при тоталитаризме, его служение было неразрывно связано с разведывательной деятельностью: в годы войны он вынужденно помогал службам разных стран (английской, французской, американской); в 1948 году был официально завербован ЦРУ и действовал преимущественно в среде русской эмиграции; при этом документы отмечают его приверженность «великорусским идеям», бескорыстие в помощи эмигрантам207. Ван Куцем придерживался убеждения, что православное духовенство в России полностью разрушилось под гнетом НКВД, и видел путь возрождения России в установлении там католичества208. Оценив его способности как агента, но учитывая как тесные связи с Ватиканом, так и сочувствие к императорской России, ЦРУ сочло целесообразным ограничить его деятельность «поиском личностей и талантов» в русской среде209. Причем контрразведка США (CIC) считала его двойным агентом, работавшим в основном на Ватикан, а также предъявляла ему претензии в неразборчивости в его гуманитарной помощи русским, на что был получен следующий ответ Ван Куцема: «Я помогаю всем, кто нуждается в духовной или материальной помощи, будь они русские или нет, советские или нет»210.
Именно Ван Куцем привел Евгению Достоевскую в американскую агентуру. Ее отрывочные анкетные данные в рассекреченной части документов ЦРУ позволяют дополнить портрет этой представительницы рода Достоевских211. Она родилась 24 декабря 1898 года в Москве, по национальности малороссиянка, в начале войны жила в Пятигорске с матерью, работая в музыкальном театре. Оказавшись в 1942 в оккупации, Е. А. Достоевская продолжила работать в театре, одно время жила в Алупке неподалеку от Воронцовского дворца212, а в 1943 году вместе с труппой была поочередно эвакуирована в Симферополь, Запорожье, а затем оказалась в Берлине. Переехав в начале 1944 года в Австрию, она поселилась с матерью в Мариенкирхене и взялась за литературное творчество – как театральный критик и как мемуарист; ее мать умерла летом 1946 года.
Не совсем ясно, когда именно она была завербована, но уже в 1951 году Евгения Достоевская – активный агент в группе Ван Куцема. Она занимается вербовкой в Австрии советских специалистов, активно участвует в конспиративных разведывательных мероприятиях ЦРУ с целью перемещения перебежчиков на Запад213. В документах ЦРУ она характеризуется как сторонница русского национализма, причем ей придается важность («a key figure») для будущих операций в Вене и советской зоне оккупации214.
В 1952 году, практически в памятные дни Ф. М. Достоевского, она в числе других немецких эмигрантов подписывается под воззванием «Ко всей политической эмиграции», которое начинается словами:
Мы, беспартийные антикоммунисты, политические эмигранты беженцы из тоталитарного Советского Союза считаем, что борьба против большевизма до полного его крушения является необходимой предпосылкой избавления наших народов от политического, национального и социального рабства, а всего человечества – от нависшей угрозы коммунистической агрессии215.
Однако о ее карьере в ЦРУ после 1952 года мы ничего не знаем, поскольку соответствующих материалов среди рассекреченных документов ЦРУ нет.
Большие надежды
Победа в Великой Отечественной войне, вырвавшая Ф. М. Достоевского из вражеских рук, казалось, открывала ему широкие перспективы, в том числе и на возобновление научных исследований о писателе. Особенно был активен А. С. Долинин, который, пользуясь приближением юбилейного 1946 года, постарался вернуть писателя в когорту разрешенных авторов. 25 мая 1944 года ученый выступает в Пушкинском Доме с докладом о работе Достоевского над романом «Подросток»216 и готовит обзор «Творчество Достоевского в историко-литературной науке 1918–1945 гг.»217.
О своих грандиозных планах А. С. Долинин решил поставить в известность и тех, от кого зависело их осуществление, – литературоведов в аппарате ЦК ВКП(б). Прежде всего, 14 сентября 1945 года он отправил письмо зам. зав. отделом художественной литературы Управления пропаганды и агитации ЦК Г. И. Владыкину, с которым был давно знаком по Ленинграду:
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
1
Декреты советской власти. Т. III, 11 июля – 9 ноября 1918 г. М.: Политиздат, 1964. С. 118. Подлинник в архиве В. И. Ленина – РГАСПИ. Ф. 2. Оп. 1. Д. 6769. Л. 1–2.
2
РГАСПИ. Ф. 19. Оп. 1. Д. 158. Л. 158.
3
Там же. Д. 168. Л. 22 об.–23.
4
Переверзев В. Ф. Достоевский и революция: (Вместо предисловия) // Переверзев В. Ф. Творчество Достоевского. М.: Госиздат, 1922. С. 4.
5
Блюм А. В. Запрещенные книги русских писателей и литературоведов, 1917–1991: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб.: СПбГУКИ, 2003. С. 340 (это единственная монография В. Ф. Переверзева, которая была изъята из обращения).
6
РГВА. Ф. 62. Оп. 1. Д. 18. Л. 1 – 2 об. Автор текста этого циркуляра не указан (имеются лишь утверждающие резолюции), устанавливается на основании следующего: 30 ноября 1921 года циркуляром № 31/596640 были разосланы материалы и руководства по литературно-художественным вечерам, посвященным творчеству Лермонтова, Гоголя и Пушкина (РГВА. Ф. 62. Оп. 1. Д. 18. Л. 24 – 30 об.), уже с многократным указанием имени единственного их составителя – В. Львова-Рогачевского; также в документации ГУВУЗа 1921 года он указан единственным штатным лектором «по литературе, на разные темы» (РГВА. Ф. 62. Оп. 1. Д. 23. Л. 7), он же указан в 1921 году консультантом культпросветчасти ГУВУЗа при формировании репертуара для театральных кружков (РГВА. Ф. 62. Оп. 1. Д. 16. Л. 408 – 408 об.).
7
Кузьмин Н. Ф. Военный вопрос на VIII Съезде партии // Вопросы истории КПСС. М., 1958. № 6. С. 175.
8
Сараскина Л. И. Достоевский в созвучиях и притяжениях: (от Пушкина до Солженицына). М.: Русский путь, 2006. С. 402 (выделенное курсивом дано в оригинале разрядкой).
9
ЦГАЛИ СПб. Ф. 717. Оп. 1. Д. 67. Л. 1.
10
История русской литературы в ВУЗ / Сост. В. Львовым-Рогачевским // Программы и объяснительные записки по истории русской и западно-европейской литературы: Для военно-учебных заведений / Сост. В. Л. Львов-Рогачевский и В. М. Фриче. М.: Высший военный редакционный совет, 1922. С. 29 С. 3–43
11
Лейтес А. Достоевский в свете революции: (1821 – 1881 – 1921) // Зори грядущего. Харьков, 1922. № 1. С. 103.
12
Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. М.: Изд. Центросоюза, 1922 (на обл. – 1923). С. 74.
13
Северская О. И. «Достоевщина» как ключ к ассоциативно-вербальному представлению идиостиля Ф. М. Достоевского // Коммуникативные исследования. Омск, 2021. Т. 8. № 4. С. 643–658.
14
Запросы жизни: Роман М. И. Красова (Л. Е. Оболенского) / Новые книги // Отечественные записки. СПб., 1881. № 11, ноябрь. С. 57. (Рецензия не имеет подписи, в библиографии Бограда автор не раскрыт – см.: Боград В. Э. Журнал «Отечественные записки», 1868–1884: Указатель содержания. М.: Книга, 1971. С. 314, № 3067.)
15
Миртов А. Ф. М. Достоевский: (По поводу диспута 23 марта) // Знамя труда. Юзовка, 1924. № 65, 6 апреля. С. 4.
16
Ларов А. Еще о Достоевском: (Вынужденный, но окончательный ответ проф. Миртову) // Знамя труда. Юзовка, 1924. № 67, 9 апреля. С. 1.
17
Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература / Изд. 2‑е, доп. и испр. М.: Изд-во Л. Д. Френкель, 1924. C. 120.
18
Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература / 7‑е изд., перераб. автором. М.: Книгоизд-во «Мир», 1927. С. 135.
19
Новицкая Л. Львов-Рогачевский // Литературная энциклопедия: В 11 т. М.: Сов. энциклопедия, 1932. Т. 6. Стб. 645.
20
Переверзев В. Ф. Достоевский // Литературная энциклопедия: В 11 т. М., 1930. Т. 3. Стб. 396.
21
О литературоведческой концепции В. Ф. Переверзева: Резолюция президиума Коммунистической академии // Печать и революция. М., 1930. № 4. С. 5.
22
Сакулин П. Н. К итогам русского литературоведения за десять лет // Литература и марксизм. М., 1928. Кн. 1. С. 134–135.
23
Книжная летопись. М., 1931. № 13. С. 877, № 4952.
24
От издательства // Достоевский Ф. М. Сочинения / Под общ. ред. А. В. Луначарского. М., Л.: ГИХЛ, 1931. С. III.
25
Луначарский А. В. Достоевский как мыслитель и художник // Там же. С. VI.
26
Речь о «борьбе с вредительством» и публичных политических процессах, в особенность о только что прогремевшем суде по «делу Промпартии».
27
Луначарский А. В. Достоевский как мыслитель и художник // Достоевский Ф. М. Сочинения / Под общ. ред. А. В. Луначарского. М., Л.: ГИХЛ, 1931. С. XIII–XIV.
28
Луначарский А. В. Достоевский и писатели // Литературная газета. М., 1931. № 8, 9 февраля. С. 1.
29
Там же.
30
Пьяных М. Ф. М. Горький и суд над Достоевским в советской литературе 30‑х годов (проблема трагического) // Максим Горький: pro et contra: Антология. Современный дискурс. СПб.: РХГА, 2018. С. 252.
31
Горький М. Полн. собр. соч. Письма: В 24 т. Т. 21, декабрь 1931 – февраль 1933. М.: Наука, 2019. С. 577 (примеч. А. Г. Плотниковой).
32
Над чем работает писатель // Литературная газета. М., 1932. № 25, 5 июня. С. 3.
33
Герасимова В. Свидетельница: (Отрывок из повести «Жалость») // Писатели Великому Октябрю: Сб. [В 2 ч. Ч.] I. М.: ГИХЛ, 1932. С. 98–124.
34
Герасимова В. Жалость: Повесть. Л.: Изд-во писателей в Ленинграде, [1934].
35
Е[встафьева] А. Повесть о лишнем чувстве: Валерия Герасимова. Жалость. [Рецензия] // Наступление. Смоленск, 1934. № 11. С. 143.
36
Изгоев Н. Д. [Рец. на кн.:] Валерия Герасимова. «Жалость»… // Известия. М., 1934. № 171, 24 июля. С. 4.
37
Герасимова В. Жалость: Повесть // Красная новь. М., 1933. № 8, август. С. 29. Поскольку текст повести претерпевал в каждой публикации изменения, мы цитируем первое и наиболее полное издание.
38
Герасимова В. Жалость: Повесть // Красная новь. М., 1933. № 8, август. С. 31–34.
39
Там же. С. 59.
40
Там же. С. 63–64.
41
Герасимова В. Жалость: Повесть // Красная новь. М., 1933. № 8, август. С. 64–65.
42
Там же. С. 67.
43
Герасимова В. Жалость: Повесть // Красная новь. М., 1933. № 9, сентябрь. С. 3–35.
44
Герасимова В. Свидетели с нашей стороны: [Фрагменты повести «Жалость»] // 30 дней. М., 1932. № 9. С. 45–52.
45
Левин Ф. Олитературенный трактат: [Рец. на повесть В. Герасимовой «Жалость»] // Литературный критик. М., 1934. № 3, март. С. 94, 96, 99.
46
Котляр А. О гуманизме и «гуманистах» // Красная новь. М., 1934. № 9. С. 185.
47
Сергеев С. Герои в масках: [Рец. на повесть В. Герасимовой «Жалость»] // РОСТ. М., 1934. № 11/12, июнь. С. 71.
48
Это характеристика употребляется в рецензии А. Котляра.
49
Левин Бор. Умный художник: В. Герасимова, «Жалость» / Библиография // Ленинградская правда. Л., 1934. № 161, 11 июля. С. 4.
50
Тагер Е. Проблема гуманизма в художественном разрешении: [Рец. на кн.: Герасимова. Жалость] // Художественная литература. М., 1934. № 8. С. 5–7.
51
Адамович Г. «Жалость»: Новая книга советской писательницы В. Герасимовой // Новое русское слово. Нью-Йорк, 1934. № 7700, 25 февраля. С. 8.
52
Котляр А. О гуманизме и «гуманистах» // Красная новь. М., 1934. № 9. С. 185.
53
Лаврецкий А. Переписка Достоевского в либеральной интерпретации: [Рец. на кн.: Достоевский Ф. М. Письма, т. III, 1872–1877. Под ред. и с примеч. А. С. Долинина] // Художественная литература. М., 1934. № 8. С. 46.
54
Кино // Литературная газета. М., 1934. № 99, 6 августа. С. 4.
55
Герасимова В. Таня Полозова. М.: Правда, 1940. Библиотека «Огонек».
56
Яблоновский А. Старый спор славян: [Об отношении к Достоевскому в СССР] // Заря. Харбин, 1933. № 158, 14 июня. С. 2.
57
Турганов Б. О поэзии М. Бажана // Литературная газета. М., 1935. № 69, 15 декабря. С. 5.
58
Коваленко Б. Мыкола Бажан // Литературная газета. М., 1936. № 9, 12 февраля. С. 5.
59
Дейч А. Заметки о поэзии Советской Украины // Известия. М., 1939. № 99, 28 апреля. С. 3.
60
Бажан М. Стихи / Пер. с украинского. М., Советская литература, 1933. С. 78–79.
61
Бажан М. Стихи / Пер. с украинского И. Поступальского, Б. Турганова и Н. Ушакова. М.: Худож. лит., 1935. С. 74–75.
62