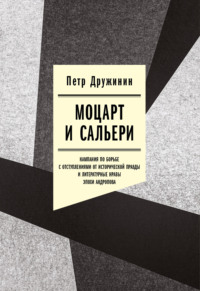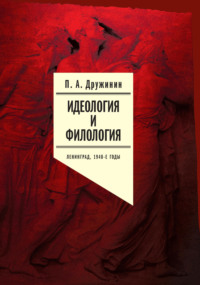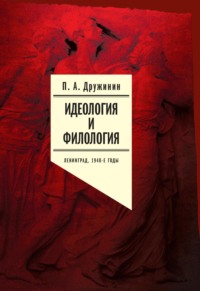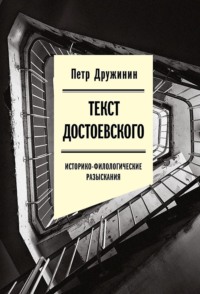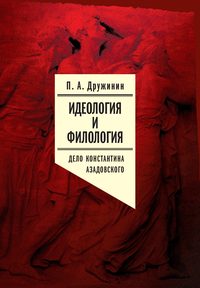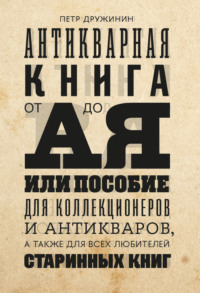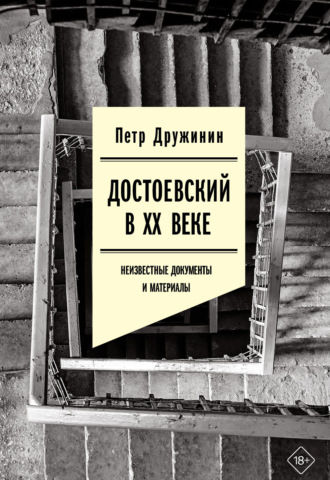
Полная версия
Достоевский в ХХ веке. Неизвестные документы и материалы
Достоевский претендовал на роль защитника народа и прокламировал необходимость следования интеллигенции за народом. Но он, по существу, лишь содействовал углублению разрыва между интеллигенцией и народом.
Достоевский претендовал на возвеличение русской женщины, но он исказил положительный характер Татьяны и унизил русскую женщину.
Достоевский обрушился на «западников-подражателей» (Страхов) и провозгласил самобытность консерваторов. Но он сам в своей речи выступил как подражатель140.
Повторяя слова о гениальности Достоевского, И. М. Нусинов совершенно не оставляет писателю возможности оправдаться, обрушивая на него целые ярусы идеологических обвинений всем своим умением трибуна Коммунистической академии и Института красной профессуры:
После революции 1905 года Мережковский, ссылаясь прежде всего на «Бесы» Достоевского, провозглашал его «Пророком русской революции».
После Октябрьской революции также еще находились такие почитатели Достоевского, которые, ссылаясь на только что приведенные и на аналогичные высказывания Достоевского, говорили о нем, как о явлении пророческом.
Но эти последователи Достоевского сильно напоминали Маргариту, которая, слушая Фауста, была наивно уверена, что пастор говорил то же самое, только иными словами.
Надо ли доказывать, что все эти поповские разговоры об изреченном Достоевским «окончательном слове великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по христову евангельскому закону» – ничего общего не имеют с путями и сущностью нашей революции?
Надо ли говорить о том, каким ничтожным и жалким является это «окончательное слово» в сравнении с тем подлинно великим словом, которое было возвещено всему миру Сталинской Конституцией?
И не в том только дело, что Достоевский не поднялся до понимания будущего русского народа, той всемирно-исторической роли, которую русский народ играет как ведущий народ первого в мире Союза Социалистических Республик. Достоевский не понимал его прошлого.
Пушкин же действительно обнаружил глубокое понимание других народов и всем своим творчеством, в особенности своей интерпретацией образов мировой литературы, сказал новое слово в мировой культуре. Но Достоевский низводил его новое слово к старым, избитым, ханжеским повторам христианских проповедей.
Достоевский при этом совершенно замалчивает, в какой мере Пушкин-материалист, Пушкин-атеист чужд был православных добродетелей.
Пушкин многократно в своей поэзии издевался над всеми столь чтимыми Достоевским христианскими догмами…141
Нацизм сражается за Достоевского
Литература о Достоевском не дает нам понимания того, что происходило с писателем в годы войны: СССР был занят более важными вопросами, а наука о Достоевском несла потерю за потерей – умер от голода В. Л. Комарович, погиб в бою О. В. Цехновицер… В Германии тоже как будто не было особенных событий: даже специальные работы о Достоевском там это время обходят стороной142, тогда как утверждение, что «мощное воздействие Достоевского на немецкое искусство, огненный след, прочерченный его творчеством в судьбе немецкой общественной и философской мысли ХХ столетия»143, вряд ли предполагает паузу на пятилетие, притом едва ли не самое тяжелое в ХX веке. Почти нет сведений и о том, что происходило с наследием писателя на оккупированных врагом территориях. Однако это лишь умолчания, тогда как Ф. М. Достоевский в годы Великой Отечественной войны был там же, «где его народ, к несчастью, был»: и в оккупации, и в окопе, и в ссылке, и даже в коллаборации.
Так случилось, что нацизм захватил Ф. М. Достоевского, обосновал и использовал его в качестве орудия пропаганды в войне с СССР. Такой поворот биографии русского гения объясняется несколькими причинами. Не последняя из них – тот афронт писателю, который демонстрировался в Советском Союзе и который сделал Ф. М. Достоевского как будто идеологически чуждым на родине. Существенна и другая причина, ничуть не зависящая от советских внутриполитических обстоятельств: возглавлял Министерство пропаганды нацистской Германии адепт русского писателя, и было бы странно, если бы он со своим дьявольским умом не использовал Ф. М. Достоевского как мощное орудие в войне против СССР.
Подобно пленнику, Ф. М. Достоевского использовали в качестве живого щита и гнали в бой, причем на трех различных полях сражений: мы видим три самостоятельных направления нацистской пропаганды, каждое из которых постараемся описать.
Освобождение Достоевского от коммунистических оковНа протяжении войны нацистская пропаганда демонстрировала жителям захваченных территорий свое особенно бережное отношение к русской литературе; повсеместно напоминалось о запрете и горькой судьбе выдающихся литераторов при большевиках:
Практически во всех коллаборационистских изданиях, начиная с 1941 года, были рубрики «уголки культуры». В них печатались произведения русских классиков: А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Ф. М. Достоевского и других. Комментарии обращали внимание читателей на те аспекты их творчества, которые при советской власти замалчивались или принижались: религиозность, великорусский патриотизм или национализм144.
Особенно много повествовалось о тех литераторах, которые были расстреляны или сгинули в эпоху репрессий. Периодика активно рассказывала о судьбах писателей в условиях советского строя145, напоминала о сочинениях запрещенных при большевиках авторов. Порой это были очерки о советской повседневности:
Рядом со мной появляется модно одетая женщина. Она вытаскивает батистовый платочек, пахнущий шипром, и обращается к продавщице:
– Скажите, пожалуйста… Ахматова есть?
– Есть «Четки».
Но дама, не беря в руки книги, тихо спрашивает:
– А… муж Ахматовой… есть?
Она боится просто спросить: есть ли стихи Гумилева? Ибо Гумилев расстрелян большевиками, как белогвардеец. Поэтому она начинает с Ахматовой…
– Нет, гражданка, Гумилева не продаем…
Я совершенно поражен таким способом спрашивать нужную книгу и еще больше поражен эрудицией продавщицы…146
Примером того, как вынуждены были жить отверженные литераторы, была избрана Анна Ахматова, ее имя часто приводилось в прессе, особенно в связи с последними произведениями; например, в газете «Голос народа» (Локотского самоуправления) статья «Как напечатали Анну Ахматову» сообщала, что «под угрозой гибели сына в когтях НКВД Ахматова снова пишет – пишет надутые, фальшивые агитки… Чего не сделаешь для спасения своих детей! Скверно, но понятно»147. Приведем более подробно эту же мысль:
Что бы ни думали советские писатели о власти Сталина, свои сокровенные мысли они держат при себе, для домашнего употребления. В своих книгах и статьях они выступают в застегнутых на все пуговицы вицмундирах казенной идеологии. <…>
А. Ахматова нарушила целомудренное молчание «внутренней эмигрантки», разразившись ура-патриотическими стихами после начала войны СССР с Германией. Возможно, что за два с лишним десятка лет поэтесса, говоря советским языком, «перестроилась» и пошла «по линии» союза с большевиками? <…> Проще и вернее другое объяснение неуместного патриотического зуда, охватившего Ахматову. Дело в том, что во время ежовщины был арестован ее сын. Это дало большевикам удобную возможность непосредственно управлять чувствами и вдохновением поэтессы148.
Констатации не были единственной формой пропаганды: оккупационные администрации активно поощряли знакомство граждан с той литературой, которая в СССР была под запретом, – как по радио, так и всеми иными доступными способами. Можно без преувеличения сказать, что в годы войны центром культурной пропаганды становится Одесса. Начиная с 1 февраля 1943 года на радио долгое время выходила передача артистки О. Селиновой, посвященная русской литературе, представлявшая собой чтения стихов «прославленных русских поэтов», в том числе Ф. Сологуба, А. Ахматовой, Н. Гумилева, С. Есенина, К. Бальмонта, З. Гиппиус149.
Открытый в Одессе решением дирекции культуры при губернаторстве в мае 1943 года Антикоммунистический институт исследований и пропаганды (в октябре переименован в Институт социальных наук) проводил многочисленные лекции; одним из постоянных лекторов в нем был А. Д. Балясный150, профессор университета, завкафедрой украинской литературы, а также Г. П. Сербский, занимавший с конца 1942 года место профессора и завкафедрой русской литературы университета151. А. Д. Балясный выступал со статьями по вопросам литературы152, а также с жизнеописаниями жертв большевизма в романтическом ключе, в том числе о Н. С. Гумилеве, погибшем как воин и поэт в бою с «иудо-большевистскими поработителями родины»153; Г. П. Сербский участвовал в издании книг С. А. Есенина и Н. С. Гумилева.
Все подобные лекции по русской литературе должны были проходить этап согласования с оккупационными властями154, причем не все в результате разрешались; скажем, запланированное выступление поэта и литературного критика О. А. Номикоса «Сказительница Марфа Крюкова», не носившее антисоветского характера, не было разрешено155.
Что касается именно наследия Ф. М. Достоевского, то ему уделялось особое, даже исключительное внимание. Еще до того, как 22 июня 1941 года Германия напала на СССР, нацистские организации во всем мире вели дискуссии о писателе. Активным пропагандистом идей писателя стал Российский фашистский союз в Харбине: еженедельно проводимые обществом в Центральном русском клубе вечера с красноречивым названием «Встречи фашистов и их друзей» включали и доклады о писателе Иакинфа Васильевича Лавошникова, известного монархиста и культурного деятеля русского Харбина156. 18 февраля 1941 года он выступил с докладом «Достоевский как пророк русской революции»:
Не новая уже тема, неоднократно дебатировавшаяся в эмиграции, была искусно подана докладчиком в свежей своей новизной трактовке творчества великого русского мыслителя, отчего еще более выиграла в своей неостывающей злободневности. И. В. Лавошников нарочито обошел слишком известную аргументацию, построенную на «Бесах», где Достоевский пророчески нарисовал картину большевицкого бунта, оперируя романами «Преступление и Наказание» и «Братья Карамазовы», все острие своей мысли, базирующейся на литературно-психологическом разборе произведений писателя-духовидца, направил к вскрытию тех внутренних социальных язв в дореволюционной России и той страшной душевной бездны в Русском человеке, которые психологически подготовили крушение Российской государственности157.
Наибольший резонанс вызвал следующий доклад, читанный им 4 марта 1941 года, под названием «Смердяковщина в эмиграции»:
Эта необычайная и острая тема привлекла на «чашку чая» фашистов и их друзей многочисленную аудиторию, среди которой присутствовали видные представители эмигрантской общественности <…> Доклад вызвал оживленную дискуссию, затянувшуюся на целых два часа, и лучше всего повествующую о содержании злободневного доклада, нежели трафаретный отчет о нем. Прения открылись следующим интересным выступлением Ю. Ф. фон Зиберг:
«– Копаясь в болоте человеческой души, Достоевский собрал там большую коллекцию всевозможных бесов и чертенят. Эти бесы – суть бесы господства, вольнодумствования, сладострастия, оппортунизма, безбожия, зависти, злобы и т. д.
Достоевский рассадил их по душам своих героев. И самого страшного из бесов – кинематографического Кин-Конга посадил в Смердякова. Тип этого отцеубийцы дан Достоевским в чеканной, психологически завершенной форме. Владеющего Смердяковым беса нельзя спутать с бесами других персонажей – ни в „Братьях Карамазовых“, ни в самих „Бесах“.
Все бесы Достоевского общечеловечны, встречаются на каждом шагу в повседневной жизни, и их легко отыскать среди эмиграции. Но бес смердяковщины проявляется только в стихийной атмосфере, в толпе, обуянной слухами, в бунте, в революции». <…>
Выступивший вслед за Ю. Ф. фон-Зибергом инвалид Епифанов протестовал против клейма «смердяковщины». В эмиграции есть смердяковы, но нет смердяковщины. <…> В заключительном слове докладчик, отвечая своим оппонентам, указал, что он был далек от мысли обвинить всю эмиграцию в смердяковщине, но все же подчеркивал, что психология некоторых элементов значительно напоминает Смердякова158.
Оккупация дала Ф. М. Достоевскому новую жизнь, и нацистская печать постоянно сообщала об освобождении классика от оков большевизма:
Советская цензура постаралась изъять и из библиотек, и из школьного преподавания «Бесов» и остальные произведения Достоевского. <…> Получилось так, что в такой номинально самой «свободной» стране в мире, как СССР, Достоевского тщательно прятали от читающей публики, от аудитории, от школьного класса. Все, учившиеся и оканчивавшие в эти годы советскую школу, выходили в жизнь в совершенном неведении относительно такого мирового явления в области литературы, как Достоевский159.
В разговоре о популярности Ф. М. Достоевского за границей даже приводился подробный рассказ о переводах его сочинений в Японии160. Во Пскове для подготовки программы по «просвещению и воспитанию детей – молодого поколения граждан новой, освобожденной от большевизма России» летом 1943 года были организованы курсы для школьных учителей (120 участников, из них мужчин – 16); среди обзорных лекций были «Философско-исторические взгляды Достоевского», «Русские поэты – жертвы большевизма»161. Некоторые газеты печатали те сочинений Достоевского, которые не издавались в СССР. Например, псковская (издававшаяся в Риге) газета «За Родину» поместила рождественский рассказ Ф. М. Достоевского «Мальчик у Христа на елке»162. Особенно же часто проводилась параллель между романом «Бесы» и большевизмом163.
Велика была и лекционная активность, особенно в Одессе. Это были и отдельные лекции, как выступление «Духовные искания Достоевского» преподавателя университета А. Ермолаева 5 января 1944 года в Институте социальных наук164. Постоянно упоминал имя классика А. Д. Балясный: «Ленин поощряет издевательство над всем русским. Большевики преследуют творения Ф. М. Достоевского, когда в Америке признают Достоевского мировым гением»165. Произведения писателя читались на мероприятиях: так, 6 сентября 1942 года в Одесском доме ученых в рамках концерта был прочитан отрывок из «Братьев Карамазовых»166.
Оккупационное радио транслировало тексты Ф. М. Достоевского и передачи о писателе. 19 февраля 1943 года по радио передавали получасовое чтение «Братьев Карамазовых» (артисты Викторов и Полетаев)167; 17 мая 1943 года с 15‑30 по 16-30 – «Художественное чтение. Отрывок из романа „Бесы“ Ф. М. Достоевского. Читает артист г-н <Л. С.> Горовой»168; 27 мая с 15-30 до 16‑30 – «Доклад г-на <Н.> Вечерина о романе Достоевского „Бесы“ (окончание)»169.
Нельзя не отметить, что газеты откликнулись на смерть в блокадном Ленинграде В. Л. Комаровича – в берлинском «Новом слове» появился прочувствованный некролог, написанный В. Клыковым. Прежде всего, был отмечен вклад ученого в изучение древнерусской литературы – «это был один из лучших в мире знатоков народной легенды», но отмечались и его труды о Достоевском:
Интересовался Комарович и новейшей литературой. Он страстно ненавидел академическую рутину. Его работы о русской поэзии, хорошо известные тем, кому приходилось знакомиться с «Библиотекой поэта», отличаются отсутствием социологизма, смелостью мысли и глубоким пониманием законов поэтического творчества.
Комарович был другом немецкого народа и германской культуры. Он много лет работал в высших учебных заведениях Германии – в том числе и в Берлинском университете, где читал лекции о творчестве Достоевского.
Погиб большой ученый! Трудно представить, что не увидишь больше его худощавое лицо с бородкой, какую обычно носили разночинцы минувшего века, и потертый старомодный, но тем не менее еще изящный и опрятный костюм.
Гибель Комаровича – тягчайшая, непоправимая утрата для всякого, кто любит и ценит русскую национальную культуру170.
Особенное место в оккупационной культурной жизни занял театр. Наряду с тем, что повсеместно клеймился театр советский и порой даже английский (за переделки произведений Ф. М. Достоевского)171, провозглашался новый свободный русский театр. Театральных трупп было несколько, в том числе русская труппа Крымского государственного театра (Симферополь), которая была в начале 1943 года перевезена в Одессу и вошла в состав Румынского национального театра; ее силами была начата подготовка «Братьев Карамазовых»172.
Однако главным явлением оккупационной театральной культуры стал Русский театр Василия Вронского, который открылся в Одессе 25 апреля 1942 года173. 14 апреля 1943 года на его подмостках состоялась премьера спектакля «Преступление и наказание»174. После пожара осенью 1943 года он открылся снова, и посвященная этому статья дает нам понимание широты деятельности В. М. Вронского:
Вынужденный при большевиках питаться мякиной советских агиток вместо пьес или – чтоб было еще хуже – изуродованной, приспособленной к принципам «социалистического реализма» классикой, подсоветский зритель сразу почувствовал в новом театре дыхание до сих пор ему неведомой или знакомой понаслышке жизни.
За время своего полуторагодичного существования старый русский актер, воспитанный на традициях русского театра и искусства, В. М. Вронский показал одесской публике около ста постановок пьес лучшего классического и иностранного репертуара.
Театр перестал осуществлять принятый в советской системе «производственный план» и стал просто театром, то есть местом показа искусства, свободного от агитационных и тенденциозных налетов, от чего мы почти было отвыкли.
На этом пути дирекция театра и труппа пережила немало серьезных испытаний, и это прежде всего относится к работе, которая была проделана с актером, привыкшим в советское время к штампованным ролям и типам. Театр рос, креп так же, как и все его творческие возможности, но ему пришлось пережить бедствие – возник пожар, который мог задержать представления на неопределенное время. Но тут пришла на помощь румынская администрация в лице Губернаторства Транснистрии, Одесского муниципалитета, местной прессы и широкие круги общественности, которые приняли все необходимые меры для восстановления здания театра и возобновления его деятельности в старом помещении.
Сейчас театр блестит своей красотой. Он капитально отремонтирован как внутри, так и снаружи. Сделаны большие внутренние переделки как на сцене, так и в фойе театра. Значительно улучшено электроосвещение, установлены новые плафоны, фонари и прочее. Кроме материалов, выделенных бесплатно Губернаторством и Муниципалитетом, дирекция затратила на ремонт свыше 120 000 марок.
Для открытия театра, которое состоится сегодня, 30 сентября сего года, после его ремонта Вас. Вронский ставит «Идиота» Ф. М. Достоевского в драматической обработке В. А. Крылова и Плющика-Плющевского. Это серьезнейшее дерзание театра, из которого, мы надеемся, он выйдет несомненным победителем.
То, что господин Вронский обратился к использованию такого изумительного произведения, как «Идиот», говорит о том, что театр идет вперед по пути служения русскому искусству175.
Премьера «Идиота» (в дореволюционной версии В. А. Крылова и Я. А. Плющика-Плющевского) ожидалась с нетерпением: «Публике впервые после освобождения Одессы от большевистского владычества предстоит увидеть в сценическом воплощении творение гениального знатока человеческой души»176, а премьера стала большим событием. В дневнике одесского музыканта и будущего известного педагога В. А. Швеца (1916–1991) описан этот спектакль 10 октября 1943 года:
Был в театре Вронского после ремонта. Потолок нашит из фанеры. Смотрел «Идиот» по Достоевскому. <В. Е.> Маккавеевский в роли Мышкина великолепен. Все в нем было прекрасно: от внешнего застенчивого облика до игры рук, по которым можно было прочесть все его мысли. Он одинаково был силен во всех актах, даже в заключительном, где легко сорваться на мелодраму. Большие успехи, особенно в последнем акте, и у Вронского, который играл Рогожина. Но он по-прежнему не знает роли и импровизирует большую часть текста. Анастасия Филипповна в исполнении <Н. Г.> Мерцаловой тоже весьма хороша. Она была темпераментна и характерна. Неплохо играл Фердыщенко <Н. С.> Фалеев, а генерала в отставке – <А. А.> Савельев. Я смотрел на это все и думал, как бы это превосходно получилось бы в виде оперы! Почему этим не занялся Чайковский?177
Вместе с немецкими войсками В. М. Вронский ушел в Румынию, а там в марте 1944 года был арестован СМЕРШем, этапирован в Одесскую тюрьму, в марте 1945 осужден на 10 лет ИТЛ и умер в заключении в колонии в Николаевской области в феврале 1952 года178.
Достоевский как знамя антисемитизмаНаибольшая известность Ф. М. Достоевского того периода связана прежде всего с тем, как использовались антиеврейские настроения русского классика.
Об использовании антисемитских высказываний Ф. М. Достоевского в нацистской пропаганде было известно и ранее, поскольку тому способствовало распространение слухов об антисемитизме писателя даже среди советских солдат: как вспоминал писатель Анатолий Рыбаков, листовки с текстами из «Дневника писателя», направленными против еврейства, регулярно сбрасывались на позиции советских войск с вражеских самолетов179. Вскользь о статьях такого рода в оккупационной прессе можно узнать также из монографии Д. А. Жукова и И. И. Ковтуна180. Однако сложно даже представить, насколько безбрежной и грязной была эта пропаганда.
Нацистская Германия не сразу привлекла Ф. М. Достоевского в ряды пламенных антисемитов: поначалу нацистская пропаганда едва не отправила русского классика в привычный для него лагерь реакционных авторов, заявляя, что писатель получил известность в мире «благодаря своим еврейским переводчикам»181.
Но поскольку даже в России печатно утверждалось, что Ф. М. Достоевский «явился уже откровенным основоположником новейшего антисемитизма»182, то усилиями Министерства пропаганды была сделана попытка сформировать ложную концепцию об антисемитизме Достоевского как истинной причине запрета его произведений в СССР: якобы советское правительство «не могло простить Достоевскому его деятельности, направленной на разоблачение планов еврейства», и именно по этой причине «оно пыталось снизить значение творчества Достоевского, замалчивать его публицистические высказывания, доказать, что между художником и мыслителем был огромный разрыв, что Достоевский вообще не был мыслителем, и что его публицистика устарела и реакционна…»183 Ровно теми же причинами объяснялось исчезновение писателя из школьной программы: «Произведения Достоевского, создавшие писателю мировую славу, в советских школах не изучались. Такая кара постигла писателя за его антисемитизм»184. Так что шквал антисемитизма с начинкой из цитат Ф. М. Достоевского захлестнул оккупационную прессу185.
Даже мемориальные здания или музеи, сохранявшиеся не в лучшем виде при большевиках, как будто подкрепляли позиции нацизма:
Разрушен дом Достоевского в селе Даровом. С эти домом связаны детские годы писателя. Запущен и разрушен дом, где жил Тургенев. Все это было запущено и разрушено еще до войны и подтверждает, что иудо-большевизм был и остался злейшим врагом культуры186.
Еще в 1931 году на доме Ф. М. Достоевского в Старой Руссе была установлена мемориальная доска, но при нацистской оккупации ее заменили:
По распоряжению местной германской комендатуры дом в Старой Руссе, в котором проживал Федор Михайлович Достоевский, получил новую памятную доску, заменившую прежнюю, старую и заржавевшую надпись, по которой германские солдаты и узнали, что в доме с 1872 по 1880 год жил и работал Достоевский.
Дом этот имеет весьма жалкий вид: запущенный, давно не ремонтированный, полный вшей и клопов – он служил убежищем для восьми семейств! Кое-где еще видны следы старых, грязных обоев, двери сорваны с петель, стекла местами выбиты и заменены бумагой187.
Семья ДостоевскогоПоскольку значительная часть потомков писателя оказалась под оккупацией, это обстоятельство было использовано нацисткой пропагандой максимально и, по-видимому, серьезно повлияло на отношение советской власти к наследию писателя в будущем.
Ранее было известно о том, что Е. А. Достоевская (Щукина) – жена Милия Федоровича Достоевского использовала фамилию Достоевского «для предательских выступлений по радио и в печати»188 и уехала с оккупантами, однако это далеко не все, что можно сказать о потомках писателя в контексте их жизни под немцами.
Еще в 1920‑е годы в эмигрантской прессе сообщалось о нужде, в которой при большевиках живут родственники писателя – «сын Достоевского умер с голоду, жена сына Достоевского живет в Крыму и голодает»189. Однако в ходе войны Германии против СССР этот вопрос приобрел идеологическую окраску: «Потомки Достоевского и Толстого подвергались в СССР преследованиям НКВД. Этот факт символизирует отношение большевиков к культуре»190.