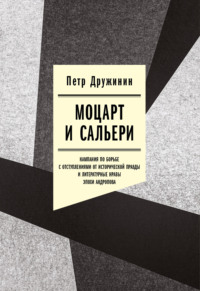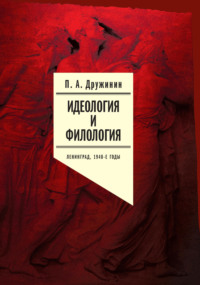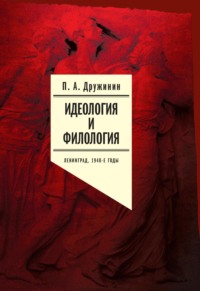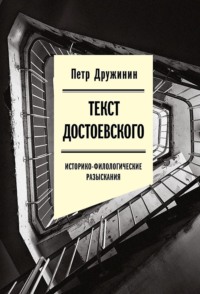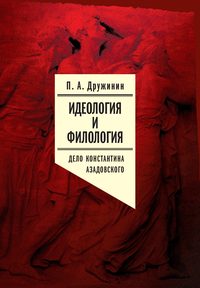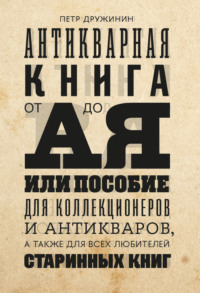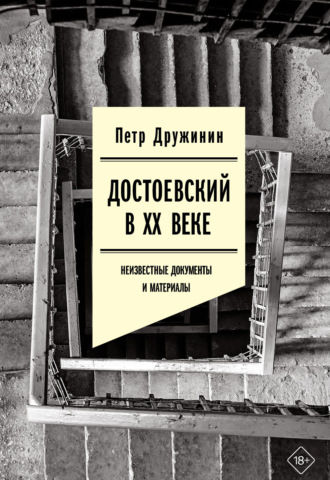
Полная версия
Достоевский в ХХ веке. Неизвестные документы и материалы
Фабула этой довольно путаной повести такова: в провинциальный город в начале 1930‑х приезжает лектор, интеллигент, который проповедует добро и справедливость, и выступает с лекцией о творчестве Ф. М. Достоевского по случаю юбилея писателя; на одной из лекций присутствует начальник строительства гидростанции, который узнает в лекторе белогвардейца и арестовывает его. Далее повествуется о предшествующих событиях, когда к коммунистке и члену ревтребунала Тане Полозовой пришел хлопотать об арестованном бывшем промышленнике «очень привлекательный молодой человек с голубыми глазами, с пшеничной бородкой». Таня узнает в нем того, кто ей раньше нравился, – Андрея Померанцева, но сейчас она его ненавидит как идеологического противника. Затем повествование движется вглубь хронологии – к юности героини, дочери телеграфиста, которая подпала под влияние гуманистических идей Достоевского. Однажды в дом Полозовых приходит председатель ревтрибунала Богуш, знавший покойного отца девушки. Со всей точностью и прозорливостью коммуниста он определяет истинную идеологию Достоевского, после чего Таня Полозова избавляется от «достоевщинки», вступает в партию. Когда ночью в городе вспыхивает восстание белогвардейцев, всех коммунистов расстреливают, но Тане удается укрыться на чердаке у старика-рабочего; тот рассказывает матери Тани, которая убивалась по дочери, что она жива; мать же рассказывает о тайном месте единственному, самому доверенному другу – Померанцеву. На деле проповедник идей Достоевского оказывается предателем и лично участвует в убийстве Тани.
Отношение к Достоевскому в повести занимает главное место. Уже в самом начале, когда говорится о привлекшей внимание лекции, возникает образ писателя-гуманиста:
Это была юбилейная дата величайшего русского и мирового писателя, чей мучительный гений воздвиг ослепительный памятник бесконечному людскому страданию. Гениальный и страдальческий этот писатель был официально признаваем «несозвучным эпохе», – может быть, этим и объяснялось то совершенно неожиданное и напряженное внимание, которое сопровождало эту чисто литературную лекцию37.
Валерия Герасимова, отвлекаясь от будней строительства гидростанции, передает в подробностях содержание лекции – о детстве и юности Достоевского, о смертном приговоре, о каторге…
Но вот в чем необъяснимое. Казалось бы, именно теперь пришло время для еще большего, бешеного неприятия и «бунта». И бунта еще менее беспредметного. Бунта, направленного против совершенно реальной, ощутимой силы. Против всех тех, кто душит его и подобных ему.
Однако – неожиданное… Именно там, в мрачной преисподней Мертвого дома, склоняется этот человек над страницами древнейшей книги, которой благословила его на страдание жена одного из декабристов.
А оказалась эта книга не только благословением на страдание, но и неожиданной дорогой к просветленной гармонии.
Для окончательно ясности заранее должен подчеркнуть, что совсем не религиозное значение имела для него эта древняя книга.
Ведь просто смешно было бы сейчас ворошить какое бы то ни было аляповатое, невежественное и корыстолюбивое поповство! Нет, в этом сборнике древней мудрости открылись ему самые жизненные, простые истины. Главное, открылось ему, что сам по себе человек неповторим и ценен. И что этой ценностью равны между собой и люди в енотовых пышных шубах и люди из затхлого, униженного подполья; что в каждом большом и самом маленьком, в «богатом» и «бедном», в вечном каторжанине и выпачканном чернилом чинуше, – лежит священное и одинаковое право на счастье и на смысл своей единственной, раз сбывающейся жизни.
Далее лектор подробно рассказывает о муках Раскольникова, передает с чувством рассказ Ивана Карамазова о страдающих детях38. И как будто даже сочувственно писательница ищет в сердцах читателей отклик на те идеи «внеклассового гуманизма», которые лектор проповедовал, и находит он сочувствие у слушателей в повести.
Но поскольку фабула такова, что эти идеалы Достоевского окажутся маской классового врага и убийцы, то начинается новая глава, из прошлого, которая рассказывает о Тане Полозовой. Сначала как о члене ревтрибунала и принципиальном коммунисте, затем далее вглубь хронологии, начиная от ее гимназических лет – как, отрекшись от романтической поэзии, она поняла суть жизни:
Достоевский! Только он говорил о жизни всю правду, которую можно было сказать о ней!
И часто с напряженной благодарностью, со слезами на глазах думала она об этом бывшем каторжнике, унижаемом, слабосильном эпилептике, который сумел поднять человеческие страдания до огромной испепеляющей силы, до недосягаемой просветленной высоты.
И, одиноко и мрачно проходя в жизни, она несла в себе тайное утешение, тайную гордыню, что остается неизменно верной страдальческому, но единственно высокому своему уделу39.
Когда Таня неожиданно встречает коммуниста Богуша, то она обсуждает с ним именно Достоевского:
– Вот Раскольников, – сказала она, тяжело переводя дыхание – старуху убил…
– Это верно, – охотно подтвердил спутник, стараясь не выразить слишком явно удивления.
– Он старуху убил не по нужде. Да, не по нужде, – повторила она.
– А… вас вот что волнует! – сказал Богуш и глаза его ярко и живо блеснули.
– Да, – сурово подтвердила Полозова.
– Что ж, – несколько помолчав, добавил Богуш, – вы правы. Не прямая корысть заставила его убить ростовщицу. <…>
– Так вот, значит таких людей успокоить никак нельзя. Они будут всегда несчастливые и неспокойные. И страдать, значит, всегда будут. Чем их ни корми. Хоть три булки давай, – добавила она умышленно грубо.
– А кто же проповедует, что «три булки», как вы остроумно заметили, – верное лекарство от всех и всяких человеческих бед? – спросил Богуш и внимательно вгляделся в лицо девушки.
Удивленно промолчала и Морозова.
– Но только вот в чем вся штука, – помолчав, сказал он, – штука вся в том, что не только Раскольников, но и та настойчивость, с которой его творец отстаивает исключительные права отдельной личности – все это имеет свое, и в конечном счете совершенно реальное объяснение40.
Обстоятельное объяснение коммунистом идеологического вреда достоевщины и оказывается центральным местом повести, которое своим художественным ходом, наряду с финальным моментом – убийством Тани белогвардейцами – привлекло внимание и читателей, и литературной критики.
– А вообще то, что вы, как мне кажется, с таким уважением, с такой большой буквы называете Страданием, – это не особенно хорошая штука.
– Почему же… нехорошая штука? – даже приостановившись, спросила Полозова.
– Потому, что это клапан. Предохранительный такой клапан. Когда в человеке накопляются от всего того, что называют «неправдой жизни», такие силы, которые мучительно ищут выхода, к сожалению, очень часто он прибегает к этому клапану. И все то, что могло бы претворяться в энергию, в движение, выходит в виде отработанных паров. Достоевский – вот писатель, в высшей степени содействовавший такому, весьма изнурительному, но и весьма безвредному выпуску паров. Но главная штука в том, что постепенно создалась и идеализация этого занятия. <…>
Так вот, о механике «страданий». Главная штука в том, что у какой-то категории лиц постепенно создалась идеализация этого занятия: считается, например, что человек, возведший свои несчастья в перл создания, в какую-то высокую степень, будто даже чем-то компенсирует себя сравнительно с попросту несчастливым человеком. Он уже ощущает себя стоящим на какой-то «высоте» сравнительно с этим тихоньким простячком! Он уже с достоинством носит в себе эти свои «страдания», – точно они не разъедающий рак, а некий карат чистейшей воды! Они, наконец, дают ему нечто вроде цели и смысла существования. Забавно! – Богуш неожиданно сердито усмехнулся, так у него блеснули еще крепкие и белые зубы…41
Таня Полозова уже коммунист, работает в ревтрибунале, ходит в сапогах и гимнастерке, от нее зависит приведение в исполнение смертных приговоров; и хотя читает мало, она успевает перечитывать Достоевского уже как новый человек, с синим карандашом; и ее живущая в прошлом мать находит «Братьев Карамазовых» с этой правкой:
А на одной из страниц самого великого писателя-старца, чье имя сияло над всем миром как символ всечеловеческой любви и смирения, стояло дерзкое, кощунственное слово: «Ложь»42.
Вскоре с Таней знакомится тот самый голубоглазый молодой человек, бывший студент столичного университета Андрей Померанцев, находит в доме Полозовых временный приют, и затем покидает их дом. Завершает повесть ужасающая картина жестокого убийства коммунистки Померанцевым и его сообщниками, в том числе гимназистом с «гумилевской доблестью»43.
Как мы сказали выше, еще за год до публикации повести страна знала о том, что один из подающих надежды писателей-коммунистов работает над произведением, призванным развенчать идеологию мятущегося классика: первая публикация фрагмента еще не завершенной повести состоялась в 1932 году и уже содержала все ключевые моменты повести о Достоевском44. Однако публикации частей повести, неизменно с разоблачением достоевщины, а затем полные издания, которые как будто более чем доходчиво объяснили читателям ущербность гуманизма Достоевского, оказались затем серьезнейшим образом усилены. Речь о выступлениях критики: повесть была подробно рассмотрена в многочисленных рецензиях. Эти рецензии по-разному относились к дарованию В. Герасимовой, но были полностью единодушны в идеологической оценке: после Великого перелома ни о каких спорах речи уже не шло. Журнал «Литературный критик» в мартовской книжке 1934 года открыл целую дискуссию.
Ф. М. Левин отметил, что автор в повести выступает в привычной тональности: «Разоблачение классового врага и приспособленца, скрывающихся под личиной преданности, советскости, под маской гуманизма или какой-либо иной идеологической вуалью, прикрывающей его подлинное звериное, хищническое лицо, – эта тема давно уже стала объектом внимания автора „Жалости“», однако тема оказывается недостаточно проработанной:
Закрывая последнюю страницу, читатель испытывает понятное чувство неудовлетворенности, которое примешивается к положительной общей оценке идейного содержания повести и уменьшает его значение. Ибо суть повести сводится к тому, что в ней показан классовый враг, скрывающийся за ширмой проповеди любви и жалости, само же это прикрытие не разоблачено до конца. Это чувство неудовлетворенности, неполноты и недоработанности усиливается и серьезными художественными недостатками повести.
Последние были сильно акцентированы и завершались пожеланиями:
Стать ближе к жизни, надо писать проще и расширить свою читательскую аудиторию, надо поменьше рационалистического морализирования и интеллигентской литературщины, побольше соков и красок живой жизни и художественной плоти45.
Но остальная критика была боевой, уловившей смысл текущего момента:
Сорвать с классового врага вуаль гуманизма, показать что за этим «панцирем и забралом» скрывается враг, – вот большая и благородная задача, поставленная Герасимовой в ее повести46.
Разоблачение классового врага в литературных произведениях, срывание с него маски – дело важное уже тем, что оно приучает читателя к классовой бдительности, вооружает его на борьбу47.
Несмотря на успешное преодоление главной героиней своей «достоевщинки»48, отмечая что повесть есть указанный автором «путь к борьбе за утверждение коммунизма»49, критика видела все художественное несовершенство повести: обилие других действующих лиц, часто совершенно излишних и отвлекающих, повторение образов прежних сочинений писательницы, длинноты, что дало критике основание говорить и о большем – о неверном отображении уже коммунистических идей. Но не только их. Е. Б. Тагер указал, что «трактовка Достоевского в „Жалости“ страдает известной спорностью и односторонностью», и высказал мнение, что для доказательства, «что гуманизм в наших условиях превращается в ширму, прикрывающую все классово враждебные революции элементы», стоило не апеллировать к классикам литературы вообще, а раскрывать характеры современников иными средствами: «Вместо того, чтобы сразиться с врагом лицом к лицу, Герасимова наносит ему удар в спину»50.
Даже западная критика отметила эту повесть, особенно скажем о большой рецензии Г. В. Адамовича. Пересказывая сюжет, он делает вывод, что «Опыт „преодоления Достоевского“ удался. Герасимова с удовлетворением кладет перо и ставит точку»51.
Действительно, критика отметила победу советской литературы над Достоевским; однако то была пока победа локальная:
Социалистической литературе еще предстоит «посчитаться» со всеми проблемами мировой литературы, со всеми ее «проклятыми» вопросами. <…> Есть много художников, в том числе и гениальных, с которыми нужно будет поспорить нашей литературе! И в их числе на одном из первых мест находится имя Достоевского. Полемика с Достоевским!52
И недаром в рецензии А. Лаврецкого на вышедший тогда же третий том писем Ф. М. Достоевского, которая по случайности была напечатана в том же номере журнала, где и рецензия Е. Тагера на повесть В. Герасимовой, подверглась жестокой критике позиция А. С. Долинина:
Достоевский особенно интересен для нас как писатель, в творчестве которого социализм и революция являлись центральными проблемами. Но его постановка и решение этих проблем глубоко враждебны социализму и революции.
Достоевский – враг, но враг гениальный и тем самым более опасный, более влиятельный, захватывающий более широкий круг действия, чем всякие Катковы, Победоносцевы, Страховы, Мещерские и др. Он представляет особый вид реакционера, враждебность которого нам осложнена и углублена его гениальностью, часто вызывавшей разногласия между ним и его менее проницательными соратниками.
Вот этого, еще до сих пор живого врага должен видеть в Достоевском советский исследователь53.
Летом 1934 года сообщалось, что «В. Герасимова будет писать для Ленинградского кинокомбината сценарий по своему роману „Жалость“»54, но этот замысел не был осуществлен. В 1940 году в массовой библиотечке «Огонька» выходит книжка Валерии Герасимовой «Таня Полозова»55 – уже сокращенный, сильно измененный сюжет «Жалости», возможно, как раз то, что должно было лечь в основу сценария. Однако к тому времени отношение в стране к Достоевскому настолько изменится, что его имени мы в книге не найдем, даже всякие разговоры о гуманизме оказываются совсем размыты.
Достоевский как предвестник нацизма
«Не любит черт ладана… Не любят в советском царстве, в коммунистическом государстве Достоевского… Ох как не любят!» – писал А. А. Яблоновский в 1933 году56, и эта реплика эмигранта отражала действительность.
В 1932 году украинский поэт Микола Бажан пишет стихотворение «Послесловие: Про Достоевского, про Гамлета, про Двойника», напечатанное и в русском переводе (получило известность как поэма «Смерть Гамлета», затем переработано в 1936 году). Произведение это также направлено на преодоление гуманизма, то есть Достоевского. Будучи первым идеологическим произведением Бажана, оно не менее радикально, чем повесть В. Герасимовой, но в литературном смысле, конечно, несоизмеримо по таланту с тенденциознейшей рапповской прозой, а оттого и оказалось намного более деструктивным для наследия Ф. М. Достоевского. И здесь уже носится предвестие того, о чем будет сказано в 1934 году с трибуны писательского съезда М. Горьким: во всеуслышание имя Ф. М. Достоевского связывается с набиравшим обороты нацизмом.
Как писала критика, «Бажан показывает раздвоенного, мятущегося интеллигента-гуманиста западноевропейской формации», которому «никакие башни из слоновой кости не дадут остаться нейтральным перед лицом решающих классовых боев. Фашизм мобилизует своих приверженцев»57, «обрушивается на мелкобуржуазную половинчатость и раздвоенность, на колебания между революцией и национализмом»58; «Он показал, что в героическую пору схватки двух миров для всякого честного человека не может быть сомнений и колебаний»59.
Стихотворение это известно в нескольких переводах – А. А. Штейнберга60, И. С. Поступальского61, Б. Л. Коваленко 1936 года (фрагмент)62; в послевоенные годы наибольшую известность получил перевод П. Г. Антокольского63 (сделанный после того, как трое предшественников были репрессированы)64. Приводим фрагмент поэмы в самом первом переводе – А. А. Штейнберга:
Есть люди, что прячут в команде крылатку,Двойника старомодного жалкий убор?Зачем она надобна? Спрашивать не с кого.Кому эти тряпки к лицу, наконец?Бредет по Европам фантом ДостоевскогоИ пальцами шарит в пустотах сердец.И люди ползут из сердец, как из дома,Как после болезни, позора и мук, —Здесь гетманский сын, генеральский потомок,И прусского юнкера выбритый внук, —В одной униформе выходят на стук.Теперь поищите Алеш КарамазовыхВ святых легионах, в военном строю,Где они, в респираторах противогазовых,Тонкую душу фильтруют свою.Раздутая маска оскалилась хоботомИ дышит Христос респиратору в зад.Князь Мышкин! Вы тоже в строю! Вы до гроба там Останетесь, бравый солдат!Значит, гундосый, и вас-такиВедут в строевой тесноте,И выросли хвостики-свастикиНа вашем смиренном кресте.И бодро нафабрив белесые усики,На лбы наведя торжествующий глянц,Гвардия иисусиков,Прозелитов святых сигуранц65.Это стихотворение и в целом получило большую известность как
нанесшее удар по всем, кому «легче зубами вцепиться в собственный локоть», чем идти одним путем с народом, всем тем, кто, засев в «башне из кости слоновой», притворяется, что он сохраняет свою творческую независимость, хотя на самом деле он раб народных врагов66.
То, что переводы сочинений Ф. М. Достоевского пользовались в Германии первой трети ХX века большим интересом, общеизвестно, как было общеизвестно и то, насколько им зачитывались идеологи нацизма, особенно Йозеф Геббельс67. Эта привязанность к русскому гению оказалась в СССР еще одной, веской причиной, по которой к имени Ф. М. Достоевского стал привешиваться ярлык нациста. Не было секретом и то, что Артур Мёллер ван ден Брук, издатель немецких переводов Ф. М. Достоевского, нашел в русском писателе очень многое для пангерманизма, что в конечном счете привело его в 1923 году к написанию книги «Третий рейх», ставшей краеугольным камнем идеологии национал-социализма в Германии68. Советские газеты сообщали гражданам об увлечениях главарей нацизма писателем – как его прославляет в своих книгах Альфред Розенберг69, а особенно как Ф. М. Достоевским увлечен Геббельс:
Литература не является для него преломлением, жизни, а наоборот, жизнь он видит исключительно сквозь призму литературы. Недаром был он учеником Гундольфа, известного биографа Гете и Шекспира, исследователя германского романтизма. У Геббельса изучение романтиков причудливо переплетается с почти болезненным преклонением перед Достоевским. Так оно и должно было быть: будущий вождь берлинских фашистов должен был стать поклонником автора «Бесов». Достоевский хотел в этом романе дать чудовищно карикатурное изображение революционного движения. В эпилептическом ясновидении дал он, однако, в проекции на эпоху империалистических войн и пролетарской революции жутко реалистическое, почти натуралистическое изображение фашизма. Геббельс мог бы быть великолепно одним из героев «Бесов», хотя бы Петром Степановичем Верховенским на берлинско-фашистский лад70.
В этой исторической ситуации уже как логически предопределенное воспринимается публичное и всеобщее надругательство над Достоевским, которое происходило на Первом Всесоюзном съезде советских писателей 1934 года. Уже на самом первом заседании, 17 августа, М. Горький задал тон, критикуя буржуазную Европу.
Горький надел очки, снял пиджак и остался в одной голубой вязаной рубашке, еще более высокий и тщедушный, чем всегда. Он говорил, вернее – читал без всякой ораторской рисовки. Это было неторопливое изложение мысли чрезвычайно умного, энциклопедически образованного человека. Вся история культуры была мастерски раскрыта Горьким. Мастер еще раз явил себя примером того, каким должен быть советский писатель, – культурным, смелым, высокообразованным, стоящим на уровне современной науки. <…>
Перед тем как на трибуну вошел Горький, от имени партии и советской власти писателей приветствовал товарищ Жданов <…> Горький по существу говорил о том же, что и Жданов, только более широко развил это и обосновал71.
Напомним некоторые фрагменты этой речи, которые станут лейтмотивом оценок Ф. М. Достоевского на долгие десятилетия:
Особенно сильно было и есть влияние Достоевского, признанное Ницше, идеи коего легли в основание изуверской проповеди и практики фашизма. Достоевскому принадлежит слава человека, который в лице героя «Записок из подполья» с исключительно ярким совершенством живописи словом дал тип эгоцентриста, тип социального дегенерата. С торжеством ненасытного мстителя за свои личные невзгоды и страдания, за увлечения своей юности Достоевский фигурой своего героя показал, до какого подлого визга может дожить индивидуалист из среды оторвавшихся от жизни молодых людей XIX–ХХ столетий <…>
Достоевскому приписывается роль искателя истины. Если он искал, он нашел ее в зверином, животном начале человека и нашел не для того, чтобы опровергнуть, а чтобы оправдать. Да, животное начало в человеке неугасимо до поры, пока в буржуазном обществе существует огромное количество влияний, разжигающих зверя в человеке. Домашняя кошка играет пойманной мышью, потому что этого требуют мускулы зверя, охотника за мелкими, быстрыми зверьми, эта игра – тренировка тела. Фашист, сбивающий ударом ноги в подбородок рабочего голову его с позвонков, – это уже не зверь, а что-то несравнимо хуже зверя, это безумное животное, подлежащее уничтожению, такое же гнусное животное, как белый офицер, вырезывающий ремни и звезды из кожи красноармейца.
Трудно понять, что именно искал Достоевский, но в конце своей жизни он нашел, что талантливый и честнейший русский человек Виссарион Белинский «самое смрадное, тупое и позорное явление русской жизни», что необходимо отнять у турок Стамбул, что крепостное право способствует «идеально нравственным отношениям помещиков и крестьян», и, наконец, признал своим «вероучителем» Константина Победоносцева, одну из наиболее мрачных фигур русской жизни XIX века. Гениальность Достоевского неоспорима, по силе изобразительности его талант равен может быть только Шекспиру. Но как личность, как «судью мира и людей», его очень легко представить в роли средневекового инквизитора72.
Максим Горький не был одинок. Горько читать и слова Виктора Шкловского, которые стенограмма навсегда запечатлела:
Я сегодня чувствую, как разгорается съезд, и, я думаю, мы должны чувствовать, что если бы сюда пришел Федор Михайлович, то мы могли бы его судить как наследники человечества, как люди, которые судят изменника, как люди, которые сегодня отвечают за будущее мира.
Ф. М. Достоевского нельзя понять вне революции и нельзя понять иначе как изменника73.
23 августа с безжалостной речью выступила и автор повести «Жалость». Валерия Герасимова благодаря речи Максима Горького понимала свою правоту в оценке Достоевского, а потому еще более громко призывала на борьбу с идеологией писателя:
Но можно ли вопрос о развернутом коммунистическом мировоззрении свести только к вопросу о том, что коммунизм хорош, а капитализм плох? Разве старый мир противостоит нам в таком нищем оперении? Разве мы имеем право подходить к нему с такими «голыми» руками? Разве старый мир примитивно и прямо говорит о том, что мы против социализма потому, что не хотим отдать свое имущество? Он выступает со сложными, тонкими орудиями, и мы будем глупцами, а не революционерами, если не сможем дать самым высоким его идеям, самым высоким выражениям его борьбы творческий, талантливый, могучий отпор. Мы сможем! И в этом все дело.
Разве тот же Ницше с его проповедью свободного человека-зверя не был одной из колонн, которая подпирала этот старый мир? Разве тот же Достоевский с его культом страдания, с его культом очищения через страдания, не был тоже колонной, которая поддерживала этот несправедливый мир?
И разве наш, коммунистический художник не должен выступать на той же высоте мировоззрения, которая ему открыта, и дать бой этим великим представителям старого мира? И это будет сражение не с ветряными мельницами, не с теми дурачками, которых у нас часто выставляют оппонентами умных коммунистов, а это будет бой с титанами, которые по плечу лучшим художникам нашего времени.
Но и разве не являются идеи таких титанов, как Толстой, Достоевский, Ницше, теми высочайшими Гималаями идей старого мира, с которых в наши дни мутными ручьями стекают идеи фашизма и пацифизма? И разве борьба с этим мутным потоком, а следовательно и с его «чистыми» первоисточниками, не имеет для нас революционного, практического значения? И разве не имеем мы полной возможности выйти победителями из этой схватки?74