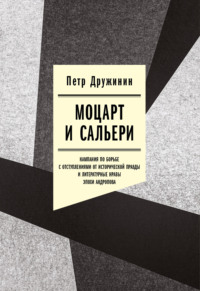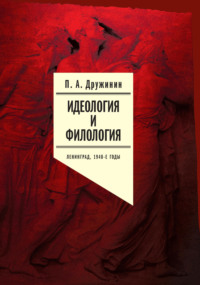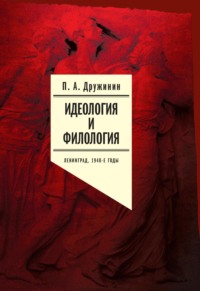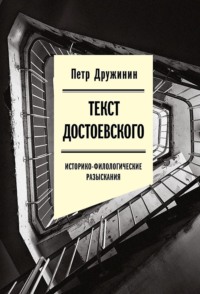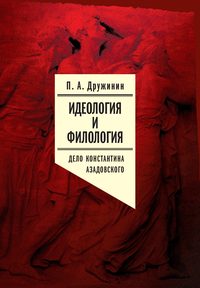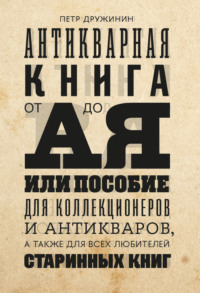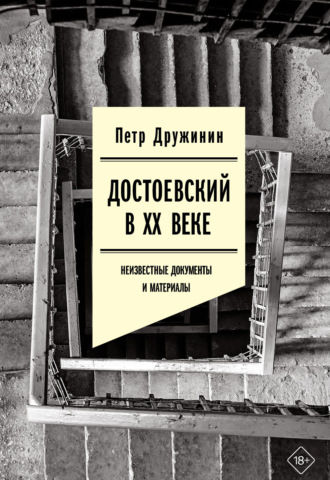
Полная версия
Достоевский в ХХ веке. Неизвестные документы и материалы
Такое провозглашение Ф. М. Достоевского врагом советской власти было неожиданностью даже для Запада. Варшавская газета Д. В. Философова «Меч» отметила эту речь Горького статьей Е. С. Вебера:
Съезд был открыт «исторической речью величайшего из современных писателей мира» – Горьким. Превосходная степень имен прилагательных в применении к главным действующим лицам трагического фарса, совершающегося в советах, никого удивить не может. Ведь пишут же писатели, участники съезда, что они гордятся честью жить в одну эпоху с величайшим Сталиным <…>
Итак, «величайший из современных писателей мира» произнес «историческую речь» на «первом в мире съезде писателей». Прислушаемся к его речи, к его руководящим указаниям, к его категорическим требованиям, предъявляемым партией к новой разновидности «хозяйственников» от литературы, к тем, кто в СССР зовется писателями <…>
C Достоевским этот верховный евнух советской литературы считает необходимым расправиться. Достоевский для него лишь автор «Записок из подполья» – предельная антиобщественность! – и друг Победоносцева. Другого Достоевского нет.
«Достоевскому, – снисходительно поучает Горький, – приписывается роль искателя истины. Если он искал, он нашел ее в зверином, животном начале человека и нашел не для того, чтобы оправдать».
«Братьев Карамазовых» не было. Горький их не знает. «Преступления и наказания» не существует. Есть лишь «оправданное» Достоевским «вертикальное животное» (один из шедевров Горького!). Достоевский ответствен за «грехи» Ницше, Гюисманса, Бурже, Уайльда, Савинкова и Арцыбашева…75
В 1935 году в последний раз публикуются «Братья Карамазовы», запрещаются «Бесы». А. С. Долинин прилагал усилия, «перестраивался» и в 1935 году изобразил писателя «революционером и предшественником современной революции»76, но это не помогло.
Знаковыми для науки о Достоевском воспринимаются события 1936 года, когда памятник работы С. Д. Меркурова, установленный в 1918 году на Цветном бульваре в рамках провозглашенного республикой плана монументальной пропаганды, был «в связи с прокладкой трамвайных путей по Цветному бульвару» снят с пьедестала и перенесен в сад амбулатории им. Достоевского на Новой Божедомке, где писатель родился. Иными словами, из центра Москвы отправлен в Марьину Рощу и поставлен прямо в землю против Туберкулезного института Мосздравотдела (б. Мариинская больница). Стоявшая на том же Цветном бульваре скульптура С. Д. Меркурова «Мысль» была также демонтирована и перенесена на ул. Воровского во двор Дома писателей77. Чтобы не оставалось каких-либо сомнений относительно низвержения идолов, поясним: никаких трамвайных путей «по середине Цветного бульвара»78, как было объявлено, так и не проложили.
В том же году остановлено издание писем Ф. М. Достоевского, которое готовил А. С. Долинин: после того как в 1934 году был напечатан третий том, четвертый, содержащий переписку за 1878–1881 годы, уже не смог в годы сталинизма преодолеть плотину советской цензуры.
Не менее показательны события в Ленинграде. Еще в 1913 году79 на доме на углу Кузнечного переулка и Ямской улицы была повешена мемориальная доска со следующим текстом: «В этом доме жил и скончался в 1881 году Федор Михайлович Достоевский»80, но в конце 1930‑х годов она была сброшена с фасада и бесследно исчезла81.
О «наследстве» М. Горького в науке о Ф. М. Достоевском второй половины 1930‑х годов говорит зачин тезисов диссертации П. П. Жеглова «Творчество Достоевского 40‑х годов», написанной под руководством Н. К. Пиксанова и защищенной в ЛИФЛИ летом 1936 года:
Изучение творчества Достоевского не может представлять только узколитературный интерес. Национал-фашистская интерпретация мировоззрения творчества Достоевского, направленная на оправдание теории и практики фашизма, обостряет необходимость марксистско-ленинского освещения мировоззрения и творчества писателя82.
Психопатология Достоевского
В 1920‑е годы постепенно растет число тех, кто смотрит на наследие писателя не с художественной, не с историко-литературной, даже не с идеологической точек зрения, а рассматривает его с позиций медицины. Существовавший и ранее заметный интерес к творчеству Ф. М. Достоевского через призму изучения его душевных болезней перерождается в условиях идеологического истолкования его произведений, и все более явно формулируется новая линия в оценке наследия писателя – речь уже ведется не только о болезненности самого классика русской литературы, но и об ущербности, явной вредоносности его книг для советского читателя.
Пресса открыто связывала имя Ф. М. Достоевского с помешательством, причем в довольно специфическом ключе. Речь о криминальном сознании – еще одном значении, которое обретал ругательный термин «достоевщина». Несколько уголовных процессов 1920‑х годов напрямую связывались с социальной язвой достоевщины.
В мае 1922 года в народном суде Детскосельского уезда состоялся процесс по обвинению 19-летней А. П. Моисеевой в убийстве 17-летней Е. А. Никитиной колуном по голове83. Адвокатом обвиняемой на этом процессе выступал молодой юрист Алексей Иванович Плюшков (1897–1968), поэт и литератор, полагавший, что процесс этот
даст целую картину – картину, которую бы использовал Достоевский, ибо герои этого процесса – его герои, ибо мир, в котором совершено преступление и из которого вышла преступница – мир, с которым нас сблизил Достоевский…84
Или же упомянем еще один уголовный процесс: когда в 1924 году Киевский губернский суд слушал дело Анны Лысаковой, обвиняемой «в кошмарном убийстве на кладбище» 9-летней девочки Елены Иваницкой «из мести к матери последней», то сам суд, перед тем как направить обвиняемую на излечение в психиатрическую лечебницу85, задал в открытом заседании вопрос подозреваемой об отношении к писателю:
Суд интересуется ее развитием, ее духовными запросами. Ответы манерные.
– Достоевского читала. Раскольникова я не оправдываю, но я его понимаю86.
То есть в 1920‑е годы вопросы убийств рассматривались в тесной связи с влиянием произведений Достоевского, однако это можно назвать скорее казусом, хотя и симптоматичным.
Отношение классической русской медицинской науки середины 1920‑х годов к Достоевскому можно изложить словами В. М. Бехтерева, сказанными 24 февраля 1924 года на годичном акте Института медицинских знаний:
Человек, перенесший в своей жизни и крайнюю бедность, и тюрьму, и ссылку, и ужасы смертной казни, и сам имевший глубоко надломленное душевное здоровье, – только такой человек, при высокой одаренности от природы, мог найти в своей душе отклик на соответствующие положения жизни и на тяжелую душевную драму и мог воспроизводить с художественною яркостью те внутренние переживания, которые были испытаны им самим. В этом основная причина силы своеобразного художественного творчества Достоевского, граничащего с откровением. По тем же причинам тот же писатель углов, где, по его словам, «никогда не смеются и никогда не радуются», не мог не остановить своего внимания и на тех состояниях человеческой души, которые не граничат только с патологическим, но уже явно переходят за грань нормального, представляя собою настоящую душевную болезнь. И вот он рисует перед нами не только типы забитых, бедных и искалеченных людей, которые в своих грезах и фантазии воображают иную жизнь, представляющуюся их болезненно настроенному уму, но и целый ряд типов, уже выбитых суровой действительностью из нормальной колеи и перешедших на положение душевнобольных87.
Но вскоре все большее давление на восприятие писателя оказывают другие области науки – психоанализ и евгеника. Применение данных «Фрейдовой науки» к Ф. М. Достоевскому неминуемо привело к очень громким результатам. Особенно выделяются на этом фоне две публикации. Первая – книга артистки А. А. Кашиной-Евреиновой «Подполье гения». Этот злобный памфлет, написанный под прикрытием исследования и имени З. Фрейда, не имеет отношения к психоанализу и касается скорее вопросов морали, а автора интересует личная жизнь писателя и ее глубины. Еще задолго до якобы научных выводов, в момент разбора греха Ставрогина, заявляется, что «сплетня о насилии самим Достоевским несовершеннолетней имела все-таки свои основания»88, и приводятся слухи и доводы для доказательства этой убежденности; очень много говорится о садизме как характерном для Достоевского половом извращении. В целом же А. А. Кашина-Евреинова этой книгой сводит личные счеты с Ф. М. Достоевским, которым была очарована, но теперь внутреннее христианство позволило ей разгадать бесовскую суть писателя: «Долгие годы был он для меня, как никто в литературе, загадкой, ибо по силе биения его творческого сердца нет ему равного нигде! Но теперь я… его знаю»89. Важно отметить, что порицается в этой книге не только сам писатель и его мораль, но и его произведения, которые, по сути, представляются чем-то абсолютно вредоносным:
Достоевский обилием мучительства действует чисто физически на читателя, причиняя ему боль. Это основное, главное впечатление от его творчества. Он ставит героя в невыносимое положение, терзает его всеми терзаниями Дантова ада и на этой канве создает его образ. Он почти любуется иногда этими муками: страдания героя – момент наивысшего подъема мысли Достоевского. Он любит эти страдания – из них он черпает свой творческий подъем90.
Через два года выходит по-русски уже более соответствующая собственно психоанализу книга И. Нейфельда «Достоевский»91, немецкое издание которой вышло под редакцией З. Фрейда. Из этой книги русский читатель мог узнать о таких ранее неведомых (не только в контексте биографии Ф. М. Достоевского, но и в принципе) чертах психологии писателя («извращениях духовной жизни»), как эдипов комплекс, гомосексуальные наклонности, садизм, мазохизм, эксгибиционизм, анальный эротизм, эрогенность ротовой области… Вся эта химеричность внутреннего мира писателя настойчиво переносится в его творчество:
Сбивающиеся с пути, извращенные, дисгармонические характеры и душевнобольные составляют призрачную толпу героев Достоевского. Ни один из них не здоров душевно, ни один не живет жизнью обычных людей. Дикие, необузданные страсти руководят их поступками, они как бы оборачиваются своим бессознательным к читателю и открывают необычайные тайны своей душевной жизни92.
В предисловии к русскому изданию книги П. К. Губер оговаривал, что «большой ошибкой было бы принять без критики все ее выводы»93, однако такой силы диагностика, в особенности от лица прогрессивной западной науки, не могла не отразиться на восприятии личности Ф. М. Достоевского и его произведений в СССР.
Поскольку П. К. Губер был одним из наиболее авторитетных в те годы критиков, на основании выводов которого принимались решения о переводах зарубежных изданий, то можно видеть, как быстро накладывались ограничения на литературу, отражавшую ту же психологическую позицию, которая порицалась в книгах Ф. М. Достоевского: когда в ленинградском издательстве «Время» рассматривался вопрос публикации русского перевода получившей известность книги Германа Гессе «Степной волк» (1927), именно П. К. Губер отмечал необходимость сократить книгу «во-первых для цензуры, а во-вторых в интересах читателя» и писал следующее:
Этот роман… впрочем, это столько же роман, сколько психопатологический этюд и философский трактат, – несомненно создался под влиянием Достоевского и притом в особенности двух его произведений – «Двойник» и «Записки из подполья». Книга Г. Гессе и представляет собой записки такого подпольного немецкого человека, только гораздо более ученого и начитанного, нежели его русский прообраз94.
Однако с конца 1920‑х годов психоанализ в целом, как и работы самого З. Фрейда (прежде всего, его предисловие к изданию «Братьев Карамазовых» 1928 года), уже не оказывали большого влияния на восприятие Ф. М. Достоевского в СССР; чего нельзя сказать еще об одной науке, которая в 1920‑е годы оказала не меньшее деструктивное воздействие на Ф. М. Достоевского. Речь о евгенике, и именно эта наука бросила на писателя темную, даже зловещую тень.
Главным виновником этого был М. В. Волоцкой – известный физический антрополог, автор работ по дерматоглифике, а также (или прежде всего) крупнейший пропагандист евгеники и общественный деятель на евгеническом поприще. В 1920‑е годы он много трудился над созданием марксистского извода этой расовой дисциплины: осознавая несовместимость буржуазной евгеники с задачами пролетариата, он не отступал:
Это ничуть не должно менять нашего отношения к евгенике в ее основной сущности. Ведь цель евгеники, повторяю, сознательное воздействие на процесс человеческой эволюции. В таком понимании евгеника чрезвычайно гармонирует с общими задачами советского строительства. Важно лишь, какое мы в нее вольем содержание95.
Что касается того содержания, которое в евгенику «вливал» сам М. В. Волоцкой, то наибольший резонанс получила его убежденность в необходимости принудительной стерилизации:
К сожалению, в огромном большинстве случаев бывает очень трудно и даже, при современном состоянии науки, невозможно установить, почему та или иная семья отягощена такими наследственными болезнями, как гемофилия, шизофрения, маниакально-депрессивный психоз, слабоумие, различные физические уродства и конституционные аномалии и т. п. В настоящее время сравнительно гораздо более известно, как передаются наследственные болезни из поколения в поколение, чем то, как они первоначально возникают и под влиянием каких именно конкретных факторов это возникновение происходит. Поэтому, по отношению к таким дефектам, профилактическая селекция в той или иной форме (половая стерилизация, запрещение вступать в брак, сегрегация и т. п.) является пока единственным методом охраны интересов потомства96.
В начале 1922 года профессор Н. К. Кольцов, основатель Русского евгенического общества, предложил М. В. Волоцкому заняться изучением рода Ф. М. Достоевского, и ученый приступил к работе97. В начале 1924 года антрополог обратился к А. А. Достоевскому, племяннику писателя, с письмом, по которому мы видим то, что именно интересовало исследователя:
О каждом из членов рода Достоевских желательно было бы знать точно или приблизительно время рождения (особенно важно отметить случаи близнечества), вступления в брак, если умер, то смерти, с указанием причины последней. Кроме того, сведения о каких-либо отличительных чертах характера, вкусах, способностях, одаренности (например литературной, музыкальной, научной), о странностях характера, а также и сведения об особенно тяжелых из перенесенных болезней, в особенности наследственного характера (алкоголизм, эпилепсия, слабоумие, душевные заболевания <по возможности с указанием формы заболевания и места лечения>, нервные подергивания, навязчивые идеи, менингит, рак, туберкулез, страсть к азартным играм и пр.). Из более мелких особенностей было бы интересно отметить, кто в роду был левша, отметив также и тех, кто был левшой только в детстве, а также тех, кто в одинаковой мере владеет обеими руками98.
И уже в том же 1924 году стало понятно, что генеалогическая работа о Достоевских представляет этот род в крайне невыгодном свете, где любой биографический факт получает психиатрическую квалификацию и, по сути, разоблачается, то есть диагностируется абсолютная ненормальность Достоевских. Автор, который в озарении научной беспристрастностью ничуть не чувствовал никакого морального стеснения, делясь своими открытиями и с информантами, писал А. А. Достоевскому: генеалогическая таблица с отмеченными в ней алкоголиками «предназначалась, разумеется, не для печати», а только для изучения членами Евгенического общества, а «отдельные дегенеративные признаки представляют для меня, в данном случае, интерес лишь постольку, поскольку подтверждают связь гениальности с вырождением»99.
Если А. А. Достоевский мирился с таким исследованием, то племянница писателя Е. М. Достоевская, получив родословную таблицу и увидев, что и ее отец там указан алкоголиком, прекратила с М. В. Волоцким всякое общение100. Внучатая племянница Ф. М. Достоевского Е. А. Иванова на закате дней писала С. В. Белову:
Захотелось написать Вам об одной очень неудачной книге – «Хронике рода Ф. М. Достоевского» М. В. Волоцкого. Я близко знала ее автора лет двадцать и могу сказать, что его кропотливый труд сильно испорчен его мировоззрением, а после всего, как всегда, цензурой, вычеркнувшей многие строки и этим исказившей весь смысл рассказа.
«Я – агностик», – любил говорить Михаил Васильевич. Он не признавал марксистского мировоззрения и отсюда во многих местах у него непонимание того положения, в котором оказалось после революции большинство интеллигентной молодежи.
Он верил в какие-то потусторонние грозные силы, в то, что над родом Достоевским тяготеет рок, неизбежно ведущий его к гибели, и поэтому старательно подчеркивал нашу слабость там, где наоборот надо было подчеркнуть силу, уменье всё выдержать – даже при попытках к самоубийству101.
Ликвидация Русского евгенического общества 1929 году лишила М. В. Волоцкого поддержки, когда книга уже была завершена подготовкой и имела в рукописи название «Род Достоевских в характерологическом отношении», причем характеристика личности самого Достоевского должна была составить следующий том исследования (остался неизданным); предварительное согласие написать предисловие к этой книге дал А. В. Луначарский. Осенью 1930 года М. В. Волоцкой сообщал последнему, что книга передана в Коммунистическую академию, и просил ускорить необходимые согласования, чтобы она могла выйти «в юбилейном 1931 году»102.
Однако А. В. Луначарский уклонился от написания предисловия к книге, а в однотомнике Ф. М. Достоевского, изданном при его ближайшем участии, сам касается взаимоотношений писателя со своими персонажами, причем обобщения наркома просвещения весьма категоричны:
Достоевский тесно связан со всеми своими героями. Его кровь течет в их жилах. Его сердце бьется во всех создаваемых им образах. Достоевский рождает свои образы в муках, с учащенно бьющимся сердцем и с тяжело прерывающимся дыханием. Он идет на преступление вместе со своими героями. Он живет с ними титанически кипучей жизнью. Он кается вместе с ними. Он с ними, в мыслях своих, потрясает небо и землю. И из‑за этой необходимости самому переживать страшно конкретно всё новые и новые авантюры он нас потрясает так, как никто.
Но помимо того, что Достоевский сам переживает все происшествия со своими героями, сам мучается их мучениями, он еще и смакует эти переживания. Он подмечает постоянно всякие мелочи, чтобы до галлюцинации конкретизировать свою воображаемую жизнь. Они ему нужны, эти мелочи, чтобы смаковать их, как подлинную внутреннюю действительность103.
А. В. Луначарский проговаривается о том, что он читал в рукописи М. В. Волоцкого, но опять же излагает это от первого лица, рассуждая в духе Ломброзо:
Вопрос о физиологических корнях болезни Достоевского и о самом начале ее до сих пор является спорным. Скажем мимоходом, что марксистской литературной критике придется еще весьма переведаться с современной психиатрией, которая на каждом шагу истолковывает так называемые болезненные явления в литературе как результат недугов наследственных или, во всяком случае, возникших без всякой связи с тем, что можно называть социальной биографией данного лица. Дело, конечно, совсем не в том, чтобы марксисты должны были отвергать самую болезнь или влияние психической болезни на произведения того или иного писателя, бывшего вместе с тем пациентом психиатра. Однако все эти результаты чисто биологических факторов оказываются вместе с тем необыкновенно логически вытекающими и из социологических предпосылок <…>
Так социальные причины толкали Достоевского к «священной болезни» и, найдя в предпосылках физиологического порядка подходящую почву (несомненно связанную с его талантливостью), породили одновременно и его миросозерцание, писательскую манеру и его болезнь.
Я вовсе не хочу сказать этим, что при других условиях Достоевский ни в коем случае не был бы болен эпилепсией. Я говорю о том разительном совпадении, которое заставляет мыслить Достоевского уже по самому строению своему подготовленным для той роли, которую он сам сыграл104.
Нашедшийся издатель, М. В. Сабашников, который стал редактором этой книги, тоже испытывал трудности, связанные с наступлением большевиков на частное книгоиздание. Все серьезней были и придирки цензуры к тексту: после сдачи в набор 8 мая 1933 года верстка была подписана в печать только 8 декабря, отпечатана же книга была на исходе года, однако опять задержана. Только в середине августа 1934 года сигнальные экземпляры были выданы из типографии105, и затем книга поступила в продажу, завершив собой мемуарную серию издательства Сабашниковых «Записи прошлого».
Не говоря о ценности этой книги для изучения истории рода Достоевских в генеалогическом отношении, мы вынуждены акцентировать внимание на том, какое влияние этот труд оказал на восприятие Достоевского и его произведений.
Безусловно, значительную роль сыграла глава «Опыт характерологического анализа рода», в которой на основании массы свидетельств и рассуждений делается вывод:
Характер самого Достоевского, а вместе с тем и характерные черты целого ряда его героев, носят ярко выраженные шизоидные черты. То же самое можно сказать и о многих представителях рода Достоевских106.
Без особого стеснения автор этой историко-биографической работы проникает в область сексуальности, описывая садомазохистские черты в героях Достоевского и поясняя:
Глубоко мазохическими реакциями переполнены все произведения Достоевского. Поэтому неправильно рассматривать этого писателя только как «русского маркиза де-Сада» (определение Тургенева). Достоевский, сам биполярный в рассматриваемом отношении, является и в своем творчестве не только садистом, но и мазохистом, и даже больше последним, чем первым107.
Однако намного более важным для восприятия книги стало предисловие, которое написано П. М. Зиновьевым. Хотя в книге не указано регалий этого автора, но современники прекрасно знали, что это не литературовед, не публицист, а крупнейший профессор-психиатр. По этой причине предисловие к книге подчеркнуто не идеологическое: нет здесь отсылок ни к В. И. Ленину, ни к А. В. Луначарскому и им подобным, однако есть ссылки на иных классиков – З. Фрейда, К. Ясперса, П. Б. Ганнушкина…
Зиновьев указывает, что изначально труд М. В. Волоцкого представлялся как исследование «в сравнительно узких генетико-характерологических рамках», но затем был расширен описанием социальных процессов. Так что именно семья писателя оказывается источником многих положений его художественных произведений:
Перед нами проходит много красочных бытовых картин, временами близко напоминающих сцены из «Преступления и наказания» и «Братьев Карамазовых»: убийство отца писателя, раздоры из‑за наследства его тетки, трагическая судьба убитой своим дворником сестры его, наконец, уже в послевоенное время, семейный распад во внучатом поколении другой сестры его, – все это на фоне двойной патологии: и биологической и социальной <…> Таким образом, печатаемые в этой книге материалы должны привлечь внимание и историков быта, и литературных исследователей, и психологов, и биологов-генетиков, и, наконец, психиатров-клиницистов, не говоря уже о читателях, интересующихся жизнью семьи великого писателя108.
Так светило отечественной психиатрии, книга которого «Душевные болезни в картинах и образах» (1927) была впоследствии признана гениальной «по своей проникновенности в глубины эпилептической психики» Ф. М. Достоевского109, получив возможность высказаться по этому вопросу уже конкретно, представляет нам свое заключение о семье классика русской литературы:
Свежего человека при знакомстве с этой семьей особенно поражает чрезвычайное богатство и разнообразие всевозможных патологических особенностей у ее представителей.
Сам Ф. М. Достоевский страдал судорожными припадками, сопровождавшимися потерей сознания. Проявлением какой болезни были эти припадки, до сих пор остается предметом спора <…> В роду писателя, кроме нескольких человек, страдавших той же болезнью, что он сам, было еще много лиц, представляющих явления, характерные для различных форм так называемых «психопатий», то есть патологических состояний, связанных с врожденными, но не прогрессирующими аномалиями психики. Большею частью это были эпилептоиды. Они представляют особенности характера и поведения, роднящие их с эпилептиками, однако самой болезнью эпилепсией, хотя бы в слабо выраженной форме, они не страдают. <…>
В семье Ивановых мы из эпилептоидного «круга» (как иногда выражаются) переходим в другую обширную область психопатологических явлений – в круг шизоидный. Не вдаваясь в тонкости психиатрической диагностики относительно заболеваний внучатных племянниц Федора Михайловича, отметим лишь, что у обеих сестер психические расстройства возникли «реактивно», то есть под влиянием психических потрясений, именно вследствие столкновения их конституционально неустойчивой психики с непривычными и потому ранившими их «мимозные» личности новыми условиями жизни. В какой степени патологические особенности семьи Ивановых унаследованы ими от Достоевских, и в какой степени от присоединившейся чуждой крови, решить, конечно, трудно, хотя и заманчиво было бы использовать в этом смысле способности Достоевского к изумительно глубокому проникновению в шизофреническую психику (типы Голядкина, Ставрогина и др.). Правильнее будет эту способность отнести просто к чрезвычайно широкому диапазону психики Достоевского, а также к наличию несомненных точек соприкосновения в психопатологии обеих (шизофренической и эпилептической) групп психических заболеваний. <…>