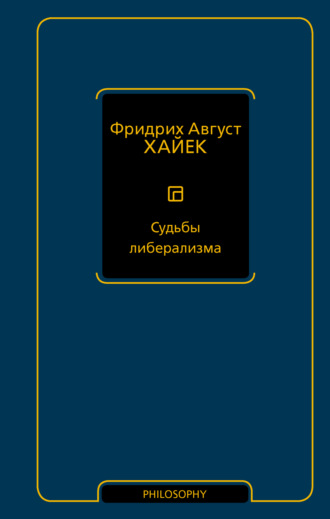
Полная версия
Судьбы либерализма
Так или иначе, в области юриспруденции и экономики эта система обладала рядом преимуществ: все университетские преподаватели имели более-менее длительный опыт практической работы, да и в целом между академическим миром и профессиональным выстраивались тесные связи. Что интересно, многие наиболее талантливые выпускники, даже те, кто в конце концов не смог аттестоваться на приват-доцента, долго не исключали для себя возможность академической карьеры и занимались научными исследованиями параллельно с основной работой. Все это послужило сохранению традиции приват-доцента как ученого, который занимается наукой в частном порядке, традиции, которая в девятнадцатом веке имела большое значение: в Австрии, быть может, не такое большое, как в Англии, но все же немаловажное. В нашей искомой области интересным примером из 1880-х годов является огромнейший вклад в математическую экономику приехавших из Вены Рудольфа Ауспитца и Рихарда Либена[45], из которых первый был сахарным промышленником, а второй – банкиром: «Исследования теории ценообразования». После Первой [мировой] войны еще оставались пара-тройка подобных деятелей, среди которых по крайней мере один – финансист Карл Шлезингер, написавший интересную книгу о деньгах[46] и придумавший термин «олигополия», – регулярно принимал участие в наших дискуссиях. Остальные – состоявшиеся бизнесмены и несколько крупных чиновников, ранее сделавших себе имя в теории экономики, – были слишком заняты в те беспокойные послевоенные годы и лишь изредка, можно сказать случайным образом, участвовали в текущей научной деятельности.
Но именно эти непрофессионалы в академической среде в то время, как мне кажется, всегда составляли большинство на главной площадке для обсуждения злободневных экономических вопросов в рамках скромного неформального клуба National-ökonomische Gesellschaf[47], который едва пережил войну и деятельность которого возобновилась после перерыва. И хотя это было единственное место, где совершенно разные люди, молодые и в возрасте, из науки и любители, встречались раз пять-шесть в год и обсуждали какой-то конкретный вопрос, те, кто помоложе, искал и другие, более систематические, возможности подискутировать уже за пределами университета. Довольно долго в период между двумя войнами наиболее важным местом для подобных дискуссий был так называемый Privatseminar – личный семинар Мизеса. Впрочем, он действительно всегда проходил за пределами университета: раз в две недели заинтересованные люди неофициально собирались в конторе Мизеса в Торговой палате, а затем неизменно перемещались в какое-нибудь кафе, где уже сидели до поздней ночи. Эти встречи начались примерно в 1922 году и, мне кажется, продолжались до отъезда Мизеса из Вены в 1934-м… Точнее мне сказать сложно, поскольку я не участвовал в них ни в начале, ни в конце[48]. Но примерно с 1924 по 1931 год, учитывая то обстоятельство, что Мизес устроил нас с Хаберлером[49] работать в то же здание, а Хаберлер, как помощник библиотекаря, продолжил начатое Мизесом дело – превращение библиотеки Торгово-промышленной палаты в лучшую экономическую библиотеку Вены, – здание Торговой палаты, как и проводимые там встречи, выступали в Вене не менее значимым центром дискуссий по экономическим вопросам, чем университет.
Этим дискуссиям в кругу Мизеса особый интерес придавали три или четыре особых обстоятельства. Мизес, как любой из нас, остро интересовался основными проблемами анализа предельной полезности, которым почти полностью были посвящены университетские дискуссии. Но вопросам согласования анализа предельной производительности с теорией вменения полезности (чем в начале 1920-х годов сильнее всего интересовался я сам), как и любым другим доработкам анализа предельной производительности, которые обстоятельно изложены, например, в статье Розенштейна-Родана о Grenznutzen (предельной полезности) в книге «Handwörterbuch der Staatswissenschaften»[50], не уделялось в университете того внимания, как во времена Визера или его преемника Ханса Майера. Мизес уже в 1912 году опубликовал свою «Теорию денег»[51], и я почти без преувеличения заявляю, что во время великой инфляции он единственный в Вене и даже, возможно, во всем немецкоязычном мире действительно понимал, что происходит. В своей книге он также представил и развил некоторые идеи Викселля[52], тем самым заложив основы теории кризисов и депрессий. Уже позже, после окончания войны, он опубликовал малоизвестную, но очень интересную книгу о смежных проблемах экономики, политики и социологии[53] и готовился выпустить свою великолепную работу о «Социализме»[54], которая, подняв проблему возможности рационального расчета в условиях отсутствия рынка, обозначила одну из главных тем для дискуссий[55]. Он был почти единственным… по крайней мере, среди людей своего поколения (еще оставалась парочка людей в возрасте, таких как Густав Кассель[56], о которых можно было сказать то же самое), кто до последнего был готов защищать принципы свободного рынка. Уже в то время страстный интерес к тому, что мы сейчас называем либертарианскими принципами, сочетался в нем с огромным интересом к методологической и философской базе экономической науки, что столь ярко характеризовало его более поздние работы. Последнее обстоятельство сделало семинар Мизеса чрезвычайно привлекательным для многих людей, которые не разделяли его политические взгляды и к тому же мало интересовались технической стороной экономики. Но именно регулярное присутствие таких людей, как Феликс Кауфман[57], который по большому счету был философом, или Альфред Шюц[58], который по большому счету был социологом, и кое-кого еще, о ком я сейчас расскажу, придало этим дискуссиям особый характер.
Прежде чем я расскажу подробнее о людях, которые участвовали в этих дискуссиях, хочу сказать несколько слов, откуда взялся тот бескомпромиссный либерализм, из-за которого Мизес в своем поколении казался абсолютно уникальным и почти полностью от всех отрезанным… по крайней мере, среди авторов, пишущих на немецком языке. Конечно, он не был, как может показаться некоторым молодым людям, всего лишь отголоском прошедшей эпохи, ведь между ним и последними классическими либералами лежит целое поколение. К тому же известно, что в начале учебы он находился ровно под таким же влиянием идеалов социальных реформ, как и любой другой молодой человек того времени. Карл Менгер, который еще преподавал, когда Мизес начал учиться (хотя я не верю, что Мизес посещал его лекции[59]), в целом действительно оставался классическим либералом. Но, хотя четвертая (из важнейших) книг Менгера о методах[60] действительно вносит свою лепту в то, что я ранее называл теорией стихийного роста, которая закладывает основы для политики свободы, догматичным или агрессивным либералом[61] он никогда не был.
Родившись в следующем поколении, и Бём-Баверк, и Визер, и Филиппович наверняка назвали бы себя либералами. И так случилось, что я знаю: у первых двух упомянутых мыслителей политические взгляды в основном (как и у многих континентальных либералов их поколения) пересекались с тем, что мы находим в эссе Т. Б. Маколея[62], которое, кстати, оба внимательно прочитали. Но в случае Визера и еще больше у Филипповича в их либеральной позиции уже содержалось немало аргументов в пользу контроля, особенно в том, что касается проблем рынка труда и социальной политики. Филиппович действительно был скорее фабианцем, нежели либералом в классическом смысле. Зато Бём-Баверк, быть может, как исключение, во всем оставался истинным либералом, а его последнее эссе «Контроль и экономическое право»[63] даже можно считать началом возрождения либерализма. Но Мизес отделился и как самостоятельный бескомпромиссный либерал сознательно стоял в стороне. Чтобы последовательно выстроить новую либеральную доктрину, ради такого путешествия в мир открытий ему пришлось обратиться к английской литературе девятнадцатого века, поскольку современная немецкая едва ли позволила бы ему увидеть, в чем на самом деле заключаются принципы либерализма. Однако в то время, о котором я говорю, он уже обнаружил в Эдвине Кеннане[64] и Теодоре Грегори[65] родственные души, и с того момента, с начала 1920-х годов, начинаются встречи между австрийскими и лондонскими либеральными группами.
Либерализм Мизеса не только вовлек его в непрерывную полемику со значимой венской группой марксистов, некоторые светила которой к тому же вместе с ним учились и которая через Отто Нейрата[66] весьма серьезно влияла на философов-неопозитивистов формировавшегося на тот момент Венского кружка. Он также вызывал неприязнь у большой группы либералов с умеренными взглядами, к которой тогда, пожалуй, относилось большинство интеллектуально активных молодых людей. Строго говоря, к этой группе принадлежали все, кто не был марксистом (и я в том числе), хотя некоторые медленно, шаг за шагом, склонялись к его [Мизеса] точке зрения. Подозреваю, что даже на его личном семинаре многие в душе долгое время оставались полусоциалистами, а еще больше отстранялись от дискуссий, поскольку весьма болезненно относились к тому, что тематически они то и дело возвращались к принципам либерализма… хотя систематические вопросы о том, что случится, если государство перестанет вмешиваться, как раз и подпитывали эти дискуссии.
Прежде чем чуть больше рассказать о той среде, в которой формировало взгляды мое поколение, я должен сказать пару слов о людях, находившихся между ним и поколением Шумпетера[67] с Мизесом, о трех ученых, чьи исследования заслуживают большей известности, но которые довольно рано ушли из жизни. Никто из них не занимал штатную должность на кафедре, тем не менее их вклад в науку значителен. В первую очередь это Рихард Штригль[68]. Мы все считали, что к нему неизбежно и вполне законно перейдет кафедра, и, останься он жив, лучшего продолжателя традиции сложно было бы найти. Его исследование теории заработной платы[69] является одним из выдающихся в этой области, а еще он внес большой вклад в теорию капитала. Несмотря на то что он очень долго был приват-доцентом и лишь потом получил звание профессора, по основному роду занятий он служил чиновником промышленной комиссии, которая руководила биржами труда и тому подобными организациями. Вторым был Эвальд Шамс[70]. Он один из всей нашей группы был учеником Шумпетера в Граце, и только он, похоже, был хорошо знаком с работами Вальраса и Парето[71]. Его эссе о методе и логическом характере экономической теории – настоящие жемчужинки, демонстрирующие, каким аккуратным и точным был этот страстный коллекционер бабочек, который в дополнение ко всему работал юрисконсультом в одном из отделов Федеральной канцелярии. Третьим в этой группе был блестящий Лео Шёнфельд (позже сменивший имя на Лео Илли[72]), столь занятой профессиональный бухгалтер, что мы почти его не видели, зато написавший последний крупный трактат на традиционно центральную для австрийской школы тему – теории субъективной ценности[73].
Когда я смотрю на людей моего поколения, то понимаю, как поражает разброс их занятий до того, как они стали профессорами в Соединенных Штатах. Феликс Кауфман, философ, теоретик права, логик и математик, был главой венского офиса крупной нефтяной компании. Альфред Шюц, социолог, работал секретарем ассоциации мелких банков, Фриц Махлуп[74] производил картон; историк Фридрих Энгель-Яноши делал деревянные полы; Дж. Х. Фюрт, позднее работавший в Совете Федеральной резервной системы, и Вальтер Фрёлих, позже работавший в Университете Маркетта, были практикующими юристами. При обычном ходе событий никто из них не вошел бы в штат университета, и лишь кое-кто в принципе имел опыт университетского преподавания до отъезда из Вены. Однако все они сыграли столь же важную роль в формировании совокупности общих взглядов, как и такие относительные профессионалы, как я, кому после четырех лет государственной службы посчастливилось стать директором Института экономических исследований[75], или Оскар Моргенштерн[76], который вскоре стал моим соратником, а в конечном итоге и преемником, или Хаберлер, профессию которого я уже упоминал, или Розенштейн-Родан[77], который работал ассистентом в университете и вместе с Моргенштерном издавал научный журнал «Zeilschrift für Nationalökonomie». Несложно догадаться, что в кругу таких людей дискуссия, даже если она велась о технической стороне экономики, редко сводилась к чистой науке. Влияние Кауфмана как связующего звена с правоведческими позитивистами «кружка» Кельзена и логическим позитивизмом Шлика и его группы оказалось особенно важным, ведь именно он обучил нас азам современной философии науки и символической логики. Через Шюца мы все познакомились с феноменологией Макса Вебера и Гуссерля (которую я так и не понял, несмотря на уникальный дар Кауфмана, который помогал Шюцу объяснять).
Созданию столь тесно сплоченной группы не в последнюю очередь поспособствовало то, что в тот ранний послевоенный период людям пришлось быть довольно самодостаточными и во многом полагаться на собственные ресурсы. Хотя виной тому, что на пару лет доступ к современной зарубежной литературе оказался затруднен, а путешествия – практически невозможны, были не только специфические обстоятельства того времени. Сегодня, наверное, трудно поверить, что сорок-пятьдесят лет назад ученые разных стран очень редко общались лично. Обмениваться идеями и мыслями было крайне сложно, хотя время от времени исследователи, конечно, могли друг другу писать. Мне вообще кажется, что до Первой [мировой] войны мало кто из ведущих экономистов разных стран встречался лицом к лицу. И в годы, непосредственно предшествовавшие войне, предпринимались первые целенаправленные попытки это исправить. Одной из них был первый обмен приглашенными профессорами между американскими и континентальными университетами. И здесь надо отметить тот факт, что одним из первых, если не самым первым, австрийским профессором по обмену стал Шумпетер, приехавший в Гарвард в 1913 году. Мне кажется, во многом благодаря этому в ранний послевоенный период исследования американских теоретиков Джона Бейтса Кларка[78], Томаса Никсона Карвера[79], Ирвинга Фишера[80], Фрэнка Феттера[81] и Герберта Джозефа Давенпорта[82] были больше известны нам в Вене, чем любым другим иностранным экономистам, за исключением, пожалуй, шведов. Важным событием, оставившим след, стал предвоенный визит Викселля в Вену; ну и, конечно, в первые послевоенные годы самым известным из ныне живущих экономистов, который читал лекции и публиковался в газетах всех европейских стран, был Густав Кассель… столь же переоцененный тогда, насколько его недооценивают сейчас. И хотя мы приветствовали тот факт, что его упрощенная версия Вальраса возродила интерес к экономической теории в Германии, нам самим он мало что мог предложить.
Но давайте вернемся на минутку к предвоенной ситуации. Насколько исключительной была личная встреча экономистов из разных стран, а тем более (в те времена) с разных континентов, иллюстрирует живое воспоминание Визера об одном таком исключении: о встрече, которую незадолго до войны организовал в Швейцарии Фонд Карнеги за Международный Мир[83] для обсуждения серии планируемых публикаций. И здесь мне следует поведать об одном эпизоде, о случайной встрече Альфреда Маршалла и некоторых представителей австрийской школы, о чем г-жа Маршалл рассказывает в своих воспоминаниях[84]. Я расскажу все так, как услышал от Визера… даже если некоторые из вас уже ранее слышали эту историю из моих уст. Маршаллы и Визеры, как я понимаю, какое-то время проводили летние каникулы в одной деревеньке в долине Доломитовых Альп, тогда входивших в состав Австрии. И хотя они друг друга узнали, но поскольку оба были довольно застенчивыми и не любили болтать, то завязать знакомство даже не пытались. Однажды своего шурина Визера приехал навестить Бём-Баверк, по-моему, в компании какого-то третьего представителя австрийской школы. Он, будучи восторженным и блестящим оратором (который несколько обижался, так как Визер не хотел обсуждать с ним экономику), воспользовался случаем и представился Маршаллу, с которым, как я полагаю, ранее переписывался. Потом миссис Маршалл устроила чаепитие, о котором вспоминает в своей книге и фотография которого реально существует. Судя по всему, все прошло очень мило и в дружеской атмосфере. Но уже в следующем году и Маршаллы, и Визеры – независимо друг от друга – выбрали для отпуска другое место, чтобы спокойно работать и не встречаться с другими экономистами.
Заговорив о великих рассказчиках среди экономистов, я подумал, что у вас может возникнуть вопрос, почему я до сих пор не рассказал подробнее о Шумпетере – безусловно, самом блестящем ораторе среди экономистов, которые мне встречались. Исключением можно посчитать лишь Кейнса, с которым у Шумпетера в принципе было много общего: в частности, обоих терзал зуд озорства, они любили «épater le bourgeois», а еще делали вид, что им все известно, и имели склонность поблефовать, выходя далеко за рамки своих глубоких знаний[85]. Если говорить о Шумпетере, то в течение нескольких послевоенных лет, что он жил в Вене, он почти не общался (и это истинный факт) с экономистами и редко виделся даже со своими сверстниками, коллегами по семинару Бём-Баверка. Конечно, две его довоенные книги и эссе о деньгах[86] читали мы все. Но лично мы с ним почти не встречались, а некоторые его высказывания по текущим вопросам обеспечили ему среди экономистов репутацию несносного ребенка – enfant terrible. Его в то время настигла беда: в течение короткого периода пребывания на посту министра финансов в разгар инфляции[87] ему пришлось поставить свое имя под декретом, подтверждающим, что долги, понесенные в довоенных кронах, могут быть законно погашены банком равным количеством послевоенных крон. «Крона есть крона» – гласила фраза. В результате, мне кажется, и по сей день обычный австриец моего поколения покрывается красными пятнами при упоминании имени Шумпетера. Далее он стал президентом одного из небольших банков в Вене, который процветал во времена инфляции, но довольно быстро разорился, после чего Шумпетер вернулся к академической жизни в Бонне, в Германии. Должен добавить, что, хотя люди более старшего возраста, как и его современники, им восхищались, но не очень любили, все посвященные в детали его финансовой деятельности исключительно высоко отзывались о том, как он вел себя после краха банка, которым руководил, с теми, кто пострадал.
В то время мы встречались лишь раз, но поскольку это было связано с послевоенным возобновлением и расширением международных контактов, я об этом расскажу. Чуть более сорока лет назад я решил, что такому амбициозному экономисту, как я, просто необходимо съездить в США, каким-то образом сумел наскрести на поездку средства и почти получить приглашение на работу – условием было, что я доберусь до места самостоятельно. Затем Визер попросил Шумпетера написать для меня рекомендательные письма его друзьям в Штатах. Так я и пришел в его великолепный кабинет – знаете, кабинеты президентов банков чем дальше располагаются к Востоку, выглядят все более величественными, а кабинету Шумпетера место было скорее в Бухаресте, а вовсе не в Вене, – и он снабдил меня кучей писем, написанных в любезнейшем тоне, ко всем крупным американским экономистам; их размеры были столь значительны – настоящие посольские документы, – что мне пришлось заказывать специальную папку, чтобы не помять их в дороге. Но они подействовали как заклинание, своеобразный «сезам, откройся». Я был, вероятно, первым экономистом из Центральной Европы, посетившим Штаты после войны, но меня принимали такие известные экономисты, как Джон Бейтс Кларк, Селигмен[88], Сигер[89], Митчелл[90] и Г. П. Уиллис[91] в Нью-Йорке, Т. Карвер в Гарварде (там я пробыл недолго и поэтому не смог повстречаться с Тауссигом[92]), Ирвинг Фишер в Йельском университете и Джейкоб Холландер в Университете Джонса Хопкинса[93]. И они обращались со мной намного лучше, чем я мог предположить по своим заслугам. Именно благодаря рекомендациям Шумпетера мне разрешили завершить последний семинар Дж. Б. Кларка своим докладом: причем не по теоретической теме, а по экономической ситуации в Центральной Европе. И последнее, но не менее важное: когда мои надежды на предложение о работе не оправдались, а скромные средства были израсходованы, мне не пришлось мыть посуду в ресторане на Шестой авеню, куда я уже устроился, поскольку Джереми У. Дженкс из Нью-Йоркского университета (точнее, из института Александра Гамильтона) нашел мне должность ассистента, что позволило посвятить себя более интеллектуальным материям. Год спустя учредили первые стипендии Рокфеллера – первые, по крайней мере, для бывших вражеских союзников, – и в страну [Соединенные Штаты] хлынул постоянно растущий поток европейских исследователей. В результате личные контакты между учеными разных стран стали совершенно обычным делом.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Schumpeter J. A. Capitalism, Socialism, and Democracy, New York: Harper & Brothers, 1942 (третье издание вышло в 1950 г.), p. 61. Шумпетер Й. А. (На русском языке можно ознакомиться с изданием: Шумпетер, Й. А. Капитализм, Социализм и Демократия. М.: Экономика, 1995. 540 с. – Прим. пер.)
2
Heilbronner R. Reflections After Communism // New Yorker. 1990. September 10. P. 91–100, esp. р. 98. Расширенный вариант статьи: Analysis and Vision in Modern Economic Thought // Journal of Economic Literature. Vol. 28. 1990. September. P. 1097–1114.
3
Hayek F. A. The Road to Serfdom. London: Routledge & Kegan Paul; Chicago: University of Chicago Press, 1944; reprinted, 1976. Р. ix.
4
Хикс, ссылаясь на первую (1931 г.) книгу Хайека на английском, отмечает: «Работа “Цены и производство” вышла на английском языке, но про английскую экономику там не было ни слова». См.: Сэр Джон Хикс, глава «The Hayek Story» («История Хайека») в работе «Critical Essays in Monetary Theory» (Oxford: Clarendon Press, 1967, p. 204).
5
Видимо, автор имеет в виду работу «Foundations of Economic Analysis» 1947 года. (В русском переводе: Самуэльсон П. Э. Основания экономического анализа / пер. с англ. под ред. П. А. Ватника. СПб.: Экономическая школа, 2002. 604 с. – Прим. пер.)
6
Материалы этой конференции были опубликованы в сборнике «Основы современной австрийской экономики» под редакцией Эдвина Дж. Долана (The Foundations of Modern Austrian Economies / ed. by Dolan, E. G., Kansas City: Sheed & Ward, 1976). Два года спустя вышел следующий том: «Новые направления в австрийской экономике» (New Directions in Austrian Economics / ed. by Spadaro, L. M. Kansas City: Sheed Andrews & McMeel, 1978).
7
См., например: White L. H. Free Banking in Britain: Theory, Experience, and Debate, 1800–1845. Cambridge: Cambridge University Press, 1984; Selgin, G. A. The Theory of Free Banking: Money Supply Under Competitive Note Issue. Totowa N. J. Rowman & Littlefield, 1988; Ekelund R. B., Jr., Saurman D. S. Advertising and the Market Process. San Francisco: Pacific Institute for Public Policy Research, 1988; Lavoie D. Rivalry and Central Planning: The Socialist Calculation Debate Reconsidered. Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
8
См., например, отрывки из словаря «New Palgrave», опубликованные под названием «Allocation, Information and Markets» (London: Macmillan, 1989). Любопытно, что в макроэкономических публикациях о «провалах координации», начало которым положили теоретики Питер Даймонд и Мартин Вейцман, не присутствуют ссылки на Хайека, хотя он явно поднимает эту проблему в своих работах (см.: O’Driscoll G. Economics as a Coordination Problem: The Contributions of Friedrich A. Hayek. Kansas City: Sheed Andrews & Mcmeel, 1977. Обзор такой литературы представлен в: Cooper R., Joh A. Coordinating Coordination Failures in Keynesian Models // Quarterly Journal of Economics. Vol. 103. August 1989. P. 441–463).
9
Из выступления Хайека на конференции, организованной Конгрессом за свободу культуры, материалы которой опубликованы под названием «Science and Freedom» (London: Martin Secker & Warburg, 1955. P. 53).
10
Трактовка экономического поведения как «рутинного» или механического, которое развивали Ричард Нельсон и Сидней Уинтер в работе «Evolutionary Theory of Economic Change» (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982; [Эволюционная теория экономических изменений. М.: Дело, 2002. – Прим. пер.]), имеет некоторое отношение к мысли Хайека о следовании правилам. Также верно и то, что концепция равновесия, которую развивает современная теория игр, частично отражает вышеупомянутую идею о «координации планов» в смысле выявления комплексов взаимно согласованных «стратегий», а также в том смысле, что теория повторяющихся игр дает важное понимание эволюции поведения, предполагающего сотрудничество. Однако теория игр не объясняет, как происходит выбор совместных действий; она показывает только, что стратегии, в основе которых лежит устойчивое сотрудничество, могут выступать наилучшими вариантами поведения для всех участвующих сторон. (См. классическую работу: Axelrod R. The Evolution of Cooperation. New York: Basic Books, 1984. Работа в русле австрийской традиции на эту же тему: Benson B. L. The Enterprise of Law: Justice Without the State. San Francisco: Pacific Institute for Public Policy Research, 1990.)

