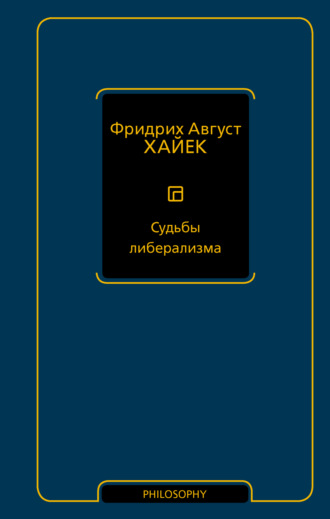
Полная версия
Судьбы либерализма
Особый интерес представляет истинный характер отношений Хайека с Мизесом. Последний, вне всякого сомнения, оказал на Хайека большее влияние, чем какой-либо другой экономист. Даже больше, чем Визер, у которого Хайек научился профессии: ведь тот умер в 1927 году, когда Хайек был все еще достаточно молодым. Хайек сам проясняет этот момент в четвертой главе этой книги. Кроме того, Мизес явно считал Хайека самым ярким представителем своего поколения: Маргит фон Мизес, вспоминая о семинаре мужа в Нью-Йорке, пишет: «Каждый раз при встрече с новым студентом Лу надеялся, что один из них сможет стать вторым Хайеком»[16]. Хайек, как он сам нам напоминает, с самого начала всегда недотягивал до только последователя, просто ученика: «Хотя я обязан [Мизесу] за судьбоносный стимул в ответственный момент своего интеллектуального развития и неизменное вдохновение на протяжении десяти лет, пожалуй, я больше всего выиграл от его преподавания, поскольку изначально не учился у него в университете. Я не был невинным юношей, слепо верившим его словам, а пришел уже как дипломированный экономист, прошедший подготовку в параллельной ветви австрийской экономической школы [ветви Визера], из которой он постепенно перетянул меня, хотя и не полностью, на свою сторону»[17].
Есть две часто обсуждаемые области, в которых у Хайека с Мизесом были разногласия: споры о социалистических расчетах и «априорная» методология Мизеса. Вопрос о социализме заключается в том, действительно ли социалистическая экономика «невозможна», как заявил Мизес в 1920 году, или просто менее эффективна, или ее труднее реализовать. Теперь Хайек утверждает, что «основной тезис Мизеса заключался не в том, что социализм невозможен (как это иногда ошибочно понимают), а в том, что он не может обеспечить эффективное использование ресурсов». Такая интерпретация сама по себе вызывает вопросы. Получается, что Хайек выступает против стандартного взгляда на экономический расчет, который можно найти, например, в работе «Капитализм, социализм и демократия» Йозефа Шумпетера или в «Социалистической экономике» Абрама Бергсона[18]. Согласно этой точке зрения, первоначальное утверждение Мизеса о невозможности экономических расчетов при социализме было опровергнуто Оскаром Ланге, Аббой Лернером и Фредом Тейлором, а более поздние версии Хайека и Роббинса сводились к допущению: социалистическая экономика теоретически возможна, но сложно реализуема на практике, поскольку знания децентрализованы, а стимулы слабы. Ответ Хайека в упомянутом тексте о том, что истинная позиция Мизеса была многими понята неверно, получает поддержку со стороны главного историка-ревизиониста, занимающегося дискуссией о расчете, – Дона Лавуа. По его утверждению, «основные доводы, выдвинутые Хайеком и Роббинсом, являются не отходом от позиции Мизеса, а скорее разъяснением, перенаправляя решение главной задачи на более поздние версии централизованного планирования. Хотя комментарии Хайека и Роббинса о трудностях расчета (в более поздних версиях рассматриваемой теории) были причиной ошибочной интерпретации их собственных аргументов, их основной вклад на самом деле ни в коей мере не противоречил задаче Мизеса»[19]. Аналогичным образом и Израэл Кирцнер настаивает, что позиции Мизеса и Хайека следует рассматривать в неразрывной связи как раннюю попытку разработать австрийский взгляд на рыночный процесс, основанный на «предпринимательстве и открытии»[20].
Во-вторых, Мизес настаивает на том, что экономическая теория (в отличие от истории) является чисто дедуктивным, полностью априорным учением, которое не требует эмпирического подтверждения своих положений. Хайеку такое мнение было не по душе, и он порой утверждал, что на самом деле Мизес придерживается менее радикальной позиции, а порой просто дистанцировался от своего наставника. В литературе ведутся споры о том, можно ли считать, что фундаментальной статьей 1937 года «Экономика и знание» Хайек окончательно порывает с Мизесом в пользу попперовского принципа «фальсификационизма», согласно которому эмпирические данные могут быть использованы для фальсификации теории (а не для «проверки» его индукцией)[21]. В этой статье утверждается, что, хотя экономический анализ одиночных действий может быть строго априорным, изучение операций между несколькими людьми требует предположений о процессе обучения и передачи знаний, что само по себе эмпирично. Хайек и сам сообщает, что с 1937 года «[выступая против “крайнего априоризма” Мизеса] автор настоящей статьи, на тот момент по большому счету не подозревая об этом, всего лишь развивает довольно непопулярную часть менгеровской традиции. Он уверял, что чистая логика выбора, посредством которой австрийская теория интерпретировала индивидуальное действие, несомненно, была исключительно дедуктивной, но как только в рамках рынка стало нужно объяснять межличностные действия, решающими оказались процессы, посредством которых информация передавалась между индивидами и которые по своей природе были чисто эмпирическими (Мизес никогда открыто не отвергал такую критику, но реконструировать свою к тому моменту полностью сложившуюся систему был не готов)». Верно и то, что Хайек впервые прочитал Поппера в начале 1930-х годов и по крайней мере к 1941 году в его работах стали проявляться откровенные (правда, еле уловимые) признаки отхода от точки зрения Мизеса[22]. Влияние Поппера начинает проявляться там, где интересы Хайека уходят от теории стоимости к теории познания. Предполагают, что критика централизованного планирования Хайеком отчасти стоит на попперовском представлении о непредсказуемых последствиях любой теории: планирование терпит неудачу, поскольку мы не можем заранее знать все потенциальные последствия имеющихся у нас знаний[23].
Также следует отметить, что Мизес не разделяет более поздние идеи Хайека о важности эволюции и спонтанного порядка, хотя отчасти нити этих рассуждений прослеживаются у Менгера. Намек на подобное различие кроется в заявлении Хайека о том, что «Мизес в гораздо большей степени был ребенком рационалистической традиции Просвещения и скорее континентального, а не английского, либерализма…, чем я сам»[24]. Это отсылка к «двум типам либерализма», которые часто упоминает Хайек: континентальной рационалистической, или утилитарной, традиции, выделяющей аргументацию и объяснение, а также способность человека формировать свое окружение, и английской традиции общего права, которая подчеркивает пределы аргументации и стихийность эволюции. В 1978 году, через пять лет после смерти Мизеса, Хайек пишет следующее:
Одно из моих разногласий связано с заявлением Мизеса об основах философии, которое меня всегда беспокоило. Но только сейчас я в состоянии сформулировать, почему оно меня смущало. Мизес утверждает в этом отрывке, что либерализм «рассматривает любое социальное взаимодействие как проявление рационально признанной полезности, где вся власть основана на общественном мнении и не может предпринимать никаких действий, препятствующих свободному решению думающих людей». На данный момент я считаю ошибочной лишь первую часть этого утверждения. Крайний рационализм этого отрывка, от которого, будучи ребенком своего времени, Мизес не мог никуда деться и от которого, возможно, так полностью и не отказался, теперь мне кажется ошибочным по сути. Конечно, к распространению рыночной экономики привело вовсе не рациональное осмысление ее общих преимуществ. Мне кажется, суть учения Мизеса состоит в демонстрации следующего: не мы приняли свободу, поскольку поняли, какую пользу она может принести; не мы создали (без сомнения, у нас не хватило бы на это интеллекта) тот порядок, который сейчас научились лишь отчасти понимать… Человек выбрал его только в том смысле, что он научился предпочитать нечто уже функционирующее, а благодаря большему пониманию ситуации смог лишь улучшить условия этого функционирования.
Хайек опасается, что «крайний рационализм» континентального либерализма приводит к тому, что он называет «ошибкой конструктивизма»: мысли, что социальный институт не может быть полезным, если только он не создан человеком преднамеренно. Он считает, что именно это лежит в основе социалистического понимания: поскольку рынки не создаются, сознательно организованная искусственная система, навязанная, если так можно выразиться, сверху, должна быть в состоянии затмить любую децентрализованную и естественную систему[25].
В результате современная австрийская школа может расколоться на противоположные лагери: «строгих мизесианцев», которые являются «социальными рационалистами» и практикуют «радикальный априоризм», и «хайекианцев», которые подчеркивают спонтанный порядок и пределы рациональности. (Существует и третья группа, «радикальные субъективисты», они придерживаются взглядов Дж. Л. Ш. Шэкла и Людвига Лахманна и отрицают возможность любого порядка в экономических делах.) Эти разногласия еще не разрешены, поскольку природа отношений Мизеса – Хайека не до конца понятна. И следует добавить, что анализ последствий, как именно все это повлияет на дальнейшую жизнеспособность школы, еще предстоит выяснить.
1871 год – год, когда Менгер опубликовал свой труд «Основания» и зародилась австрийская школа, – важен и в другом отношении. В этот год Бисмарк создал Германский рейх. Хайека сильно интересовала судьба Германии после Второй мировой войны: по его мнению, перспективы возрождения либерализма на международной арене в решающей степени зависели от восстановления немецкого интеллектуального сообщества. Эту озабоченность демонстрируют статьи, представленные во второй части данной книги.
Хайек был убежден в необходимости создания международной научной организации либералов и с этой целью в 1947 году организовал встречу, которая вылилась в общество Мон-Пелерин. Его озабоченность отчасти объяснялась той ролью, которую экономисты сыграли в войне. Впервые профессиональные экономисты массово пополнили ряды правительственных учреждений по планированию: для контроля над ценами, как это было в случае с Управлением по регулированию цен США, возглавляемым Леоном Хендерсоном, а затем Джоном Кеннетом Гэлбрейтом; или для изучения военных закупок (так называемые «операционные исследования») совместно с группой статистических исследований Колумбийского университета; или для предоставления различных консультационных услуг. Это было абсолютно беспрецедентно и весьма тревожно для либералов. (Хайека, хотя он и был натурализованным британцем, исключили из подобной борьбы из-за факта австрийского происхождения.)
Интеллектуальный климат этого периода попадает в плен реакции экономистов на решение министра Людвига Эрхарда отпустить цены и заработную плату в заново созданной Западной Германии. В 1948 году Гэлбрейт заверил своих коллег, что «речь никогда не шла о возможности добиться восстановления Германии путем полной отмены [контроля и правил]». Два года спустя Уолтер Хеллер, позже занявший пост председателя Совета экономических консультантов при президенте Джоне Ф. Кеннеди, добавил, что «положительное использование финансовых и денежно-кредитных мер [которые я поддерживаю], безусловно, не совпадает с традиционной политикой свободного рынка, поддерживаемой нынешней администрацией Западногерманской Федеративной Республики»[26]. Хайек вспоминает личное свидетельство Эрхарда: «Он [Эрхард] сам, ликуя, рассказал мне, как в то самое воскресенье, когда был издан известный указ об отпуске всех цен, сопровождавший внесение законопроекта о вводе новой немецкой марки, ему позвонил генерал Клей[27], высший американский военачальник, и сказал: «Профессор Эрхард, мои советники говорят, что вы совершаете большую ошибку», после чего, по его собственным словам, Эрхард ответил: «Мои говорят то же самое»[28].
В противовес всему этому на первую встречу в Мон-Пелерине Хайек собрал прекрасную плеяду либералов, ранее в основном проводивших изыскания самостоятельно. В нее вошли всемирно известные ученые в области экономики, истории, политологии и философии (четверо из них с тех пор получили Нобелевские премии); двое участников встречи, Вальтер Ойкен и Вильгельм Рёпке, были одними из главных виновников удивительного восстановления экономики Федеративной Республики Германия в послевоенные годы. Хайек хотел поспособствовать процветанию либерального образования в надежде, что за ним последует и общественное мнение. «Ведь настоящая проблема, – отмечает он, – в том, что многие люди иллюзорно полагают: свобода может быть навязана сверху, и не пытаются создавать предпосылки, при которых людям предоставляется возможность самим определять свою судьбу».
Усилия Хайека повлекли глубокий и долгосрочный эффект: продолжает существовать Общество, и при этом, особенно после австрийского возрождения, создаются новые организации с аналогичными целями. К ним относятся Институт экономических проблем в Лондоне, Институт гуманитарных исследований Университета Джорджа Мейсона в Фэрфаксе, Вирджиния; Институт Катона в Вашингтоне, округ Колумбия; и Институт Людвига фон Мизеса в Обернском университете в Алабаме. Все эти исследовательские группы внесли решающий вклад в возрождение либеральной мысли в США и Европе.
В качестве примера подобного либерального возрождения не придется далеко заглядывать: вспомним 1989 год, когда Восточная Германия экономически включилась в жизнь Западной. Это своеобразное «возрождение свободы» на востоке Германии, спустя сорок лет после того, как усилия Хайека помогли создать то же самое в западной ее части. И хотя было бы излишне самонадеянно утверждать, что Хайек был провидцем, в главах 8, 10 и 11 этого издания можно обнаружить многочисленные ценные наблюдения и догадки о природе немецкой нации и людях, которые имеют отношение к происходящим там сегодня событиям.
Хайек одобрительно процитировал известный отрывок из «Общей теории» Кейнса о влиянии абстрактных идей на события реального мира. «Идеи экономистов и политических философов, неважно, правы они или нет, имеют больше влияния, чем принято считать. На самом деле, миром правят именно они»[29]. Сочинения Хайека, представленные в этой книге, во многом подтверждают эту истину.
Питер Г. Кляйн
Часть I. Австрийская школа экономики
Пролог. Экономика 1920-х: взгляд из Вены[30]
Я понимаю, что кураторы этих лекций предпочли бы, чтобы я погрузился в воспоминания, но до сих пор я сознательно выбирал темы, которые исключали бы подобную возможность. Это весьма опасная привычка… когда начинаешь понимать, что большинству слушателей твои воспоминания незнакомы и неинтересны, трудно понять, где пора остановиться. Когда-то и я был не самым терпеливым слушателем, а теперь даже сожалею, что, когда сорок лет назад впервые посетил эту страну и один старый маклер, обнаружив мой интерес к экономическим кризисам, настоятельно вещал мне о личном опыте во время кризиса 1873 года, мне не хватило ума задать ему правильные вопросы. Наоборот, я скорее счел его занудой. Не знаю, почему от вас следует ожидать большего терпения, тем более что я уже понял: как только открывается шлюз памяти, туда сразу же проскальзывают воспоминания абсолютно разного рода, причем они скорее высвечивают тщеславие говорящего, чем вносят ясность в какой-либо более интересный вопрос.
С другой стороны, изучая историю экономики, я довольно часто, хотя тщетно, стремился восстановить ту интеллектуальную атмосферу, в которой проходили дискуссии прошлого. И мне бы очень хотелось, чтобы их участники оставили хоть какие-то свидетельства о том, в каких отношениях они находились со своими современниками, особенно в том возрасте, когда их воспоминаниям еще можно было доверять. Теперь, когда мне самому предстоит эта задача, я прекрасно понимаю, почему большинство людей неохотно на такое соглашались. Боюсь, почти неизбежно, что в подобной ситуации человек в какой-то мере сосредотачивается на самом себе, и, если я слишком много стану говорить о собственном опыте, пожалуйста, помните, что тот факт, что он у меня есть, является моим единственным, хотя, быть может, и недостаточным оправданием рассуждать на эту тему в принципе. Не сомневаюсь, что, если когда-нибудь решу опубликовать эти лекции, все, что я написал сейчас, придется значительно подсократить. Но в данный момент я выступаю устно, по большому счету это некий разговор со старыми друзьями, поэтому позволю себе больше свободы.
В Венском университете, куда я, неотесанный юнец, только что после войны, поступил в конце 1918 года, и особенно на экономическом отделении юридического факультета, жизнь била ключом. Хотя материальные условия были очень тяжелыми, а политическая ситуация крайне неопределенной, поначалу это мало влияло на интеллектуальный уровень, сохранившийся с довоенных дней. Я не хочу сейчас анализировать, как вышло, что Венский университет, до 1860-х годов не отличавшийся особой известностью, впоследствии на 60–70 лет стал одним из самых творческих в мире с точки зрения идей и создал уникальные научные школы с международным именем в самых разных областях: философии и психологии, праве и экономике, антропологии и лингвистике. И это лишь те из них, что наиболее близки нашим интересам. Мне самому неясно, как это можно объяснить… и можно ли вообще найти полноценное объяснение такому феномену. Я лишь отмечу, что восхождение университета на вершину точно совпадает с победой политического либерализма в нашей части планеты, а нахождение на этой вершине недолго пережило господство либеральной мысли.
Вероятно, сразу после Первой [мировой] войны интеллектуальное брожение среди молодежи было еще заметнее, чем раньше, хотя некоторые большие исследователи довоенного периода уже ушли и в профессорско-преподавательском составе существовали, по крайней мере поначалу, серьезные пробелы. Отчасти это могло быть связано с тем – и это ярко проявилось после Второй мировой войны, – что студенты были более зрелого возраста, а отчасти с тем, что опыт войны и ее последствия выявили острый интерес к социальным и политическим проблемам. Некоторые студенты, из тех, что постарше, стремились как можно скорее получить профессию, а вот более молодым студентам потраченные на военную службу годы придали необычную решимость использовать те возможности, которые мы так долго и с нетерпением ждали, по полной.
Свое влияние оказали, конечно, и обстоятельства того времени: многие вопросы и проблемы, активно обсуждавшиеся в Вене, в западном мире вызвали интерес несколько позже, отчего в ходе моих странствий по миру у меня периодически возникало ощущение, что «я здесь уже был»[31]. Темы для дискуссий во многом определялись близостью коммунистической революции (в Будапеште, который был всего в паре часов езды, несколько месяцев действовало коммунистическое правительство, откуда потом в Вену бежали интеллектуальные лидеры марксизма), внезапно возникшим уважением к марксизму со стороны научного сообщества, стремительным распространением того, что впоследствии мы стали называть «государством всеобщего благосостояния», новой на тот момент концепцией «плановой экономики» и, самое главное, опытом инфляции, которой не было на памяти живущих европейцев. При этом некоторые из чисто интеллектуальных течений, которые впоследствии захлестнули западный мир, на тот момент в Вене были уже на пике. Упомяну здесь лишь психоанализ и зарождение традиции логического позитивизма, который доминировал во всех философских дискуссиях.
Мне следует, однако, больше сосредоточиться на развитии экономической теории. Итак, возможно, самым удивительным обстоятельством в тот момент оказалось то, что при наличии огромного количества насущных вопросов практического характера интересы исследователей Венского университета занимала в основном экономическая теория в чистом виде. Еще отчетливо ощущались последствия «маржиналистской революции»[32], которая произошла ненамного раньше того времени, о котором я рассказываю. Из величайших мыслителей, которые были тому причиной, активно работал еще только Визер[33]. Два наиболее влиятельных учителя предвоенного периода, Бём-Баверк[34] и Филиппович[35], первый из которых специализировался в теории, а второй в основном в вопросах политики, умерли довольно рано, в самом начале войны. Конечно, оставался Карл Менгер[36], но он был очень стар, уже как пятнадцать лет на пенсии, и весьма редко появлялся на публике. А мы, молодые люди, считали его скорее мифом, чем реальностью, тем более что его книга[37] превратилась в раритет, ее было практически невозможно достать, а ее экземпляры пропали даже из библиотек. Лишь немногие из тех, кто был еще жив, непосредственно с ним общались. У старшекурсников еще оставались живы воспоминания о семинаре Бём-Баверка, на котором в довоенное время, судя по всему, собирались все, кого интересовала экономика. Зато наши сокурсницы женского пола, напротив, были под впечатлением от Макса Вебера[38], который весьма короткий период преподавал в Вене, как раз перед тем, как война закончилась и мы, мужчины, вернулись домой.
Визер, последняя ниточка, связывающая с великим прошлым, большинству из нас поначалу казался важной персоной, холодной и неприступной. Он только что вернулся в университет, поработав министром торговли в одном из последних имперских правительств, и читал лекции, опираясь на свою «Теорию общественного хозяйства»[39], опубликованную незадолго до начала войны, – единственный системный трактат по экономической теории, созданный австрийской школой[40], который он, похоже, знал более или менее наизусть. Сие зрелище, предназначенное в основном для студентов-юристов, которые в первый и последний раз встречались с обзором экономической теории, было не очень задорное, но, учитывая формат лекций, оставляло впечатление и эстетически удовлетворяло слушателей. Зато те, кто, набравшись смелости, подходил после лекции к столь величественной личности, мог обнаружить радушный интерес и поддержку, а еще получить приглашение на его небольшой семинар или даже на домашний обед.
Сначала в университете работали еще два штатных преподавателя экономики: историк экономики, тяготеющий к марксизму[41], и новый профессор, молодой и философски настроенный Отмар Шпанн. Поначалу он вызвал среди студентов видимый прилив энтузиазма, так как много мог рассказать полезного о логике отношений в паре «цели и средства», но вскоре его увело в сторону философии, а эта сфера, как казалось большинству из нас, имела мало общего с экономикой[42]. Зато его небольшой учебник по истории экономики[43], который, по всеобщему мнению, был написан по образцу лекций Менгера, стал для большинства из нас первым введением в изучаемую область.
Хотя новые степени в области политических и экономических наук уже были учреждены, большинство студентов все еще планировали получить степень в юриспруденции, где экономика стояла далеко не на первом месте, поэтому профессиональные знания в основном приходилось черпать из книг, а также лекций людей, которые читали их в свободное от основной работы время из любви к предмету. Важнейшей фигурой был, конечно, Людвиг фон Мизес[44], но я вернусь к нему чуть позже, поскольку сам познакомился с ним далеко не сразу.
Однако следует сказать пару слов об организации университетов в Центральной Европе и особенно в Австрии, специфику которой редко кто понимает. Несмотря на все свои недостатки, она немало способствовала тому тесному общению между профессионалами – штатными профессорами – и любителями (в лучшем смысле этого слова), столь характерному для атмосферы Вены. Число штатных преподавателей в университете, профессоров и доцентов, всегда было небольшим, эти должности обычно получали довольно поздно: чаще в сорок или даже в пятьдесят, крайне редко в тридцать. К тому же, чтобы иметь право на такое назначение, нужно было заранее, обычно через пару лет после докторской степени, получить лицензию на преподавание в качестве приват-доцента, должность, которая не предусматривала никакой зарплаты, кроме ничтожной доли от того, что студенты платили за отдельные курсы. В некоторых областях, где нужны исследования и их можно было проводить только в определенном институте, приват-доценты обычно в дополнение имели оплачиваемую должность ассистента и могли полностью посвятить себя научной работе. Но в областях, где эксперименты не главное, таких как математика, право и экономика, история, языки и философия, ничего подобного не было. До Первой мировой войны значительное количество людей, посвятивших себя академической деятельности, обладали независимыми источниками дохода, которых впоследствии почти все лишились в результате «великой инфляции». Поэтому людям ничего не оставалось, как зарабатывать средства к существованию на другой работе, а проводить исследования и немного преподавать уже в свободное время. Преподаватели юридического факультета, в число которых, как вы помните, входило экономическое отделение, чаще всего становились государственными служащими, чиновниками разнообразных торговых или промышленных организаций (самая привлекательная должность), практикующими юристами. Специалисты в гуманитарных науках обычно шли преподавать в школу, где работали в ожидании, когда же наконец появится столь желанная должность профессора, если она вообще появится… все-таки число приват-доцентов всегда было значительно больше профессоров. Получается, больше половины людей, стремившихся к академической карьере, всю свою жизнь проработали в университете внештатно, на добровольных началах, они могли преподавать любую интересующую их дисциплину, но дохода это почти никакого не приносило. Сторонний, и особенно иностранный, наблюдатель не сразу мог разобраться в ситуации, поскольку через несколько лет всем приват-доцентам пожаловали звания профессоров… Но лишь условно, их положение осталось прежним. Конечно, в некоторых сферах, например в медицине и юриспруденции, престижное звание дает солидное финансовое преимущество: врач или адвокат может взимать значительно более высокую плату, если называет себя «профессором». Зигмунд Фрейд, например, был профессором Венского университета исключительно с этой целью. Я не хочу сказать, что никто из этих преподавателей не имел такого же педагогического влияния, как какой-нибудь штатный профессор. Если педагог был талантлив, то те два-три часа в неделю, когда он читал лекции или проводил дискуссионные занятия, иногда имели больший эффект, чем пары профессоров на ставке… хотя тот факт, что последние обладали монополией на проведение выпускных экзаменов, неизбежно уменьшало влияние первых.

