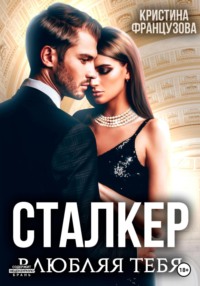Полная версия
Цивилизация «Талион»
– Здоро́во, – одновременно поприветствовали мужчины. Один из них с удивлением прибавил: – Вы вместе?
– Да вот… Еду, гляжу – стоит сиротинушка, мокнет в одиночестве. Сжалился, подвез, вдруг зачтется, – усмехнулся Стас и пожал обоим мужчинам руки.
– То-то вы часто «подбираетесь».
– Так, я не понял, это предъява? – Стас аж подобрался весь, напружинился, словно еще чуть-чуть и начнет выяснять обстоятельства известным способом. – Матюша, может, ты приболел? На начальство так смело прешь. Или у тебя работы нет?.. И вообще, кончай ты за мной следить, повышения таким способом, один шут, не заработаешь.
Подгадав момент, Стас подмигнул второму мужчине, он условный знак расценил своеобразно – отвесил Матюше затрещину.
– Э-эй… Я не то имел в виду… Я так, просто, – заюлил Матюша.
– Просто – непросто. Молчи, когда начальство говорит. Обход сделали? Есть что интересное?
– Убийство, двойное, участковый пошел, – ответил второй.
– Участковый… И что мне с этого? Участковый у них пошел. А ну, марш на обход, и чтобы всё как положено!
– Да у нас и так дел хватает… – несмело и поглядывая исподлобья, возразил Матюша.
Он будто бы и трусил, но и будто бы не мог себя удержать. Отдельная порода людей, которые даже нехотя, даже заведомо соглашаясь, а все равно говорят поперек; этакая нигилистическая протестность, только протест даже не ради протеста, а ради самого поперечника, ради демонстрации себя и своей «смелости» возражать всему подряд, а взамен предлагать – ничего (уж больно напоминает детскую ссору в песочнице). Протестующие бывают разные, дальнейшее разделение еще любопытнее: кто-то удовлетворится словесным выражением протеста, а кому-то слов недостаточно, и последние начинают действовать, впрочем, опасны они в большей степени для самих себя. Принадлежал бы Матюша ко второму типу, Стас бы даже возиться стал. А так он надеялся, что протест у Матюши – явление вре́менное.
– Отставить. Знаю, работать ты любишь меньше, чем не работать. Но платят тебе, как ни странно, не за безделье, – воспитывал Стас.
Заскучав от перепалки, Люба протиснулась между Матюшей и вторым. Стас замолчал, проводил глазами ее спину и возобновил:
– Повнимательнее, парни. И Костя, присмотри за этим охламоном, – кивком Стас указал на Матюшу, – если ему волю дать, он на наши шеи сядет, еще и понукать вздумает. Лады?
– Присмотрю, ой, присмотрю, – подтвердил Костя, тут же вцепился правой рукой в заднюю часть шеи Матюши, чуть нагнул его вперед и, весело приговаривая «допрыгаешься у меня», подтолкнул к выходу из квартиры и дальше.
Костя с Матюшей у Стаса были в прямом подчинении, различаясь характерами, внешне они походили словно братья: одинаково рослые (оба на полголовы выше Стаса), одинакового щуплого телосложения, оба русые и коротко стриженные, в однотипных непромокаемых куртках и джинсах. Черты лица, однако, у Кости отличались резкостью: острый подбородок, выпирающие острые скулы, узкий нос с выраженной спинкой; Матюша при всей схожести все-таки был помягче внешне, некоторые сочли бы его смазливым или того более женоподобным. Костя был тремя годами старше, и старше он был не только по возрасту, но и рассудительностью, сознательностью (чем приятно сокращал Стасу количество забот) и званием он стоял на ступеньку выше.
Пока Стас раздавал указания, Люба беседовала с мужчиной лет пятидесяти пяти, голова его блестела лысиной, руки его синели в перчатках, запас которых удивительным образом был неиссякаем. Точно такие перчатки надела Люба. С разных сторон они склонились над погибшим мужчиной. Мертвец полусидел-полулежал за столом, верхняя половина тела лежала на столешнице, причина смерти зияла спекшимися потемневшими краями на затылке. Такую экспозицию застал Стас, когда подошел и заглянул через синюю мужскую руку.
– Что у нас тут?.. С этим субъектом, положим, всё ясно. И кстати, доброго утречка, Михаил Лаврентьич. Чем долбанули – нашли? – полюбопытствовал Стас.
– Эх, молодежь! И куда вы постоянно торопитесь? Утро доброе и тебе, мил человек. Рана слишком очевидна, чтобы ее отрицать, однако причина смерти может быть иной. Или у тебя найдутся аргументы для спора?
– Аргументы? У меня? Чур меня спорить с вами. Особенно утром. С вами даже ваши «пациенты» не спорят. А за «молодежь» отдельное спасибо, – отказался Стас и правильно сделал.
Михаил Лаврентьевич Рофф трудился судмедэкспертом, за свою практику он снискал славу требовательного ворчуна; впрочем, с его маленьким недостатком находить укор всему, с чем или кем взаимодействовал, окружающие смирялись без каких-либо серьезных душевных усилий. Наполняла же этого мужчину черта другая, с последствиями которой сталкивались уже те, кто имел причастность по роду службы, и вот этих последствий стремились избегать любыми способами. Удавалось это или нет, зависело от многих факторов, таких как крепость чайной заварки, умение выслушать один и тот же анекдот в сотый раз, не скорчив при этом гримасу, и главное – уметь не поторапливать. Бывало Михаил Лаврентьевич говорил: «Торопливость присуща живым, мои „подопечные“ – сплошь покойники, а им торопливость вредит много больше, чем сам факт уже свершившейся смерти… Кто не спешит, тот меньше ошибается», – он любил рассуждения на тему спешки и торопливости. Легко догадаться, неприглядной чертой судмедэксперта была медлительность. И возможно, все его успехи и заслуги на карьерном поприще оказались бы бессильны против увольнения (жалобами на Михаила Лаврентьевича удивить начальство невозможно; к счастью для самого судмедэксперта – добиться результата тоже), однако кое-кто из сослуживцев заметил странность, пригляделся повнимательнее и, набравшись храбрости, испытал на практике, а вскоре все, во всяком случае большинство заинтересованных, получили возможность ослабить неприятную черту характера ценного специалиста. Помощником же в этом нелегком, но ответственном деле выступил – зефир. Как выяснилось опытным путем, обычное детское лакомство превращало медлительного формалиста в заводилу-насмешника. Правда, тут имелась закавыка: накормив Михаила Лаврентьевича зефиром, коллегам вместо медлительности угрожала опасность иного рода, – судмедэксперт трудился много энергичней, но и болтал при этом тоже что-то энергичное, веселя себя и всех вокруг. Поинтересоваться о душевном равновесии собеседников в соображение ему не приходило; порою на колкие высказывания, выплеснутые любителем зефира в состоянии ража, у отдельных визави могла бы затаиться обида (и действительно таилась), но и на этот счет Михаил Лаврентьевич заслуживал определенного снисхождения, поскольку общался-то он подавляющей частью с кем? Не только же со следственной братией, из которых, несмотря на профессию, встречаются персонажи весьма даже чувствительные (иной раз – сущие дети), но и с молчаливыми, а главное, нейтральными к обидам, подопечными, как он их называл. «Лежишь, бездельник? – громко вопрошал Михаил Лаврентьевич, беря в руки скальпель, – ну вот мы и посмотрим, чего это ты у нас разлегся. Притворяешься али правда устал? Нет-нет, ты помолчи, мил человек, твое выступление сыграно, теперь моя реплика вступает… Ага! Видал, мил человек? Ты это видал?! Нет, ты погляди! Рассмотри хорошенечко! Понял теперь, что я у тебя здесь нашел?.. Меня твои фокусы не проведут… Что, неужто спорить со мной вздумал? О! Да ты и взаправду как будто возражаешь! Не-ет, нет уж, мил человек, всё мы про тебя узнаем и всё выясним, все секретики твои раскроем до последнего, так-то». Примерно за такими беседами можно было застать Михаила Лаврентьевича, объевшегося зефиром, но и занятого делом.
Новички анекдотам не верили, а едва сталкивались с невозможностью хоть как-то придать законченные очертания, так необходимые официальному заключению по вскрытию чьих-нибудь несчастных останков, то, конечно, сперва пробовали увещевать, некоторые осмеливались стыдить, потом, как правило, грозили, затем слезно умоляли, вскоре наступал черед ябедничества, но столкнувшись с глухой стеной непонимания и переживая совершеннейшее отчаяние, вольно-невольно вспоминали «анекдот о зефире и судмедэксперте» и, подзуживаемые мыслью «чем черт не шутит», прытью обращенных неофитов неслись в ближайшую кондитерскую, выкупали весь запас зефира и с замиранием сердца наблюдали метаморфозы. Робкие беспокойства добрых коллег, что от избытка сахара в крови возникают нешуточные проблемы со здоровьем, судмедэксперт отбивал одинаково и неизменно: «Смертью вам меня не запугать».
Тоскливым утром четверга, в тоскливой квартире на четвертом этаже зефира у Стаса при себе не имелось, успел ли Михаил Лаврентьевич попить утренний чай у себя в кабинете или дома – неизвестно, но в движениях Михаила Лаврентьевича явно наблюдалась плавность, а неискушенному взгляду показалась бы даже вялость. Возможно, для кого-то описанное свойство темперамента доставляло бы неудобства, однако в профессии Михаила Лаврентьевича нерасторопность движений, а в особенности подкрепленная педантичностью, шла его работе на пользу (кроме, разумеется, случаев срочных). Заключения о вскрытии всегда были скрупулезно точны, выверены, ни единого сомнения не мелькало между строк, и за каждое написанное слово Михаил Лаврентьевич ручался головой. Начальство, однако, предпочитало голову судмедэксперта видеть там, где она выросла изначально, на узких, немного даже покатых плечах и короткой шее, поскольку на профессионализм ценного сотрудника опирались и пользовались напропалую (после жертвоприношения зефира).
– Видишь? – легким движением синей руки Михаил Лаврентьевич обратил внимание Стаса на початую бутылку водки, делившей стол с мертвецом.
– А давно он такой?
– Какой – такой? Изволь объясниться… – Судмедэксперт пронзил Стаса внимательным взглядом, но сам и продолжил: – Бутылка ополовинена, но вот когда он ее употребил, в одиночку или нет, употреблял ли вообще – покажет вскрытие.
– Да шут с этой водкой, по башке давно его тюкнули?
– Тюкнули – не тюкнули. Орудия преступления нет. Ты вот сюда лучше посмотри. – Михаил Лаврентьевич осторожно пошевелил кисть руки несчастного. – А ты заметил, что в помещении прохладно?
Стас только сейчас, по замечанию судмедэксперта, понял, что не чувствовал жары, хотя по-прежнему оставался в куртке. Будь окна закрыты, он бы уже вспотел. «Эх, Любаша, Любаша…» – пролетела у него в голове незаконченная мысль. Словно угадывая, о ком он думал, Люба кивком указала на открытую балконную дверь и напомнила:
– Отопление недели две как включили.
– То ли преступник понимал что́ делает и открыл балкон нарочно, то ли створка открыта по случайности, – всякому другому Михаил Лаврентьевич торопливость запрещал, однако на него самого ограничение не распространялось. – Из-за балкона время смерти установить будет сложнее…
– Надо, Михаил Лаврентьевич. Хотя бы примерно, хотя бы очень примерно, но надо. Сами понимаете, и так обнаружили поздно, – почти приказала Люба.
– Повнимательнее с отпечатками на балконной двери, – обратился Стас к двум криминалистам, находившимся здесь же. Те наградили его двумя презрительными взглядами и одним уточняющим фырканьем.
– Предположу – двое суток назад, – с недовольством в голосе ответил судмедэксперт, а повторно глянув на балкон, исправился: – Возможно, больше. Остальное после вскрытия, Любовь Петровна. Это пока всё, что могу. Каждый раз одно да потому, я ведь не волшебник. Поспешишь – людей насмешишь, – ворчал судмедэксперт, продолжая манипуляции с телом.
– С мужчиной более-менее ясно, а девушка что? Она ему, случайно, не дочь?
– Насколько я знаю, документы обнаружены только на мужчину. Осмотр закончится, тогда и выводы сделаешь, Любовь Петровна. Но не похоже, чтобы в этой квартире жил подросток… – Михаил Лаврентьевич встал ровно, глаза его остекленели. Впрочем, опомнился он почти сразу и тотчас запричитал: – О-хо-хо, бедная девочка, задушили бедняжку шарфом, ее собственным, скорей всего. Шарф изъяли, надеемся на потожировые… Мужчина умер, предполагаю, быстро, а девочке не повезло. О-хо-хо, бедная, бедная.
– Ненавижу выезжать на преступления с детьми. Нелюди… Ее… она… Что с ней? – злобно прикрикнула Люба, срываясь на судмедэксперте.
– Сама посмотри, внутренняя поверхность бедер в крови, одежда изорвана…
– То есть ее… – поняла Люба и, не задерживаясь более ни секунды, вышла.
«О-хо-хо, бедная, бедная девочка, о-хо-хо», – сокрушался Михаил Лаврентьевич, заканчивая осмотр тела мужчины. Наконец он закрыл свой чемоданчик, выпрямился и на Стаса, ожидавшего в сторонке, поглядел печальными глазами, впрочем, они всегда были печальными из-за опущенных внешних уголков.
– Мил человек, с мужчиной – всё, девочку осматривал вперед. Тела можно увозить?
Не дождавшись ответа, судмедэксперт подошел к Стасу и, выводя его из задумчивости, тронул за рукав куртки. Стас отшатнулся, воткнулся спиной в стену и приложился об нее же затылком, это произошло так резко и неожиданно, будто прикосновение, по вине которого Стаса дернуло, случилось не через грубую ткань, а к оголенной коже и не человеческой рукой, освободившейся уже от синевы перчатки, а привидением – бестелесным, но леденящим до костей. Присутствовавшие в комнате – их, помимо судмедэксперта и Стаса, оставалось двое – поглядели с недоумением. Вроде работа такая, что верить в привидения и пугаться чего-либо поздно. Стас покраснел и отвечал рывком:
– Я не закончил.
Михаил Лаврентьевич кивнул и удалился, а Стас, мысленно обругав себя за промедление, начал осмотр комнаты, теперь уже тщательный. Сперва он приблизился к телу за столом, а после обошел помещение как бы по периметру, – он старался не мешать экспертам выполнять их работу.
IIРайон Строгино сплошь застроен однотипными скучными панельками; дом, где произошла беда, – один из них; подобные постройки для времен нынешних кажутся устаревшими, внутри квартиры дела обстояли еще хуже. Ставшая местом преступления комната выглядела износившейся от длительной эксплуатации или, наоборот, заброшенной на долгие годы. Обои, некогда синеватые с вертикальными полосами цветочного паттерна, теперь выцвели, посерели от старости и табачного дыма, из двух углов на стыке стен и потолка свисали треугольные лоскуты длиной полметра каждый. Впрочем, до обоев ли. Комната была вытянутым прямоугольником, Стас вплотную подошел к длинной стене, выбрав на ней условную центральную точку, и мозг его моментально запустил «фотографирование» обстановки. Привычка мысленно чертить возможные перемещения преступника и жертвы образовалась у него еще в годы обучения и в работе помогала множество раз. Балконная дверь располагалась точно напротив дверного проема, между ними стоял квадратный стол, за которым спиной к входу и лицом к балкону на табурете сидел мертвец. Стас переключился на запоминание «сервировки» стола: переполненная окурками пепельница, два граненых стакана, две тарелки поменьше, две тарелки побольше, на одной из больших тарелок сохли несколько ломтей сыра и колбасы. Колбаса сырокопченая, отметил Стас и еще раз с сомнением глянул на тело мужчины. Растянутая майка, спортивные штаны, ткань штанов как будто лоснилась, – всё это лишь подтверждало первые выводы о низком материальном достатке несчастного. Лицо его лежало щекой на столешнице и было обращено к нему, Стасу, он отвел глаза, как бы смущаясь своей бесцеремонности, хотя краем сознания, конечно, понимал: мертвецу совершенно безразлично, кто и как долго на него смотрит. Табуреток стояло две, одна как раз под покойничком, вторая задвинута под стол, но с торчащим углом наружу. «Возможно, была потасовка, или из наших кто-то пнул неосторожно», – возникло предположение у Стаса, но он его не учел.
По левой диагонали от Стаса и правее балконной двери стояла тумба с телевизором, именно в этом углу свисал обойный лоскут. В большей степени привлекал внимание телевизор – выпуклый, с далеко выступающей задней частью, не кинескопный вроде бы, но все равно достаточно старый, чтобы к настоящему времени успеть забыть о таких моделях. Стас попытался вспомнить, когда в последний раз встречал подобную технику, – не смог; вместо этого снова зачем-то посмотрел в неживое лицо. «Скорей всего, квартира принадлежит мужчине, вряд ли хозяйка – девочка, – заметил мысленно Стас и вдруг перескочил на другое: – Вообще, конечно, Любаша виновата. Какого шута с ней творится? То зовет, манит, оголяя коленочки, аж вся вибрирует, дрожит от одного моего касания, то печальна и холодна, что парковая статуя. Ее молчание испортило такое прекрасное утро». Теперь же Стас пялился в закрытые навсегда глаза, восковое и безучастное выражение лица покойника и чувствовал, что закипал. По-хорошему следовало закончить осмотр, прикинуть, что да как, погонять между мозговых извилин первые наметки версий, а вместо этого Стас сжимал кулаки и представлял: два шага – и он схватит мертвеца за грудки (хлипкая материя майки вряд ли выдержит), ну хорошо, тогда схватит за плечи, потрясет маленько (лишь бы тело не сползло с костей), вмажет по застывшей челюсти, чтобы в последний раз открыл свои зенки и объяснил, какого шута здесь стряслось!
Почему мертвецов двое и они такие разные: она на полу, а он сидит за столом, спиной к ней, как будто и не знал о ней вовсе, как будто временно оглох и не слышал криков изуверства? Дегенераты подрались за очередность? Но почему этот-то спиной? Или пока кто-то другой измывался, этот сидел на табуретке, смотрел телевизор, жевал колбасу, глушил горькую и всё под хрипы несчастной? Ну шут с ним, если импотент, но в твоем доме убивают, а тебе плевать? Колбаса с водкой важнее?
Поскрежетав от бессилия зубами, Стас вынудил себя отвернуться, пришлось даже мысленно ругнуть самого себя, как недавно Матюшу, чтобы покончить с ерундой. Конечно, девочку жаль. Но жалость лишь мешала, это Стас понимал и требовал от себя выполнения обязанностей, и во исполнение оных несколько минут действительно обдумывал: расстояние между балконной дверью и табуреткой с трупом, расстояние между дверью в комнату и табуреткой с трупом, почему вторая табуретка задвинута, если гостей было явно больше, вторая жертва вряд ли могла составить компанию в распитии водки и поедании колбасы. Возраст… Так, минуточку, колбасу дети едят… Едят, еще как едят… Едят, но не в компании же выпивающего мужика! Такие мысли посещали Стаса, и вдруг он подловил себя на том, что вновь таращился на мертвеца, и в то же мгновение раздражение в нем вскипело до злости, вокруг всё непонятное, странное, постановочное, а этот сидит и никакой подсказки от него. Чувствуя навязчивую прилипчивость и не имея возможности освободиться, Стас безмолвно выговаривал мертвецу: «Сидишь? Прохлаждаешься? В твоей квартире растерзанная девочка, а ты, значит, водочку попиваешь, колбаской закусываешь и всё тебе нипочем, всё с тебя как с гуся вода, плевать тебе на девочку, на муки ее, на крики ее… Так, надо парням дать задание, чтобы дотошно расспросили соседей о криках. Стены панельные, звукоизоляция паршивая. А все-таки правильно я сделал, не пожалев денег на кирпичную квартиру, пусть дороже, зато… Ну а ты? Какого шута расселся?». Стас буравил мертвеца требовательным взглядом, будто прямо сейчас вынимал из его черепной коробки ответы на вопросы: что видел или не видел, чья табуретка и зачем спиной, кто такая и откуда девочка?..
Левее балкона возвышался шифоньер, такой же коричневый, как и тумба, одна дверца шкафа покосилась, но и без внешних повреждений, беря на заметку лишь полированную поверхность мебели, популярную в 90-е годы прошлого века, а то и раньше, было понятно – мебель в этой квартире ровесница Стаса. Штору неопределенного запыленного цвета кто-то отодвинул ближе к шкафу, и через окно можно было увидеть незастекленный балкон и – даже удивительно – без хлама. Чтобы рассмотреть другую половину комнаты, Стасу пришлось сделать шаг, иначе тело покойника мешало свободному обзору. Начав теперь уже правой диагональю от себя, Стас с видимой гримасой отвращения разглядывал матрас, брошенный прямо на пол. Неимение постельного белья тоже говорило о многом. На матрасе лежало второе тело – девушка. Лицо ее было в ссадинах, на шее – следы от удушья, и Стас вспомнил слова Михаила Лаврентьевича: девочке повезло намного меньше. Если положение рук и ног сменили при осмотре, точную позу можно будет увидеть на фотоснимках экспертов. В этом же углу с матрасом верхняя часть обоев отклеилась и висела; наверное, если бы обойный лист оторвался окончательно, то укрыл бы собой хладное девичье тело.
В оставшемся четвертом углу была навалена куча мерзкого тряпья, двое экспертов продолжали в ней ковыряться, выискивая что-нибудь важное. Шифоньер был пуст – сломанные дверцы демонстрировали внутреннюю пустоту, – тряпье валялось в углу, странно. В любом случае будет экспертиза, может что-то и прояснится.
«И для чего убивать мужика?» – с неприязнью думал Стас. Вероятно, будь мужчина жив, для следствия пазл сошелся бы легко. К жертве приложился бы обвиняемый – целехонький, невредименький (надолго или нет, вопрос оставался открытым). Потрать Стас ночь на протоколы, и дело можно было бы закрыть. Любаша стала бы ласковой, улыбка бы игриво осветила ее пухленькие розовые щечки. Любаша в прошлом году, кажется, разменяла четвертый десяток, а личико ее до сих пор было по-детски пухлым, а коленочки, ах, коленочки – округлые, беленькие, что слоновая кость. Чудо – коленочки!.. Убийство двойное, но жертвы несовместимые: возрастом, положением тел, способом убийства, как их угораздило объединиться да еще перед самой смертью, – Стас терялся в догадках. Убитая девушка не перешагнула совершеннолетие, а значит, разных уровней начальство нервы потреплет многим.
Он вышел из комнаты и наткнулся на Любу, до сих пор хмурую.
– Что так долго? Кухню с ванной видел? Осмотри здесь всё, оболтусам твоим веры нет. Я – в управление.
– Слушаюсь и повинуюсь.
Он отвесил ей шутовской полупоклон. За его спиной два мертвеца, один из них – почти что ребенок, а Стас пытался шутить, – сложно представить более неподходящего случая. Только это всё она! Ее молчание хуже осени, хуже внезапного дождя, хуже выговора от начальства; нет, если недовольна, то понятно… Постойте, но как же недовольна, неделю назад была довольна, каждую командировку мужа – довольна, а именно сегодня – недовольна? Шута с два! Она просто обязана быть довольна! Только пока она молчала и отворачивалась, он выставлял себя дураком. Люба на его выпад ничего не ответила, смотрела-смотрела полминуты ему в глаза, с тем и ушла.
Примечание6. В четверг четвертого числа на четвертом этаже в четыре с четвертью часа…– Стас вспоминает детскую скороговорку: «В четверг четвертого числа, в четыре с четвертью часа, четыре черненьких чумазеньких чертенка чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто».
5. Беды четвероногие и двуногие
I– Закончила?
– Я в строю, работаю, если вы об этом, Пал Игнатич, – грубовато отмахнулась Лиза и прошла к своему рабочему столу, включила компьютер. Пока техника запускалась, она сняла куртку, повесила тут же на спинку стула, рюкзак бросила под ноги и сразу принялась за работу.
– Ты знаешь, как правильно ко мне обращаться.
«Конечно, знаю, но не дождетесь!» – подумала Лиза и смолчала.
Павла Игнатьевича Соколова, подполковника юстиции, непосредственного Лизиного начальника, никто не называл по имени. Сослуживцам и, вероятно, друзьям тоже, он представлялся прозвищем, немного странноватая позиция, но что поделать, люди порой и хлеще чудят, а само прозвище забавное – Домовой. Это не шутка. Лишь прозвище, сроднившееся с человеком настолько, что паспортные данные использовались редко. «Не Павел Игнатьевич, а Домовой!» – требовал он ото всех, исключение допускалось лишь вышестоящим и с генеральскими звездами на плечах. Называть малознакомого человека, да еще коллегу, прозвищем Лизе претило. В коллективе она была самой младшей и новенькой, и личное мнение она оставляла за стенами работы (за пять месяцев стать «своей» невозможно, вернее, было бы возможным, но Лиза свой шанс скоропостижно профукала – о причинах в последующих главах будет подробно). Вскоре после ее прихода в кабинет ввалился молодой мужчина, немногим старше нее, и тотчас же давай голосить:
– Что, Домовой! Хорош Савелий Никитич? Еще как хорош! Я же говорил! Говорил ведь, братцы?! Говорил! Говорил: раскрою за две недели, а ты не верил! Никто в светлый ум Савелия Никитича не верил, ан нет, выкусите! Выкусите! Не подвел, да?! Не подвел Савелий Никитич, ох, не подвел! А что я вам говорил, братцы! Савелий Никитич никогда не подводит! То-то же, братцы мои, то-то же!
Собственно, громкоголосый мужчина и был тем самым Савелием Никитичем, о гениальности которого он сам же завел речь, второй коллега Лизы, и под «братцами» он подразумевал всех присутствовавших сейчас в кабинете. Они служили в одном отделе: Домовой, Савелий и Лиза. В личной причастности к «братцам» Лиза сомневалась, но поскольку мнения свои она оставляла дома, то лишь разок высунулась, чтобы показать Савелию кулачок с выставленным кверху больши́м пальцем, и вновь спряталась за монитором. Видимо, иной реакции от нее не ждали. Савелий, громко разрекламировавший свой светлый ум, с окончанием тирады подошел и наклонился к Домовому, они заговорили между собой вполголоса. Лиза же выписала на клочок бумажки адрес, вскочила, порывистым движением сорвала с кресла куртку, надела ее на себя также порывисто, сунула листок в карман и вылетела из кабинета. Через десять секунд она ворвал ась обратно, бросилась к столу, выудила из-под него рюкзачок и побежала к выходу.