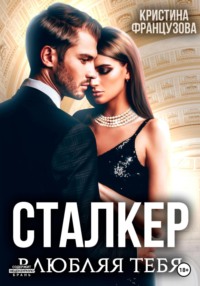Полная версия
Цивилизация «Талион»
– Володька, подожди, зачем всухомятку, ребята, что же вы…
– Я буду доволен, когда ты начнешь хоть немного уважать родителей.
– Как скажешь, бать. Я уважаю тебя, уважаю мать, уважаю оладьи, уважаю твой холодильник. Теперь мы можем позавтракать?.. В школу опоздаю из-за тебя.
– В школу ты опоздаешь из-за себя! Встал бы пораньше, матери помог и везде бы успел. И что это за «мать, бать»? Тьфу, гадость какая. Это он у тебя, Лена, нахватался. Ты виновата. Ты, ты, больше некому. Ничего от русского могучего… Мать, бать, мы с тобой будто кличками обзавелись. Да, Лен?
– Ну хватит. Вот тебе кофе, Вадимчик, в твоей любимой синей кружке. Володька, а тебе чай и сахара три ложки.
– Не слипнется у твоего Володьки одно место?
– Вадимчик, прошу, не за столом. Ой, телефон звонит, наверное, мой. Надюльчик хочет напомнить про стрижку… Алло! Алло, Надюля?.. Нет, не занята! Надюльчик, ну что ты, конечно, я помню, приеду, как договаривались, к полудню… О, неужели? Видела Мишельку? И что? С кем она приходила на этот раз?.. Да ты что-о? С тем самым?!.. Нет, нет, не верю, не может быть! Кто он, а кто она… А-а, даже та-ак!.. Да-да, точно говоришь… Ха-ха, и правда, курица выщипанная!.. Ну-у, не знаю… У меня же Вадимчик и на каникулы сына я планировала Париж… Ой, не знаю, не знаю, столько дел, столько дел, аж голова кру́гом, то завтрак, то ужин, то одно, то другое… Угу, и не говори, как белка в колесе… Минутку повиси, я перейду в спальню… Вадимчик, поешь хорошо, Володька, а ты слушайся отца… Алло, Надюльчик, ты еще здесь?..
– Все они курицы (бубнит под нос).
– Ты что-то сказал? А ну, повтори!
– Да я вообще молчу!.. Всё, я поел, пока, бать. И подкинь на карту. Она что-то совсем отощала. Подкинешь? Пожалуйста.
– Сядь, разговор есть… Володька, сядь на место, я сказал!.. Что у тебя за проблемы?
– С чего ты взял? Какие такие проблемы? Не было проблем. Откуда? Утром не было проблем.
– Если взял, значит, было откуда. Ну? Какие проблемы? Серьезные? Давай, выкладывай.
– Да нет, бать, нет у меня проблем!
– А глазенки-то забегали. Врешь же, паскудник. Родному отцу в глаза смотришь и врешь. Как дал бы… Струсил? Не боись, бить не буду, сегодня, хе-хе… Мать твою жаль, больно голос у нее визгливый, когда орать начинает, еще связки сорвет… Выкладывай скорее свои проблемы, только чур без вранья. Классная твоя звонила, Антонина… Тоня, Тоня, как же ее… Антонина Михална, что ли?
– Полина Ильинична.
– Хе-хе-хе… (Почему, спрашивается, Тонькой ее звал?) Вот она и звонила. И что я узнаю́, дорогой мой сын? Даже поспорить пришлось с мадам учительницей. Нет, а как ты хотел? Она доказывала, что ты хромаешь, я убеждал в исправности твоих конечностей. Спор наш дошел до определенной кондиции, как вдруг выясняется, что речь не о твоих ногах, а о посещаемости. Дальше больше, Елена Юрьевна месяц назад осведомлена, обещала меры принять, а пропуски продолжаются… И что ответишь на обвинение? Как тебе такие показания? Кто из вас врет? А, Володька? Ты или Антонина твоя, или мать с обещанными мерами? Я для кого горбачусь? Для себя, что ли? Вы же с матерью как сыр в масле… Каждые полгода в отпуск и всё по заграницам. Одежда модная, мобильный телефон последней модели, а тебе лень на уроки являться? Я не пойму, мне деньги зарабатывать на ваши прихоти не лень, а тебе урок отсидеть лень?
– Бать, да хожу я в школу, хожу. Чем хочешь клянусь.
– Ходит он… Я знаю, что ходишь и классная твоя, Антонина которая, подтверждает, что ходишь, но, говорит, сидишь только на первых уроках, а с последних сбега́ешь. Это почему так?
– Мне пора, бать. Договорим вечером? Я опаздываю. На первый урок опаздываю, между прочим.
– Ты еще пошути! Дошутишься, ой, дошутишься. Как крикнешь в лес, так из леса отзовется.
– А-а, опять ты за свое.
– Мое да не мое. Пенять все равно каждому на себя.
– Дядя Паша был прав.
– Дядя Паша? Этот откуда? Ты теперь вместо родного отца чужих людей слушаешь? Встречался с ним? Но где? Черт-те что творится, каждый норовит залезть. Твой дядя Паша лучше бы за своим семейством присматривал, чем в мое лез. Я жду, договаривай. В чем он был прав? Снова меня критиковал?
– Да нет, у деда Тимура в гостях был случай, давно еще, когда последний раз были, помнишь? Да тебе любой скажет, что ты – копия деда Тимура, у кого хочешь спроси. Дядя Паша так и сказал.
– Сказал, что я зануда. Было бы странно, выскажись он иначе. А, черт с ним. А ты…
– Извини, бать. Я точно опоздаю! Давай вечером договорим: и про Антонину, и про Полину Ильиничну, и про оладьи, и про деда. Да, бать? До вечера, да?
– Вечером, вечером… Каким еще вечером? Я допоздна работаю, ты с дружком шатаешься. Не понимаю я вас, молодежь. Чего вам не хватает?
– Всего хватает, бать, клянусь. Я побежал. Иначе Полина Ильинична опять будет жаловаться, а я не виноват. Пополнишь карту? Пожа-алуйста!
– Да пополню я ваши карты, пополню! И вообще, делайте что хотите…
IIВолодька довольный убежал в школу, Лена в глубине квартиры продолжала общение по телефону, а Вадимчик, пользуясь установившимся затишьем, отодвинул тарелку с омлетом, придвинул к себе блюдо, сцапал золотистый оладушек, макнул в вазочку с медом, тоже золотистым, и отправил добытое богатство в рот. Чувственные промасленные губы растянулись в придурковатую улыбку, узкие глазки прикрылись, пряча под веками поблескивавшую пелену удовлетворения. В отсутствие свидетелей Вадим причмокивал, мычал и, наверное, даже урчал, каждый следующий медовый оладушек он встречал довольным чавканьем, и всё по нарастающей.
– Вадимчик, настоятельно тебя прошу, нет, не прошу – заклинаю: не повторяй, пожалуйста, все эти ужасные звуки на приеме Тимура Вадимовича. Иначе я со стыда провалюсь.
– Ниже пола не упадешь, – как бы невзначай обронил Вадим.
«Закончила болтовню раньше, насмотрелась, теперь воспитывать примется, – догадался он по разочарованному выражению ее лица. – Володька виноват, – мелькало у Вадима в мыслях, пока между пальцами мелькали оладьи. – Нет бы сразу сознаться. Он бы в школу пораньше, а я оладушки – пораньше». Однако и то угощение, которое уже успело попасть в желудок, настраивало Вадима на снисходительность.
– Всем кости перемыла? Меня тоже на все лады просклоняла? – упрекнул Вадим; снисходительность, видимо, в нем еще мало окрепла.
– Ну что ты такое говоришь, – печально вздохнула Лена, всплеснула руками и отвернулась.
Но прежде чем продолжать, по видимости, самое время пояснить немного про Лену и ее Вадимчика, точнее, Вадима Владленовича, и о нем в первую очередь, поскольку основной интерес представляет именно он, а его дражайшая супруга и сын Володька являются как бы заложниками положения. Вадим Владленович – депутат.
Странный выбор характеристики, чтобы такой оригинальностью представлять незнакомого человека. И вроде немного жаль ушедших в историю дореволюционных норм этикета, было бы любопытно видеть, как некий уважаемый господин знакомит еще более уважаемого господина с Вадимом Владленовичем; с чего бы начал и чем кончил посредник, особенно чем кончил, вот ведь где сюрприз… Так почему депутат? Несколько затруднительно с первых строк знакомства ответить однозначно, всё же до полной характеристики нарисуется достаточно черт и черточек; скорей всего, должность показывает не столько и не только род занятий, сколько характер и даже внешность, и причем гораздо полнее, чем видится здесь, вначале. Тем не менее, чтобы подвести читательские воображения под один знаменатель, справедливо указать возраст и добавить подробностей. Депутату сорок пять. Он еще моложав, но это не дар природы или заслуга приверженности спортивному образу жизни, а косвенное преимущество (хотя и недолговечное), обусловленное привычкой.
Вадим Владленович – нечто центральное между краями чревоугодия и гурманства, этакий лакомка. Оставаясь равнодушным к спиртному, табаку и, кроме того, почти ко всем традиционным мужским увлечениям, вроде автомобилей, оружия, азартных игр, хихикающих прелестниц, сокрытия неучтенных доходов (большинство читателей сейчас иронично ухмыляются, но такая черта действительно есть и впоследствии разъяснится), Вадим Владленович буквально таял от изысканной стряпни, хотя не столько изысканной, сколько вкусной (для него) и качественной. Набивать утробу всем что под руку подвернется, он бы не стал, но и рассматривать под микроскопом поданное блюдо – тоже. А лакомиться меж тем слишком любил.
Расстройство желудочное, пусть редко, но случавшееся, способно было довести Вадима Владленовича до исступления, притом оригинальнейшего. Он спокойно переносил простуду, визиты к стоматологу и вообще был неожиданно терпелив ко всяким медицинским процедурам. Однако расстройство пищеварения буквально выводило его из себя. После неудачного посещения уборной он за мгновение превращался в человека мелочного, придирчивого, раздражительного до злобы, почти до гневливости. Он и кричал уж тогда, и топал ногами, и отшвыривал лекарственные порошки, подсовываемые Леной, – это, пожалуй, самое удивительное противоречие. Страдая от недуга, Вадим так горячо ненавидел этот недуг, что даже в ущерб самому себе, собственному здоровью отказывался от лечения. То есть прямой мысли о безнадежности лекарственной его не посещало, просто Вадим чересчур погружался в обидчивость на недомогание, и разум ему натурально отказывал. Обычно Вадим наслаждался процессом поглощения пищи с упоительностью, что любые препятствия этому казались ему чем-то вроде личного оскорбления: такого горького, что не прощается, такого желчного, что фонари под глазами лентяев-поваров не удовлетворяли, такого едкого, когда в пору хвататься за шпаги и требовать отмщения до первой крови, а при запрете дуэлей приходилось довольствоваться кляузами в Роспотребнадзор, такого жгучего, что безрассудно отвергалось даже спасительное лечение. В подобных экстренных ситуациях Лене приходилось чуточку проще, нежели ресторанным поварам, на правах жены вместо фонарей под глазами она обходилась мужниным нагоняем протяженностью до полного выздоровления занемогшего супруга. И, возвращаясь к моложавости, отметим: Вадим Владленович в сорок пять выглядел чуть младше своего возраста, лицо его оставалось гладким, только вокруг глаз множились морщинки и по ним одним можно было определить его истинный возраст. Однако и толстым назвать его никак было нельзя. У Вадима имелся живот, скромный и малоприметный, поскольку само телосложение его от рождения было ширококостным и упитанным, излишки же распространялись по телу равномерно, лишь в последние годы стали застревать в области ремня.
А теперь немного о Лене, женщине на вид анемичной, нервной, ранимой, хотя красивой. И опять-таки, почему же о Лене и о ком-либо еще, кто герой второстепенный, непременно надо читателю читать? Тем более завеса о главном действующем лице сорвана, и лицо это – Вадим. Однако тайны никакой нет и быть не может, отгадка самая простая: скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты. Вадим с Леной больше чем друзья – нотабене: нисколько не «партнеры» – пара их семейная, а значит, справедливость пословицы вырастает многократно. Итак, Лена.
Замуж она выходила не сказать по любви, но и расчет был весьма скромным. До Вадима она встречалась с другим, там что-то не задалось, и очень кстати подвернулся настойчивый юристик (Вадим тогда заканчивал юридический факультет). Он утешил, ободрил, пообещал, приласкал, в общем, был любезен и наговорил всего благостного, а достигнутый успех тотчас же фиксировал предложением руки и сердца. Тоненькая, хрупкая, доверчивая, немного испуганная Лена (Вадиму в период ухаживания, она казалась именно такой: нуждавшейся в защите) попросила время подумать. Время он, конечно же, дал, а вместе со временем присовокупил маленький списочек будущих обязанностей. Вадим хотел «ясности». Именно так он выразился, когда, не получив еще положительного ответа, воодушевившись, однако, отсутствием прямого отказа, продолжил атаку, но уже ради собственной выгоды. Ему была нужна такая женщина, кто все домашние хлопоты возьмет на себя, то есть не в буквальном смысле взвалит на спину кузовок⁵, забитый швабрами, тряпками и пылесосом с утюгом, но такая, кто сумеет оградить Вадима от любых воспоминаний о быте. Он не требовал от Лены стирать, чистить, готовить, а ужина из трех блюд и четырех закусок по его представлению было достаточно в выходные и праздники, однако он решительно настаивал, чтобы всё осуществлялось, пусть не Лениными руками, но под ее непременным руководством. Рубашки и костюмы (а были годы, когда Вадим носил форму, диктовавшую повышенное к себе внимание), пальто и куртки, косметика для бритья, нательное белье, обувь – всё приобреталось Леной. И всё, что Вадим ел, что надевал, на чем спал, где отдыхал – ко всему прикладывалась ручка его супруги. И обо всём этом уговор между ними свершился до бракосочетания. Посулам распаленного юноши верила она тогда слабо, однако определила для себя одну его черту, ставшую для нее в своем роде основанием. Вадим проявил себя щедрым. Не такими швыряниями, когда чаевые в ресторане превышают сумму по чеку, но движениями разумными, дельными. То есть он любил знать, за что платил. Хотя чаевые оставлял тому же мороженщику и на цветочки не скупился, и что редкость, о всяких милых девичьему сердцу датах помнил и преподносил к случаям безделушки, но делал это Вадим без фанфаронства и наигранности, чтобы выгодно себя преподнести, а искренне и постоянно, и при полном своем удовлетворении услугой. Потому как если Вадим оставался недовольным, то никаких цветов не дарил, чаевых не платил, а напротив, был способен истребовать возмещения моральной компенсации, хоть с ресторана, хоть с туристической фирмы, хоть с отделения госавтоинспекции, если сотрудник имел неосторожность вести себя вразрез устава. Вадим был нежаден, однако за щедрость свою требовал сполна. И в этой его черте, помимо, казалось бы, очевидной разумности, Лене виделась надежность. Притом любопытно, что себя в роли исполнительницы услуги она не представляла. В ее понимании Вадим будет готов защитить не только личное ущемленное ожидание, но и позаботится о семье, а если Лена будет учитываться в составе семьи, то с нее и спроса за какие-то там услуги нет (услуга «жена» – басни!). Меж тем она была согласна исполнять то немногое и требуемое Вадимом, особенно если материальные расходы он великодушно признавал за собой. А однажды, пребывая в особенно приподнятом настроении (о причинах она так и не узнала, сама спросила разок, но, получив отговорку, настаивать постеснялась), Вадим преподнес ей в подарок золотые сережки. Между ними тогда еще были не приняты брильянты да изумруды (Вадим жил по студенческим средствам и возможностям или чуть смелее, если брать в расчет одного его благодетеля, о котором чуть позже), как не было и повода особенного для даров: ни дня рождения, ни даты знакомства, ни согласия Лены на брак не прозвучало – ничего не было, кроме единственно желания Вадима угодить. Простое желание мужчины видеть улыбку и блеск сияющих глаз на лице интересной ему женщины решило судьбу. Именно тот его поступок, возникший из ниоткуда и не ставивший каких-то интимных и корыстных условий, покорил Лену окончательно. Так что можно смело утверждать: расчет между тогда еще женихом и невестой был; но справедливость и в том, что не только расчету обязана была семья, с лишком двадцать лет существовавшая.
Наконец, возвратимся к настоящему. Вадим подтрунивал над женой и поглощал любимые оладушки, а Лена? О, Лена же всецело отдалась принятому добровольно страданию. «Заклинаю: не повторяй, пожалуйста, все эти ужасные звуки… Иначе я со стыда провалюсь», – умоляла только что она, получив же от Вадима иронию вместо признания неправоты, ей оставалось одно – двигаться проторенным путем.
Вадим завтракал в их кухне-столовой, сидя за их прямоугольным столом, рассчитанным на шесть персон, а если употребить раздвижной механизм, то свободно умещались восемь, несвободно – десять человек. Стол этот был весьма тяжел и нравился Вадиму, в отличие от Лены, чья тонкая кожа и близко расположенные сосудики на поверхности бедер вечно страдали синяками. Издевку мужа Лена выслушала стоя, после чего она нахмурила тонко выщипанные бровки, одновременно свела в утиную гузку едва тронутые светлой помадой губы, на уровне груди заломила кисти своих беленьких ручек, а покончив на этом с телесными манипуляциями, – отвернулась! Картина ее страданий изобразилась патетично и эффектно. Разворот был скроен таким образом, что Лена очутилась возле кофемашины и, пользуясь удобством, дождалась чашки эспрессо. Когда Лена повернулась – от обиды не осталось и следа. Полуулыбка на лице поблескивала вполне приветливо и правдоподобно, если только чуть-чуть, да и то пристально вглядываясь (или зная женский характер наперед), в этой полуулыбке угадывалась единичная капля страдания. Донести и помочь осознать не растворенную в эспрессо каплю горечи, испытанную по вине растерявшего приличные манеры мужа, Лена надеялась; прожив, однако, с Вадимчиком два десятка лет, она предвосхищала нулевые перспективы успеха. Так что полуулыбка, удерживая которую Лена присела у противоположного от Вадима края прямоугольного стола, преимущественно была приветливой, парочка тоскливых вдохов и бесшумных выдохов служили дополнением «декорации». К совместным с Вадимом ужинам Лена подходила серьезно: обязательно переодевалась и чутко следила за разнообразием нарядов, – в случае с улыбками Лена делала ровно то же самое – наряжала их. Взгляд из-под ресниц, сопровождавший улыбку, один день мог быть игривым, на другой – растерянным, на третий – исполненным обожания. Допустим, с последним ингредиентом Лена особенно не старалась, как известно предпочтительно мужчину, то есть блюдо, недосолить, чем наоборот. Обожание во взглядах, мимике и манере поведения в целом, обращенное к Вадимчику, укладывалось в положенное (если не сказать грубее – в норматив), – так или иначе, обожания происходили не чаще пополнений банковской карты. А если приоткрывать завесу супружества Лены и Вадима до конца и без лукавства, то некое отхождение от собственного правила Лена себе изредка, но позволяла. Было бы совсем уж неприлично с ее стороны экономничать для мужа улыбки в ответ на подаренные бриллиантовые серьги или путевку в Ниццу. Особенную щедрость Лена проявляла, если подарки приходились не на официальные праздничные даты, а преподносились супругом, изъявляя его личное желание, что, по ее мнению, как нельзя лучше доказывало силу его чувств, а значит, и прочность ее положения.
– Какие у тебя планы на Володькины каникулы? – как бы невзначай спросила она.
– А что? Есть предложение?
– Просто интересуюсь. Верунчик с сыном улетят в Париж.
– Верунчик, Надюльчик… Тьфу! Язык сломать можно, пока выговоришь… Ты умеешь изъясняться по-человечески? Желательно по-русски.
– Вадимчик… Вадим, сегодня меня ждут на стрижку, а на моей карте сущие копейки. Ты мог бы…
Вадим не стал дослушивать, что именно он мог, поскольку не реже раза в неделю, а зачастую вот так, во время завтрака, пополнял банковские карты жены и сына. Он бы занялся этим еще после ухода Володьки, но горка сдобренных маслом оладий пахла до того восхитительно, что едва Вадим остался в одиночестве, как разум ему отказал, командовать начала утроба. Теперь на блюде лежало всего четыре оладушка, и то лишь потому, что дышал Вадим с трудом. А через каждые пять коротких вдохов-выдохов шестой выходил особенно длинным и шумным, тогда оладушки, уже попавшие в желудок, получали возможность как следует улечься, скомпоноваться и перестать выпирать уж так сильно из живота. Откинувшись на спинку стула и предусмотрительно взяв со стола мобильный телефон, Вадим сосредоточился на банковском приложении, а буквально через полминуты воскликнул:
– Лена! Запишись к офтальмологу!
Услышав свое имя, Лена встрепенулась, взгляд ее сверкнул, но сразу потух. Вместо привычной фразы: «Всё в порядке, моя дорогая, можешь ехать в салон, заодно купи себе чего-нибудь. Я добавил на подарки. Сама понимаешь, ни минутки свободной», – Лена с трудом осмысляла новое для супружеских диалогов слово «офтальмолог» и быстро перебирала в уме накопленную годами коллекцию украшений для улыбок. Как назло, подходящий вариант не обнаружился. Странности в том, конечно, не было, если слово прозвучало новое, то и проверенного опытом украшения быть никак не могло. Похвастать мастерством импровизации самолюбие Лены остереглось. И дабы не посрамиться окончательно, спасение Лена видела в одном – искренности. Хотя даже на слух слово «искренность» воздействовало на Лену сильнее злосчастного «офтальмолога». Демонстрация истинных чувств давно и прочно из Лениных манер вышла вон (заострять внимание почему и как так вышло, если расчет меркантильный присутствовал при зарождении этой семьи лишь частично, и кое-какое уважение, хотя бы зачаточное, должно было быть, – пока не станем. Оно [уважение] когда-то, разумеется, было и даже сколько-то хранилось, но, как было уже вскользь упомянуто, Вадим при всей его лояльности к жене характеризовался не столько человеческими качествами, сколько профессией, а подробности сего мы узнаем позднее). Искренность Лены сменилась давным-давно удобством, однако настоящая растерянность была так велика, что перебороть ее прямо сию минуту и на глазах Вадима оказалось делом непосильным. Достоверно Лена знала, что имела известное влияние на супруга. В беседах с подругами она осмеливалась долголетие брака, хотя скорее не долголетие, а единственное имя в списке мужей, ставить себе в заслугу (особенно ярко такое – скажем прямо, горделивое – поведение прослеживалось на фоне и в беседах с теми мадамами, кто имели склонность плести из мужей ожерелья). Возможно, особой беды в том не было, ну что плохого, если супруги доверительны, они понимают характеры друг друга и по временам позволяют некие малые вольности не в ущерб, разумеется, общему делу. Без разнообразия душа человеческая чахнет, и чтобы избежать грехов более серьезных иногда допустимо и пошалить, склонить супруга в малозначительных вопросах на свою сторону, а после обязательно рассказать и вместе посмеяться. Однако в случае Лены осознание влияния на Вадима с годами вместо уплотнения взаимоуважением, доверием, нежной привязанностью, обрастало самоуверенностью, эгоизмом, а то и вовсе кичливостью, что совсем уж никуда не годится, если речь о супружестве.
Затруднение молчавшей жены Вадим то ли не заметил, то ли помнил о галантных манерах; он смотрел на нее испытующе и чего-то ждал. Только если ждать от женщины здравомыслия в переживаемый ею пик растерянности, то можно успеть проголодаться, а оладушки, на беду, закончились.
– Я говорю о твоих, как ты назвала, копейках! – уточнил Вадим повышенной громкостью голоса.
Лена продолжала молчать, взгляд ее был по-прежнему пустым.
– Лена, дорогая моя, очнись. У тебя четыреста тысяч в остатке! Ты полетишь на стрижку заграницу?
– Ой, снова твои шуточки, – видимо, оглашение цифр вывело Лену из оцепенения, она даже махнула на супруга ухоженной гладкой ручкой, а затем пригубила остывший кофе.
– Ничего себе шуточки, – Вадим встал и в спешке покинул кухню-столовую.
Лена застала его в коридоре, он шнуровал вычищенные домработницей ботинки.
– А как же Верунчик? А Париж?.. Я думала мы и Володька… И ты, если хочешь…
Вадим выпрямился, первым делом оценил серьезность жены, исключительно ради своего успокоения начертил воображаемый знак равенства между ее словами и мыслями, затем схватил пальто и быстро, не давая Лене очнуться, ушел.
Примечание5. Кузов (кузовок)– это короб из лыка или бересты, один из способов ношения на спине с помощью берестяных лямок.
4. Беда на четвертом этаже в четверг
I– По верному адресу подъехали? – уточнил Стас у Любы, оглядывая двор, окруженный девятиэтажками.
– Тебя что-то смущает? Вон видишь, наши толпятся, – она кивнула в сторону служебных машин…
– Вам на четвертый этаж, – подсказал полицейский, дежуривший перед входом в подъезд.
Люба поднялась первой – на лифте, Стас предпочел лестницу. Она почти вошла в нужную квартиру, в последний момент обернулась, как бы почувствовав что-то. Стас отстал, и не было похоже, что он торопился.
– В четверг четвертого числа на четвертом этаже в четыре с четвертью часа⁶… – бубнил Стас и действительно поднимался как бы с неохотой.
– Ты идешь? – спросила она, как только увидела его.
С голосом Любы он опомнился и, перепрыгивая через две ступеньки, нагнал ее за несколько секунд.
– Сегодня четверг, но не четвертое, а тридцать первое, – поправила она без тени улыбки. – Ты долго.
Он немного растерялся, он и сам не очень-то понимал, что именно бубнил и почему медлил, а пока мысленно подыскивал оправдание, Люба вошла в квартиру, и он вслед за ней. Вход в главную комнату, где мелькало всего более макушек экспертов, Любе и Стасу перегородили двое мужчин. Коридор был квадратным, достаточно широким, но не для четверых, и они встали, будто соревнуясь, – пара на пару.