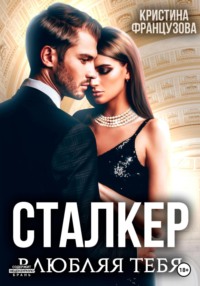Полная версия
Цивилизация «Талион»
– Любаша, ты по утрам настоящий огонь. – Он искоса посмотрел на нее, на рассыпанные по плечам рыжеватые локоны ее и повторил: – Настоящий огонь.
Оставив на руле одну руку, другую он пристроил на ее сведенных коленках. В салоне потеплело, Любаша была в форменной юбке, так что на полненькие кругленькие коленочки, вылепленные будто из слоновой кости, обтянутые шелковым капроном, а по самым свежим воспоминаниям под капроном кожа была более нежной и гладкой, и вот на прелестные коленочки лишний раз полюбоваться ему уж очень хотелось. Урезонивающий шлепок от нее получился тяжелым, в ответ на который он опять хохотнул и, вернув руку на руль, изобразил смирение:
– Я лишь пытался тебя развеселить… И ночью старался, и вообще. Хочешь, встретимся в обед, помогу чем смогу.
– Прекрати, Стас, – оборвала она его глумливые смешки.
Он предпочел бы обойти сарказм, но сам почувствовал, что не получилось, наверное, недостаточно «старался». А затем, как ему показалось совершенно беспричинно, она вскрикнула, с каким-то даже отчаянием схватилась за ручку двери и принялась ее дергать.
– Что ты делаешь?! – кричал уже он. – Покалечишься, ненормальная!
Взгляд его метался между левым и правым боковыми зеркалами автомобиля, и лишь изредка останавливался на центральном. В поисках безопасной остановки скорость Стас потихоньку сбавлял. Можно, конечно, было и здесь, точно как ехал, так и тормознуть, причем в той же полосе, а в случае скандала отгородиться удостоверением, но подобное поведение обычно Стасу претило, во всяком случае именно теперь «пожара» не предвиделось, так, женские бзики искрили, поэтому он выбрал остаться в рамках вежливости (он именно думал о себе, как о человеке достаточно вежливом) и снизил скорость.
– Я просила тебя остановить! – ругала его Любаша. Она даже потрясла в воздухе кулаком (весьма скромных размеров, чтобы надеяться на силу угрозы, но в это самое мгновение она как будто полагала иначе), еще чуть-чуть и она набросится на непослушного водителя. – Останавливайся немедленно, или я выхожу! Я сказала – сейчас же, Ордалин!
– Но как? Могу я припарковаться по-людски или ты выпрыгнешь на ходу?
– Ордалин, ты эгоист… – отчеканив по слогам, она что-то невнятное вдогонку буркнула, скрестила руки под грудью и тяжелым взглядом уставилась вперед, как бы в одну точку.
Раздалась телефонная трель; одновременно со звонком Стас почувствовал вибрацию во внутреннем кармане куртки.
– Да! Ордалин! – грозно рявкнул он в трубку, едва поднес ее к уху. – Адрес? Диктуй, я запомню. Принял, еду.
Только он завершил звонок и убрал телефон на прежнее место, раздалась новая трель, мелодичнее первой. За телефоном Любаше пришлось бы неудобно перегнуться через спинку своего кресла, потому что телефон трезвонил из сумки, а она лежала на заднем сиденье. Через диагональный просвет между передними сиденьями Стасу это сделать было сподручней, что он и выполнил, едва лишь смекнул затруднение. На звонок Любаша ответила сдержанней. По содержательности ее разговор в точности скопировал предыдущий: коротко, отрывисто, с обязательной вставкой слов адрес и еду.
– Остановки отменяются? – без намека на ехидство уточнил Стас. Мысли его сосредоточились на дороге.
Примечание
1. …наборы «ложка, салфетка, пудра» в короткий срок обросли городскими легендами, впрочем не без оснований.– Агентство «Ассошиэйтед Пресс» 10 мая 2025 года опубликовало видео с президентом Франции Э. Макроном и канцлером Германии Ф. Мерцем, снятое в купе поезда во время поездки в Киев. На следующий же день новость облетела мир. «Когда пришли журналисты, президент Франции спрятал белый свёрток, а канцлер ФРГ – специфическую ложку», – сообщил телеграм-канал «RT на русском» 11 мая. URL: t.me/rt_russian/240460 (дата обращения: 05.07.2025).
2. …производство «Патриотов» впервые стало серийным…– УАЗ-3163 «Patriot» серийно выпускается Ульяновским автозаводом с августа 2005 года. РУВИКИ – новая российская интернет-энциклопедия. URL: ru.ruwiki.ru/wiki/УАЗ_Патриот (дата обращения: 05.07.2025).
3. …«ночь, улица, фонарь, аптека»…– «Ночь, улица, фонарь, аптека…» – стихотворение Александра Блока, написанное в 1912 году, отрывок из цикла «Пляски смерти».
Ночь, улица, фонарь, аптека,Бессмысленный и тусклый свет.Живи еще хоть четверть века —Всё будет так. Исхода нет.Умрешь – начнешь опять сначалаИ повторится всё, как встарь:Ночь, ледяная рябь канала,Аптека, улица, фонарь.4. Лапидарный – краткий, ясный.
2. Молчание в больнице
IСкамейка для ожидания была новой. Пожалуй, она оставалась единственным предметом без острых граней в геометрическом помещении, – куда ни посмотри, взгляд всюду напарывался на углы, прямоугольники, квадраты. Металлическая рама скамейки была выкрашена белой краской и поблескивала под высоким квадратом, испускавшим мертвенно-бледный свет и несколько выпиравшим из длинного, почти бесконечного прямоугольника потолка. Светящихся квадратов было много, они складывались в продольную линию и ломали потолочный прямоугольник по всей его бесконечной длине пополам. Спинка и сиденье скамьи, не имея острых граней, казались практически круглыми, но они всего лишь плавно изгибались, перетекая друг в друга. Сиденье обтягивала кожа синего цвета, при взгляде на который против воли возникало чувство отторжения. Странный цвет был до безобразия неестественным (если можно так выразить отношение применительно к цвету). Темно-голубое осеннее небо, васильковых, незабудковых оттенков цветы, королевский синий, предпочитаемый в одежде женщинами, глубокий темно-синий, выбираемый мужчинами, минеральное великолепие лазурита, сапфира и некоторых турмалинов – все эти цвета более или менее понятны и оттого кажутся привычными. Но оттенок сиденья и спинки скамьи по определению именования одновременно был прост диковатым своим происхождением или того более – предназначением: не выбелен, не затемнен, не смешан с другим тоном, а еще этот оттенок был имплици́тен (скрытен), его можно было расценить за провокацию, вероятно, в известном роде это она и была, если бы не подотчетная неприязнь, которая сводила на нет провокационную дерзость. От этого синего веяло холодом; полыхающие поленья в камине, теплое одеяло с горячим чаем, знойный летний денек, объятия милого сердцу друга – ничто не укроет и не спасет. За подобным синим должна прятаться пустота, невозможно представить, чем наполнится этот синий… если только – смертью? При встрече с непонятным и чуждым мозг тотчас запускает цепь команд, порождая любопытство, желание разведать и обогатиться новым знанием, встреча же с таким синим вызывала у смотрящего зябкую дрожь в плечах и непреодолимую тягу отвернуться. Словно если продолжишь смотреть, то рано или поздно превратишься в нечто похожее: пустое и безжизненное. И тогда испуганный взгляд начнет скакать по помещению, чтобы избавиться от навязанного узнавания – так ли выглядят последние минуты, – чтобы в окружении, пусть даже острогранном, выхватить образ упорядоченного, привычного, безопасного быть может, чтобы в конце концов уцепиться за что-то и замереть в блаженной неизвестности…
По образу и подобию потолка длинная стена являла из себя похожий прямоугольник, растянутый вширь и такой же бесконечный. Начиналась стена где-то далеко влево и продолжалась далеко вправо и была выкрашена в монотонный светло-серый. Приблизительно на равном расстоянии друг от друга, преследуя определенный ритм, в бесконечный прямоугольник серой стены кто-то вставил белые прямоугольники поменьше, узкие и вытянутые по росту. Самым высоким из них оказался центральный, вдавленный в стену точно напротив синей скамейки, а влево и вправо следующие белые прямоугольники равнозначно уменьшались, по типу шеренги детишек на уроке физкультуры. Иногда ростовые прямоугольники начинали оживать, – они перестраивались, меняли свое положение, образуя прямой угол к серой стене, иногда прилеплялись к ней своей внешней плоской стороной, обнаруживая внутреннюю – абсолютно идентичную, при этом рядом образовывался еще один прямоугольник такого же размера, но уже не белый, а темный и уходящий вглубь. Так прямоугольник превращался в параллелепипед. Сердце тогда сжималось сильнее, пока без боли, но почему-то в неминуемом ожидании ее. Так происходило, наверное, еще потому, что из чрева темного параллелепипеда раздавались голоса, а внутри его границ двигались тени. Тени различались: широкие и узкие, высокие и низкие, плотные и печально мерцавшие; неизменным оставалось одно: топот их суетливых передвижений, скрипы бубнивших голосов, как бы нарочно заглушаемые жалобные всхлипы и даже стоны – слышать эти звуки было невыносимо. Появлялось инстинктивное стремление закрыть темный параллелепипед белым прямоугольником, и тогда можно было продолжать уверять себя в надежности конструкции и нерушимом порядке вещей.
На синей скамейке сидела молодая женщина, она уже просидела сколько-то времени, как будто в ожидании чего-то, а спустя долгие минуты затишья вздрогнула. Подрагивала она и раньше. Впрочем, сложно оставаться бесстрастной в окружении острых углов, прямоугольников и сумбурных мыслей. Только на этот раз конвульсия случилась заметная. Причина объявилась тут же – звуки живого плача вторглись в царство монолитных прямоугольников неожиданно и резко. Женщина обернулась на шум. Неподалеку, прислонившись плечом к стене и отвернувшись, стояла еще одна женщина. Откуда и как давно она появилась, занимавшая скамейку не знала, увидела ее только что, да и то, расслышав горестные звуки. Черненькое пальтишко длиной до середины голени скрывало невысокую фигуру. Возможно, фигура казалась низкой ввиду отсутствия головы. Не из-за того, что по неизвестной причине голова отделилась от тела, разумеется нет, если уж слышался плач, то и голова обязана найтись; впрочем, это ненужная софистика. Голова имелась, только она уж очень клонилась вниз, словно весила центнер, не меньше. В действительности таким неудобным образом женщина как бы скрывала свой плач, хотя скрывать было бессмысленно. Плечи ее, обтянутые лоснившимся дешевым пальтишком, часто подпрыгивали, за короткий срок плач приобрел силу; отрешившись от внешнего, ревушка отдалась своему занятию полностью, как если бы она лила слезы, сидя на шаткой табуретке за куцым столом квартиры-студии размахом в двадцать квадратных метров, эволюционировавших ко временам нынешним из времен коммунальных.
Первая женщина, видимо, испытала душевный порыв, – она вскочила! В резкости ее движений угадывалось непременное продолжение, развертывание порыва: бег, суета, махи руками, торопливые выкрики. Только вместо беготни она, наоборот, замерла столбом и лишь накрыла ладонью собственное горло, как если бы придушивала сама себя, – вероятнее всего, перекрывала она рвавшиеся наружу из сердобольного нутра утешение и заботу, каковые теперь (зачастую незаслуженно) обзываются вторжением в личную жизнь. Нерешительно потоптавшись на месте, покачав едва заметно головой из стороны в сторону, она все-таки сделала шаг направлением к ревушке. Следующий шаг оборвался, застыв поднятой ногой в воздухе, – мимо стремительной походкой пронесся мужчина в длинном черном плаще и обдал потоком воздуха. Новоприбывший остановился возле ревушки. Первая женщина враз как-то сникла, словно устыдилась недавнего своего порыва или, наоборот, корила себя за то, что промедлила, а теперь уж поздно. Дальше она повела себя странно, начала притопывать и кружиться вокруг своей оси, оказалось, так она принюхивалась, – мужчина с плащом принес тонкий аромат, и она ловила остатки шлейфа. Запах что-то ей напоминал, возможно, был знаком, и она выбирала из воспоминаний, что именно будоражило душу. Выражение лица ее вдруг стало разочарованным, женщина заняла свое прежнее место на синей скамье и уставилась в пол, – разглядывать опять же одинаковые и опять же квадраты было скучно, зато монотонное действие не вызовет в душе неуместных порывов. Женщина робко ежилась и прятала кончики пальцев в рукавах куртки. Голова поминутно вскидывалась и снова опускалась, – приглушенный разговор, из-за которого оборвался ревушкин плач, тревожил любопытный слух. Скорей всего женщина сдерживала себя от неуместного любопытства, однако продлилось укрощение недолго, вскоре она смотрела не таясь и с жадностью впитывала увиденное. Человеком в плаще оказался священник, и плащ был вовсе не плащом, а вполне узнаваемой рясой. Мужчина был как будто не старым, из-за бороды, густой, недлинной, оканчивавшейся у нижней шейной границы, назвать возраст точнее было сложно, что-то около сорока. Телосложение его было крупноватым, он стоял боком и осторожно приобнимал всхлипывавшую ревушку. Широкая ладонь священника белесым пятном выделялась на женском плечике, обтянутом черненьким пальтишком. Медленными движениями руки батюшка успокаивал, бубнил что-то понятное только двоим, ревушка отвечала через всхлипы и всё припадала к его груди.
Один из белых прямоугольников, расположенный в серой стене напротив притулившейся на скамейке женщины, сместился, его место занял темный зев параллелограмма, из которого вышла доктор, в характерном белом халате. Близ нее держался мальчик лет двенадцати-тринадцати с покрасневшим опухшим лицом. Следом вышли еще двое: мужчина в белом халате и женщина без халата, в обычной повседневной одежде, зато с небольшим пластиковым контейнером в руках; последняя бегом устремилась в левый конец длинного коридора, однако вскоре свернула и пропала из виду, мужчина тоже задерживаться не стал и, ни с кем не заговаривая, направился в противоположную сторону.
Занимавшая скамейку намертво вцепилась в край сиденья, на этот раз она удержала себя от порыва немедленно вскочить, только пристально и не мигая разглядывала мальчика, словно это было очень и очень важным – рассмотреть и запомнить его лицо, а в запасе оставалось всего несколько мгновений, прежде чем он повернется спиной. Сначала она отметила его нестриженые темные кудри, они тяжелым облаком окутывали его голову, закрывали уши, спускались к плечам, отдельные пряди спадали на лоб, еще она успела рассмотреть глаза, точнее опухшие прорези вместо них, щеки мальчика краснели неровными пятнами, начинавшимися у скул и спускавшимися к линии челюсти, остренький подбородок, впрочем, тоже краснел, будто его часто терли, разглядывать спортивный костюм, висевший на мальчике, как нынче модно – мешком, было уже ни к чему. Всё, что хотела, женщина со скамейки увидела, – и вот черта, несколько мгновений назад она вглядывалась в мальчишеское лицо со всей торопливостью успеть в отпущенные секунды, а едва убедилась в предположениях, то в мыслях уже с силой корила себя за то, что посмотрела на мальчика, за то, что прикоснулась к его беде, за то, что ранее дернулась с неуместным порывом утешения к ревушке, за то, что ей вообще было дело до чужих слез, а слез там было много: и женщины-ревы и мальчика. Теперь эти двое стояли вместе, ревушка, видимо, приходилась матерью, потому что беспрестанно тянула к мальчику руки, он же от любого касания, даже мимолетного, дергано уворачивался, и в конце концов, признавая за собой беспомощность, мать опустила руки уже в последний раз и больше не поднимала их. Та, кто на скамейке, перестала цепляться пальцами за сиденье, теперь она скукожилась и приобнимала сама себя, как будто пыталась унять что-то внутри, возможно, еще один порыв.
II– Елизавета Михайловна, верно?
Сидевшая на скамейке женщина вскинула голову. Над ней со строгим выражением лица, спрятав руки в карманы белого халата, возвышалась доктор, которая недавно выводила мальчика. Они обменивались взглядами долго, и будто бы таким своеобразным способом – молчаливым, но понятным обеим – приветствовали друг друга. Доктор прибавила одно слово: «Заходите» – и скрылась внутри темнеющего параллелограмма. Молодая женщина – теперь известно ее имя, Елизавета Михайловна – встала, а через два шага обернулась зачем-то, словно не сумела справиться с волнением, взгляд ее замер на синей обивке, время как бы остановилось; совладав с очередным внутренним порывом, однако, сохранив угрюмое выражение лица, Елизавета Михайловна поплелась за доктором.
Уже второй раз приходила сюда Лиза, но в этот раз уйти раньше срока хотелось сильнее, чем в предыдущий. В кабинете она сняла куртку, повесила ее на крючок вешалки-стойки, туда же определила рюкзачок и, не дожидаясь напоминания, прошла за ширму и стала разуваться, чтобы после снять джинсы. Приготовления обеих женщин проходили без слов. Одна шуршала одеждой, другая мыла руки под фыркавшей струей воды. Два человека встретились, но единственно, что нашли предложить друг другу темой для беседы – это молчание. Осмотр сопровождали безликие вопросы: болит или нет, где болит, здесь не болит, а так болит? На этом скудный разговор кончился, а молчание возобновилось, и прервать его, возможно представлялось неловким, возможно не было какого-то особого смысла, по крайней мере для одной из женщин.
Приведя внешний вид в порядок, Лиза вышла из-за ширмы и села на краешек жесткого сиденья старомодного стула, полностью деревянного, красивого, конечно, благодаря изысканно оформленной спинке с узкими прямоугольными, чуть изогнутыми рейками, но неудобного (похожими пользовалась Лизина мама, ей же доставшимися от бабушки), стул примыкал к торцевой части крашенного письменного стола, доктор сидела за этим столом и что-то писала. Пока Лиза ждала, против воли задумалась о мальчике и его матери. Наверное, даже слезы не обладают силой так точно передавать скорбь, как обращенные в пустоту руки. Мать тянулась к сыну, предлагала лучшее лекарство – материнские объятия, а он отвергал. Что бы ни произошло в их семье, какой бы горькой ни представлялась беда, один обыкновенный жест казался даже страшнее. Лизе пришла на ум церемония похорон. Вот там этих жестов насмотришься вдосталь, но вряд ли отыщется жаждущий смотреть. И Лиза тоже не хотела видеть беспомощные руки, как бы высеченные розгой и оттого повисшие; она нарочно гнала воспоминание, под воздействием мысль преобразилась, хотя несколько очерствела: «Слезы, их много. Слишком много, чтобы утешить. Взять на себя обузу и потерпеть неудачу… Каждый отвечает за себя, за свои слезы. Чужие слезы – чужое беспокойство. Ведь так? Ведь мои – неинтересны никому. Тогда к чему все эти глупые порывы? Я не хочу никаких порывов. Что они и для кого? Для меня? Для них? Что они есть, эти порывы? Кому столько слез?»…
– От вас вышел мальчик… – начала излагать Лиза не отпускавший, мучивший ее вопрос, только на первых же словах оробела, будто испугалась собственного голоса. Она прокашлялась и продолжала торопливей: – С ним случилось что-то плохое? Я не из любопытства спрашиваю. Это не любопытство и непраздный интерес, ни в коем случае. Если произошло преступление… Словом, вы и сами знаете, я могу помочь… – Она еще разок кашлянула и, набрав в легкие побольше воздуха, как бы желая сильнее видоизменить тон своего голоса или подкрепить внутреннюю решимость, выдохнула: – Я хочу помочь.
Доктор перестала писать и поверх очков внимательно посмотрела на Лизу. Затем сняла очки, отложила их рядом с записями и уставилась снова. А Лиза под прицельным взглядом уставших тусклых глаз крепилась сохранить неподвижность. Странное чувство овладело ею. Хотя не странное, совершенно не странное и совершенно понятное, хорошо Лизе известное чувство – робость. Но именно неприятие внутренней робости заставляло Лизу отвергать даже перед самой собой, что эту робость она ощущала. Доктор смотрела до того пристально, что Лиза уверилась: не только шевеления ее скованного тела, но и любые дрожания ее озабоченной мысли – оценены.
– Давайте начистоту… вам самой нужна помощь, – строго высказалась доктор.
– У меня всё нормально! – запальчиво опровергла Лиза и, догадываясь, насколько по-детски себя ведет, добавила более спокойно: – Я не просто так предлагаю помощь, вы должны понимать. Возможности мои самые широкие. А работа – это доказанное подспорье лечению, разве нет?
Лицо доктора немного смягчилось, голос утратил прежнюю отрывистость, приобрел изогнутую плавность:
– Да, я понимаю ваше стремление и поддерживаю его. Если вы чувствуете в себе желание продолжать работу – это замечательно. Наполняйте будни делами, отвлекайтесь от навязчивых мыслей. Но я настоятельно рекомендую воздержаться от нервных потрясений. Пощадите организм, он пережил стресс и нуждается не в суматохе, а покое. Переключитесь на бумажную работу. Идеальный для вас вариант сейчас – это рутина, с одной стороны, нужное вам отвлечение, с другой – минимум волнений. А этот мальчик, Антон…
– Антон, – шелестом повторила Лиза.
Краткое мгновение, миг, в течение которого недовольная гримаса доктора выдала сожаление об оплошности, но лишь на мгновение, почти сразу профессиональная строгость возобладала. Лиза даже испугалась, что больше ничего не узнает, но доктор снова заговорила, и голос ее был печален:
– К сожалению, Антон пережил то же, что и вы. Но вы взрослый человек, а он почти ребенок. Гм, тем более мальчик. Я опасаюсь возможного инфицирования, анализы взяли, но… Перед многими вирусами медицина пока бессильна, увы.
– Бессильна, – еще раз прошелестела Лиза и чуть громче спросила: – Ему лет двенадцать-тринадцать?
– Четырнадцать. Согласна, выглядит он моложе… Гм, ваше стремление понятно. Но для вас… Вам, Елизавета Михайловна, лучше заняться другим… – Выдержанная пауза была говорящей для обеих, в конце доктор все-таки настояла: – Чем-то отличным от любых проявлений надругательства.
Сердце у Лизы дернуло, будто некая прочная нить, крепившая важный орган внутри человеческого тела, оторвалась. Между ребер вонзилось что-то острое, вдохнуть стало очень тяжело. Бесшумно и незаметно – Лизе хотелось так думать – она задышала коротко и часто, чтобы выплыть из внутренней бездны, вернуть себя во внешний мир и придать мыслям (а еще голосу) твердость.
– Неважно. Преступление – есть преступление. Моя работа – расследовать. Я выполняю свою работу, это мой долг, если хотите. Впрочем, вы тоже исполняете свой. Тем более мальчик несовершеннолетний, а значит, следственный комитет в любом случае возьмет его дело под контроль. Я справлюсь, – уверенным тоном закончила Лиза, а через несколько секунд еще прибавила: – Я справлюсь, обещаю. Честное слово.
Произвела ли нужное впечатление внезапно обретенная Лизой уверенность, или доктор просто не захотела тратить силы на спор, осталось невыясненным. Вооружившись очками, доктор вернула внимание бумагам и, приступив к упражнению своего размашистого почерка, буркнула:
– Как вам угодно. – Когда закончила писать, она подняла мутный взгляд и призналась: – Многое повидала и ко многому привычная, а тут мальчишка… Мы, женщины, часто сталкиваемся с жестокостью и научены преодолевать. А он? Как он справится? Выдержит ли? Не исключено, превратится в очередного душегуба…
3. Никакого молчания, но лучше бы оно
IЭто же самое осеннее утро, последнего дня октября, прежде встреченное молчанием автомобильным и молчанием в стенах больницы, теперь же в тепленькой квартирке общей площадью сто пятьдесят квадратных метров с тремя спальнями, двумя ванными комнатами, кухней-столовой и гостиной проходило в атмосфере, обратной молчанию, тем не менее последний день октября наложил отпечаток и здесь.
– Володька! Володька! Иди завтракать!
– Он еще в ванной, Лена, не кричи. Что на завтрак? Мм, оладушки… Вкусные, наверное, мм… вот сейчас и попробую… А ты опять небось скажешь: ешь сам, а я фигуру берегу. Угадал?
– Угадал, угадал, Вадимчик. Омлет положу, подожди…
– Я не буду омлет, мам.
– А тебе, молодой человек, никто не предлагает. И где «доброе утро» для меня и матери?
– Утро. А колбасы нет? Бутербродик бы сейчас, ням-ням…
– Во-первых, холодильник слева от тебя, у него интересуйся насчет колбасы, во-вторых, мать с утра пораньше жарила оладьи не для того, чтобы ты ел всякую химическую дрянь.
– Ваши оладьи тоже дрянь. Ты знаешь, я их терпеть не могу!
– А что ты терпишь? Оладьи не терпишь, омлет не терпишь, нас с матерью хотя бы терпишь? Или мы с матерью для тебя тоже «дрянь»?! Ишь! Во отмочил! Ты слышала?.. Слово-то какое выучил – «дрянь». В школах нынче так учат? А, Лен? Ты слышала? Дрянь.
– Вадимчик, не нужно.
– Что не нужно, Лена? Почему не нужно? Ни доброго утра, ни уважения, ни благодарности, ничего от него не дождешься. На каждом шагу – дай, дай! То колбасу ему дай, то денег дай! Дай, дай и дай. Этак он треснет однажды.
– Вадимчик, ну что ты… Ну? ты чего?
– А я не потерплю за своим столом хама! Да! Это мой стол, мои оладьи и колбаса в холодильнике тоже моя! Либо наш сын уважает мой стол и мою пищу, либо нет и тогда может катиться на все четыре стороны! Ясно тебе? Чего вылупился?.. Ты хам! Учись уважать родителей или ходи голодный, понял меня?
– Володька, ну хоть ты, отец же…
– Вот, смотри! Смотри, бать! Видишь?.. Я ем твои оладьи (запихивает в рот сразу два, глотает почти не жуя)… Кхе-кхе-кхе… Доволен?