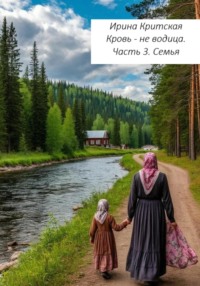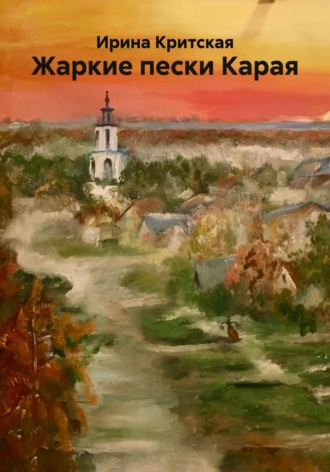
Полная версия
Жаркие пески Карая
Аленка любила это время и немного боялась его. С того случая, когда она чуть не утонула в непредсказуемых водах Карая, она сторожилась реки, опасалась немного, хотя любила по-прежнему. Тянула она ее к себе, притягивала. Лаской прибрежных струй, нежностью теплого песка, тайной стремительных потоков стремнин, ароматом желтых кубышек, загадкой фарфоровых лепестков лилий, тихим шепотом ивовых ветвей. А еще тем, что где-то там, в синей толще воды пряталась мама… Пряталась, таилась, но наблюдала за Аленкой, следила за каждым ее шагом, поддерживала, не давала упасть. Аленка чувствовала это. Она знала, что мама рядом. Всегда рядом!
Вот и сегодня она пришла к реке, к маме. Уже утих первый бешеный взрыв несвоевременного разлива, подморозило, Карай успокоился, задремал как будто, утих, смирился. Края разлившейся до самых огородов пены превратились в ажурное ледяное кружево, оно похрустывало под маленькими Аленкиными галошками, и становилось не страшно, как будто сказочно. Уже темнело, за рекой разливался оранжевый закат, он красил темные верхушки кленов и черемух в алый и бордовый, и казалось что кто-то поливает лес кровью. Но все равно было не страшно, далекие уханья филинов и зовущие голоса каких-то зверей делали мир живым и обитаемым, хотелось тихонько идти через мосток, слиться в этим сказочным миром, стать ему своей. Аленка прислонилась к теплому, нагретому за этот чудной февральский день стволу ивы, прижалась к нему всем телом, замерла, слушая. “Уггууу, ыыыы, ией-ю, фух, Угууу” – лес разговаривал с ней на своем языке, Карай отвечал журчанием и полными усталости вздохами. Плотно закрыв глаза, Аленка, как будто задремала, звуки приблизились, стали громкими, чуть тревожными. А потом вдруг стихли и тишина зазвенела тоненько, обморочно.
– Пришла, девочка… Я знала, что ты придешь. Ждала уж…
Аленка почувствовала тепло на своей застывшей руке, рука мигом согрелась, как будто она натянула варежку, ту самую, что забыла дома. А потом тепло стало еще жарче, Аленка открыла глаза, повернула руку ладошкой вверх, согнула пальцы, как будто боялась упустить этот жар, и увидела маму. Мама сегодня была еще прекраснее. Ее распущенные до пояса светлые волосы светились в закате золотом, венок из кубышек тоже казался золотым, и это теплое сияние удивительно красило ее, делало юной и нежной.
– Мама. Я хочу уйти с тобой. Завтра свадьба!
Мама чуть усмехнулась, обняла Аленку, притянула ее к себе, и они вместе опустились прямо на снег. Но снега не было. Они сидели на полянке, сзаросшей цветами, пахло летними травами и немного сеном, а еще, почему-то черемухой.
– Нет, Ленушка. Это не твоя пора. Ты все время бежишь, торопишь время. Торопыга.
Аленка положила голову маме на колени, жмурилась от удовольствия, замирала от ласки теплых пальцев, перебирающих пряди ее волос.
– У тебя, Ленушка, волосы мои. И глаза… Ты очень похожа на маму, вот только ты счастливой будешь, не то что я. Я знаю. А свадьба…
Она помолчала, собрала Аленкины волосы, заново заплела их в косу, коснулась губами темечка.
– Свадьба, это хорошо. Не так трудно папе будет, полегче тебе. Она хоть и наделала дел, но вам верной будет, женой хорошей, тебе матерью доброй. Ты не торопись.
Аленка молчала и слушала. У нее уже не болело так в груди при мысли о Софье. Она смирилась. Ей стало тепло и радостно. И она…уснула…
…
– Господи, дочка! Да что ж ты делаешь со мною, девчонка ты злая. Я ж чуть не помер, все село обежал, как пес. Ремнем бы тебя, бессовестная! Хорошо баба Клава подмогнула, навела. А то б не нашел.
Из радостного и теплого сна Аленку выдернул испуганный батин голос. Он тормошил ее, тер щеки, кутал в свой полушубок, причитал, как тетка Мила. И голос у него был тоненький, жалобный и срывающийся.
…
А зима снова вернулась в село. Утро даже и не было утром – свинцовое небо опустилось на крыши, с серых туч срывались заряды снега, и только прижавшись носом к стеклу можно было увидеть, как бело стало вокруг. Аленка, сев на кровати, натянула одеяло по самые уши, казалось, что метель ворвалась прямо в дом и шурует в кухне, гремит кастрюлями. Батя нервно теребил что-то на шее, и Аленка, присмотревшись, поняла – он пытается завязать галстук на белоснежной рубашке.
– Вот ведь черт! Говорила Соня, что б я узел не развязывал, хорошо же она наладила. А я, дурак! Аленк! Что делать -то?
Аленка хотела было подбежать к бате, попробовать хоть что-то сделать, но из кухни пулей вылетела тетка Мила, потыкала пухлыми колбасками пальцев у бати под подбородком, хыхыкнула.
– Ну вот! Как новенький! Спиджак помочь надеть, женишок? Давай, быстрее, а то у меня тесто поперло, сбежит. Ишь, красавец!
Батя смущенно оттопырил руки назад, тетка напялила на него пиджак, и так же мухой улетела в кухню. Правда, на пороге остановилась, крикнула в сторону Аленки
– Вставай, копуха! Там братан твой с моей Машкой уж упыхались, стол накрываючи. Помогай иди. Некогда вылеживать.
Тетка скрылась в кухне, батя, кхекнув, убежал следом, а Аленка вдруг подумала… Первый раз за всю жизнь он не обратил на нее внимания. Совсем. Никакого… Она встала, потянула платье, которое ей вчера принесла Софья, и, надев его кое-как, встала перед зеркалом. А там отражалась глупая растерянная девчонка со всколоченными волосами, в зеленом платье с растопыренными оборками, жалкая и одинокая. И у нее на тоненькой шейке чуть светился крошечный кулон – речной цветок маленький и скромный.
Глава 10. Повозки
– Вот ведь ерпыль*, все не как люди, посреди зимы ожениться решил. Холодрюга, кони стынут, куда там. А ты, свербигузка*, что растопырилась-то. Надевай пальту, да иди конфет на телеги накидай, чем шашу* вершить будут, олухи, ничего не помнят-не знают.
Бабка Динара пихала Аленку в бок сушеной лапкой, похожей на куриную, да больно пихала, сильно. Одной рукой толкала, другой совала ей здоровенный кулек из грубой коричневой бумаги, из которого торчали хвостики разноцветных фантиков. Сколько ей лет, какого она роду-племени толком никто и не знал в селе, говорили, вроде казашка, судачили, что ей сто лет уж, и даже больше перевалило, но старуха была бодра, весела, и совала свой короткий нос-картошку везде, все знала, во всем разбиралась. Почти спрятавшийся в складках задубело-смуглого лица рот улыбался, но в узких, черных, как ночь глазах улыбки не было, правда, может быть ее было не видно из под огромных, толстых очков. Как она попала к ним в дом именно сегодня – неизвестно, хотя не попасть куда-нибудь, а особо на свадебку бабка просто не могла, она находилась везде одновременно. Аленка нехотя взяла у старухи кулек, положила его на лавку, потянула к себе пальто
– БабДин, мне тетя Мила велела к Проклу идти, там им помочь надо. Куда я на улицу – то?
Бабка подпрыгнула, как вспугнутая наседка, да и глянула так же – остро, настырно, немного зло
– К Проклу? Ишь ты, зернышко. Не проклюнулось еще, а уж росточки тянешь. Бери кулек, беги к телеге, да и еще вернись. Три кулька тут, везде распихать надо. Да платок повяжи!
Аленка послушалась, натянула пальто, поплотнее повязала платок и потащила тяжеленный кулек на улицу. Но когда пробегала мимо зала, заглянула. Длиннющий стол, накрытый вышитыми скатертями тянулся от стены к стене, казалось нет ему ни конца ни края. И он ломился от наставленных тарелок – все стояло сплошь, впритирку, наверное между блюдами и ножа было не втиснуть. Вдоль всей этой красоты бегали бабы – но Аленка на них даже не посмотрела. Она увидела только Машку. Та, раскрасневшаяся так, что щеки отливали свекольно и блестяще, навалилась всем телом на угол стола, на котором еще ничего не успели поставить, распластала телеса по скатерти, а напротив стоял Прокл, тоже красный, как рак. Они держали за концы длинное полотенце, тянули каждый к себе, а Аннушка – одинокая вдовушка веселая и разбитная, хлопала Машку по круглому заду и кричала звонко
– Сильнее тяни! Сильнее! Что салом трясешь, большая ж девка! Мятое положили, бесстыжие, расправляйте, старайтесь. Ишь, телепни.
А когда, напрягшись так, что все ее не худенькое тело вытянулось в струнку, Машка выдернула из рук оторопевшего Прокла полотенце и полетела в сторону, как камешек из пращи, поймала ее, отобрала полотенце и что-то стала нашептывать прямо в розовое ухо. А Машка слушала, прищурив маслянистые глазки и похрюкивая.
…
На улице стояла невесть откуда взявшаяся прекрасная погода. Как всегда в феврале небо меняло свое настроение враз, неожиданно, безо всякого предупреждения. Только недавно валил снег, срывался колючий мокрый ветер, и вдруг как будто кто-то открыл заслонку. Вернее, распахнул створки окна, сначала отдернув серые тяжелые занавески, и там, в небесном окне рвануло яркой голубизной, ослепив, и даже, почему-то, оглушив. Аленка даже остановилась на крыльце, у нее заслезились глаза от этого белоснежного снизу и голубого сверху, она глотнула воздух, пахнущий лимонадом – точно таким, как батяня привозил из Мучкапа, и на мгновение даже забыла, куда бежала. Но дурацкий кулек тянул ей руки, она поудобнее перехватила ношу, скатилась с крыльца и побежала к лошадям. А там…
Такой красоты она даже не ожидала. Три повозки, не телеги, а именно повозки, укрытые яркими коврами, украшенные красными бумажными пионами и георгинами, стояли у дома. В них запрягли белых лошадей в расшитым попонах, и у каждой на голове красовался венок из шелковых ромашек и ландышей. Аленка постояла, раскрыв рот, потом подергала за штанину какого-то мужика, стоящего в повозке к ней спиной. Мужик обернулся, сверкнув белоснежной улыбкой и Аленка узнала Санко – соседа цыгана, веселого раздолбая и гитариста.
– Чего тебе, кагнори́? Вишь, народ работает?
Санко отнял у Аленки кулек, потом наклонился и втянул ее в повозку, как будто она и вправду была цыпленком маленьким и невесомым. Усадил на скамью, сыпанул конфеты в разрисованную красками коробку, свистнул углом рта – звонко, аж уши заложило
– Эй, Джура! Запрятался там, стервец, греешься? Иди, кульки девчонкины притащи, а не то ее бабка загоняет конфетами этими. А птичку эту – вон, как ниточку перервать можно.
Аленка радостно вертела головой по сторонам, и даже не заметила, как рядом очутился смуглый лохматый паренек. Он зыркал на нее исподлобья, как соседский козлик, и, если бы не веселая ухмылка, которую он сдерживал, Аленка бы подумала, что он сердится. Паренек сдвинул чудную высокую шапку на затылок, поправил мохнатую безрукавку и сиганул через край, мягко опустился на снег и рванул к дому.
– Сатаненок. Мамки нет, так он и балуется… Хоть вожжами дери.
Санко говорил куда-то в сторону, туда, где мужики обихаживали соседнюю повозку, но Аленка слышала и представляла, как этого чудного Джуру лупанули вожжами вдоль спины, а он взвизгнул, вскочил на коня и умчался прочь.
…
– Давай, дочушка, со мной садись, ехать пора. А то опоздаем же, нехорошо.
Батя ледяными руками вцепился в Аленкины кисти, тянул ее к себе, усаживая рядом, и Аленка видела, как он боится. Бледный, как стена, в новой меховой шапке, которая ему совсем не шла, и в какой он был похож на соседского Полкана, в тесноватом пальто с мохнатым воротником, он казался чужим и далеким. В руках у него был сверток, блестящая бумага сверкала в лучах по весеннему теплого солнца, он ерзал на сиденье, глядя в сторону. Тетка Мила подпирала его с другой стороны, напротив сидел прямой, как палка Прокл, а рядом с ним Машка в новой шубейке и белом платке в незабудки. Она облизывала такой масляный рот, как будто только что наелась сала, от нее пахло чесноком, капустой и сиренью. Батяня сунул сверток Аленке, поправил шапку, засипел, как простуженный.
– Меланья! Что там за выкуп еще, сваха говорила? Может хватит в игрушки -то играть, не девица Софья-то, куда нам. И чего мы по кругу поехали, нельзя было через двор что ли пойти?
Тетка Мила сморщилась, как от зубной боли, прошипела тоненько
– Не положено. Все будет как надо. Сиди и не трепыхайсь.. И не Меланья я. Мила, сколько раз говорить?
– ерпыль – торопыга
– свербигузка – непоседливая девчонка
–кагнори – цыпленок
–шиша – казахский праздничный обряд, когда кидают в толпу монеты, конфеты, пряники. Очень распространён был и в сёлах по берегам Карая
Глава 11. Выкуп
Повозка, в которой сидел жених браво пронеслась по узкой прибрежной улочке, пролетела мимо старой черемухи, наклонившейся над самым склоном, вырулила, чуть не свернув к берегу, но кучер вовремя опомнился, натянул вожжи, и притормозил у небольшого домика, в палисаднике которого росли три вишни. В этом доме жила тетя Аня, батина сестра, он был точно напротив их, соединялся задами огородов, и по тропке, ведущей вдоль “картох” Аленка всегда бегала на пляж купаться. Пробежит свой двор, потом по огороду, нырнет в теткин Аннин малинник, потом по саду – вот и ее дворик, маленький, уютный, заросший розами и флоксами, со смешной будкой Полкана, на которую кто-то прилепил флюгер. А там и калитка, толкнешь ее и несись, сломя голову, по небольшому склону к реке, скидывая по дороге опостылевшие сандалии, куная усталые ноги сначала в прогретую пыль дороги, а потом в горячий песок. А потом падай прямо в студеную воду, замирая от сладкого ужаса – вода в Карае никогда особым теплом не баловала, быстрая, чистая, в любую жару обдавала прохладой. Но сейчас до лета было далеко, двор замело февральским снегом до низких окошек дома, но тропинка была прочищена. А как же… Жених к невесте приехал, не из бани же ее забирать. Аленка не стала дожидаться. пока батя вылезет, как медведь со своей лавки, бесстрашно сиганула в протянутые руки Прокла, глянула мельком, как он тащит вниз Машку и побежала во двор.
В распахнутой, украшенной гирляндами белых сатиновых ромашек и шелковых роз (тетка Анна была мастерица искусственные цветы делать, все село ей заказывало и на свадьбу, и на крестины, и на похороны), перегородив проход тучным телом стояла баба Клава. Вокруг нее, как оса вокруг куска мяса вилась Любка, на лавке у палисадника, взобравшись на нее с ногами подпрыгивала Лушка, а у стола, выставленного прямо на улицу, накрытого белой скатертью топталась Катерина. Впрочем уже пол села толпилось вокруг, всем хотелось посмотреть, как чудаковатый вдовец Алешка будет невесту немолодую выкупать.
Аленка подбежала к лавке, стянула Лушку вниз, шепнула на ухо.
– Что будет- то? Батя, вон, белый со страху, места себе не находит. А там что?
Лушка покачала круглой головой, пискнула.
– Дурочка ты, Аленк. Все ж знают. Невесту выкупить надо, денежки за нее отдать. Коль денег хватит – ее в жениху выведут, ему чарку нальют и хлеб дадут. А коль нет – погонят метлою. Гляди!
Она отдернула Аленку в сторону, потому что батя шел по расчищенной дорожке прямо к столу. А из толпы выскочил его друг дядька Петр – длинный, как жердь, сутулый, но с лицом, как у артиста из газеты, в модном пальто с воротником и блестящих ботинках. Он ухватил батю за локоть, остановил, а сам гоголем пошел вперед, напирая на Катерину мощной грудью.
– Ну… Сколько хочешь, девка? Цену-то не ломи, женишок у нас не из царев!
Катерина хихикнула, подтерла мокрый рот варежкой, и от нее пахнуло водкой и колбасой.
– Много не мало, а невеста у нас пион алый, роза розовая, ромашка белоснежная, такой красоты твой женишок и не видывал. Давай. Не скупись, Петруша.
Что было дальше Аленка не видела. Во-первых стол загородили спинами, а во-вторых чья-то цепкая рука ухватила ее за воротник и протащила сквозь толпу в палисадник.
– Ты ж моя сладкая, внучечка родная, горькая моя. Пошли в дом, что на холоду топтаться, я тебе пирожка с яичком дам. Выросла-то как.
Аленка, ошалев, смотрела на бабушку. Та теребила ее за щеки, чмокала в нос. поправляла платок, говорила быстро и звонко. Аленка бы ее и не узнала, увидев на улице, бабушка была одета по-городскому, черная блестящая шубка отливала шелком на солнце, пушистый серый шарф искрил при каждом движении ее маленькой головы, потом вдруг сполз назад, открыв гладко причесанную голову и оттопыренные уши с золотыми сережками – кольцами. Бабушка выглядела молодой, у нее были накрашены красным узкие губы, а черные глаза подведены с вискам тонкой острой линией, и от нее пахло остро и сладко.
– Пошли, пошли, горемычка моя. Я тебе там платьишко привезла, сапожки теплые. Оденем, королевна станешь.
Оттолкнув толстую Катерину бабушка протащила Аленку в дом к Анне, сняла с нее в жарко натопленных сенях платок и пальтишко, подвела к низенькому и плотному, как пень дядьке. У дядьки светилась и отливала лаково лысая голова, круглый живот с трудом держался на ярких подтяжках, а круглые без ресниц глаза напоминали глаза петуха Яшки.
– Дедушка твой новый. Михал Сергееич. Он тебе шоколаду привез, настоящего с Балашова. Давай, не дичись. А то рассердится, с собой тебя в город не возьмет.
Аленка, открыв рот, смотрела, как Михал Сергеич роется в кармане необъятных штанов, несмело взяла из его толстых потных пальцев мятую шоколадку и вопросительно глянула на бабушку. Но та уже отвлеклась, забыла про внучку, рванула вперед – из-за печки вывели невесту.
Софья была похожа на сказочную бабочку. В светло-голубом платье, сплошь расшитом кружевами, она казалась совсем юной, трогательной и пугливой. Волосы, свободно зачесанные назад и убранные в пышный узел были кое-где украшены мелкими голубыми цветочками, то ли незабудками, то ли фиалками, сережки в виде таких же цветков, только крупнее удивительно красили ее нежное смуглое лицо, вот только всю эту красоту портил взгляд. Смотрела она напряженно и странно, как будто видела что-то такое, чего Аленке было видеть не дано. Увидев девочку, она улыбнулась, пошла было навстречу, но две Лушкины сестры, которые держали ее под руки не дали двинуться, задержали.
И тут в комнату ворвался дядька Петр, у него было красная, как пасхальное яйцо физиономия, он приплясывал и кричал.
– Давайте нам бумагу, которая не писана, не читана!
Тут как-то все замолчали, затихли, сестры разом отпрянули назад напуганными лошадьми, но дядька Петр не растерялся и снова заорал.
– Ну-ко, свашенька, давай хлеб-соль!
И тут выскочила бабушка, ткнула дядьку в грудь, ухватила Софью за руку, подвела ее к совершенно уже посиневшему бате и громко, четко сказала.
– Вот, отдаю тебе эту красавицу, держи ее честно-благородно, много не спрашивай. Христос с вами!
Батя взял за руку Софью, краска разом хлынула ему в лицо и он стал бордовый и мокрый. Сестры пришли в себя засуетились, зашептали.
– На ногу, на ногу ей ступай. Что стоишь, как пень?
Батя аж всхрапнул, тихонько, носком ботинка прикоснулся с лаковой туфельке Софьи, и от волнения уронил сверток.
И в ту же секунду кто-то выстрелил на улице из чего-то громкого, потом еще и еще, а Софья покачнулась, уперлась рукой о печку и заплакала.
Глава 12. Отъезд
– Ты, детка, сегодня со мной у тети Аннушки ляжешь, папе и маме нужно одним побыть, у них праздник большой. Да и разговор у меня есть, ты девочка умная, должна понять. Надевай шубку, что я тебе привезла, сапожки, пошли.
Бабушка шептала жарко, притянув Аленку к себе, она крепко держала ее за плечи, и от ее узкого синеватого рта со стершейся помадой пахло холодцом и вином. Михал Сергеич стоял за ее спиной, как столб, только вот у столба не бывает такого пуза, да и роста чуть повыше стола. Поэтому, он был, скорее, не столб, а пень, только широкий, кряжистый, как от дуба того, что в том году в дубраве за Федоровкой молнией свалило. Он ловил каждое бабушкино слово и при этом раскрывал рот, и Аленке казалось, что он их ел – слова эти бабушкины, лопал, причмокивая и щурясь от удовольствия. Аленка выпростала плечи из цепких бабушкиных рук, отошла на шаг в сторону, буркнула.
– Никакая она мне не мама. У меня есть мама.
Она помолчала, чувствуя, как тяжелеет горло и щиплет язык и глаза, но справилась, вскинула упрямо голову, сказала тихонько.
– Была. Мама! И есть!
Пенек за спиной бабушки вдруг ожил, покрутил круглой головой, поднял руки – обрубки, тронул жену за локоть, пробасил.
– Зачем ты, кисуша? Пусть мамку помнит, а Софка ей мачехой числится. Нельзя так уж сразу. Свыкнется. Не спеши, Зинушка.
Бабушка фыркнула и вправду, как кошка, сердито глянула через плечо, но промолчала, не спорила.
– Ладно. Давай, Алена, идти надо. Молодые спать собираются.
Аленка послушно разрешила натянуть на себя что-то легкое и пушистое, сунула ноги в тепленькое нутро красивых, расшитых серебристыми узорами сапожек, позволила бабушке надеть на голову шапочку-капор с такой же, как на сапожках вышивкой, и, увидя в мутноватом зеркале нарядную девочку в красивой одежде вдруг почувствовала странное и сладкое удовольствие, как будто проглотила ложку любимого гречишного меда. Бабушка не стала ее торопить, встала позади, смотрела тоже в зеркало, а потом вытащила Аленкину косицу, перекинула ее вперед, так, что она утонула в густом мехе беленькой шубки.
– Красотка. Маленькая куколка. А то все в валенках да пальто старом. Пошли!
Аленка павой поплыла вперед, и, проходя мимо Машки, которая уже ошалела от кокетства с Проклом и швыряла осоловевшим взглядом туда-сюда, не попадая в цель, остановилась, выпятила бочок, поправила край капора. Машка остановила на ней свои лупалки, потом опустила их вниз и замерла, разглядывая диковинные девчонкины сапоги. А Аленка подплыла к Проклу, потянула его за рукав, заставив наклониться.
– Проводи нас по огороду. Бабушка не знает дороги, а я боюсь, темно.
Прокл усмехнулся, поправил бантик на Аленкином капоре, сказал ласково.
– Ишь, Лягуша-хитруша. Небось, конфет со стола натаскала, вот и тяжело сумку тащить. Ну, пошли, провожу уж. Мне все равно до дому идти, да и Машке пора.
Машка подскочила, сунула ноги в валенки, радостно похлопала своими коровьими ресницами, запищала, как удавленная мышь.
– Сейчас, Проша. Только мамке скажу.
А Аленка подумала – хорошо бы взять вот ту чашку с вишневым киселем, да влепить поганой Машке по хихикающей физиономии. Может быть, тогда бы она не таскалась за Проклом, как тележка за вагоном.
…
– Ты, деточка, в Балашове будешь в хорошей школе учиться, не то что в этой деревне. Музыкам тебя обучим, художествам всяким. Дедушка везде друзей имеет, лучшие учителя у тебя будут. А папа к тебе в гости приезжать станет, каждую неделю, он обещал. Ты же умница, не упрямица? Понимаешь, что папе надо новую жизнь начинать, а с тобой трудно. А, красоточка?
Аленка лежала, утопая в душной перине, и ей казалось, что она качается на волнах. Бабушкин голос раздавался далеко, был незнакомым и чужим, маленькая комнатка в доме тети Анны вдруг сузилась до размеров собачьей будки, а в крошечное окно светила луна, похожая на перламутровую пуговицу. Аленка вообще не понимала, что говорит бабушка, почему так некрасиво раздвигаются ее тонкие губы, показывая желтоватые острия редких зубов. Каким музыкам? Художествам еще… Завтра братик Прокл отведет ее в школу, у нее там Лушка, Ксения Иванна – зачем ей какие-то другие учителя. А луна качала своей головой-бусиной, как будто укоряла Аленку за что-то…
…
Чемодан был таким огромным, что Аленка вполне могла бы спрятаться за ним, и даже не очень приседать, так – чуть наклонить голову. Мачеха, наверное, сложила туда все Аленкины пожитки, до последнего пупса – того самого, любимого, с облупленной лысой головой. Прокл, крякнув, приподнял чемодан, покачал головой, но видно было, что этому медведю такая ноша по плечу.
– Давай тебя, Лягуша, туда сунем, как раз поместишься. А я попру заодно уж, чего ногами зря грязь месить. Вон, до вокзала не дойдешь, грязину развезло по уши. Залезешь?
Аленка дула губы. Ей совсем не хотелось в этот проклятый Балашов, к этой чужой бабушке и пню – новому деду. Но мысль о том, что она поедет с Проклом, да на поезде, согревала ее душу и примиряла с отъездом. Вот только батю было жалко – как он теперь с этой “жаной”, как называла Софью толстая Катерина. Аленка подошла к бате, растерянно стоявшем на крыльце, успокаивающе погладила его по руке.
– Не грусти, бать. Скоро уж каникулы, а на каникулах баба Зина обещала меня домой отпустить. Полтора месяца всего. Сорок пять дней, Ксения Иванна сказала. Потерпи.
Алексей растерянно гладил Аленку по голове, бубнил в сторону Прокла.
– За руку ее держи, не отпускай. Да в поезде около себя только. Ишь ты – провожатый… Сеструха она тебе, теперь, помни. Братец…
…
Всю недалекую дорогу Аленка проспала, прижавшись щекой к твердому плечу Прокла. Тот боялся пошевелиться, сидел, выпрямив спину, смотрел перед собой, изредка скашивая взгляд в мутноватое окно. И лишь когда замелькали высокие окна серого здания, украшенного редкими шпилями и какими-то полосатыми штучками, он аккуратно двинул плечом, потеребил Аленку, зажужжал шмелем.