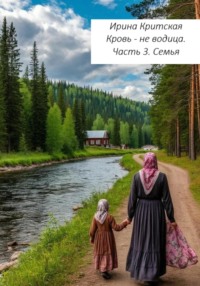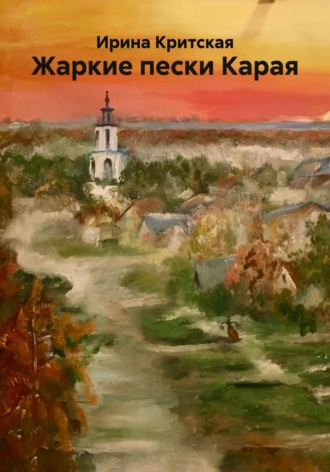
Полная версия
Жаркие пески Карая

Ирина Критская
Жаркие пески Карая
Глава 1. Батя
-– Чудушко, детка… Ты куда спряталась, дочушка, давай-ка домой, помоги папке. Гостья у нас. Алееенушка…
Голос отца был ласковым, впрочем Аленка никогда и не слышала его другим, сколько она себя помнила, добрее ее папы не было на свете. Но она этим и пользовалась, на нее находило иногда упрямство – нет и все! Вот и сейчас, услышав голос отца, она соскользнула с нагретого солнцем камня, наполовину утонувшего в теплой воде залива, тихонько, стараясь не шлепать босыми ногами пробралась к берегу, ящеркой шмыгнула было к иве, опустившей до самого песка свои грустные ветви, решив спрятаться под ее шатром, но не успела. Отец, как медведь, прохрустел сухими ветками в терновых зарослях, и высунул седоватую бороду, а потом вылез весь, сердито шевеля косматыми бровями.
– Здесь опять, озорница! Вечор тебе наказывал не ходить одной на реку, а ты прям в воду. Вот, теля бестолковая, неровен час соскользнешь, да в быстрину, а там омуты. Я что тогда делать-то буду? Алена! Поди сюда!
Аленушка неохотно раздвинула ветви, вышла на песок, сморщила конопатый носик, но к отцу пошла, послушалась.
– Я, батя, в воду-то не лезу. Я на камушке грелась. Там знаешь, как рыбки вертятся, прямо карусель, как на базаре. Смешно!
Алексей, кряхтя (уж очень болели кости сегодня, не иначе на дождик, вон оно небо, как насупонилось, аж черно за рекой) подошел к дочери, собрал рассыпавшиеся по худеньким плечам густые пшеничные пряди, покачал головой.
– Опять волосья распустила, балованная стала. Лента где твоя? По деревне пойдешь так, бабы потом языки стешут. Дай, повяжу.
Аленка вытащила ленту из карманчика сарафана, терпеливо ждала, пока отец заплетет ей косу, и мечтала. Она сегодня снова представляла себя русалкой. Хорошо, успела из волос кувшинку вытащить, да бросить в воду, а то батя бы отругал – уж очень он не любил эту игру. Ругал за нее. “Нечисть это, дочушка, русалки твои”, – говорил, – “А ты должна Бога чтить. Нехорошо”.
Аленка мать не помнила. Ей казалось, что они всегда с батяней вдвоем жили, никого другого в их хате отродясь не было. Правда, приезжала пару раз бабушка – худющая, высокая, злющая, настоящая оса с длинным острым носом-жалом, в чудно намотанном платке на некрасивой голове, их под которого торчали черные, аж угольные волосы без единой седой искорки. Она вглядывалась в Аленку острым немигающим взглядом, крутила её, мяла, шипела бате.
– Ты глянь, дурень. Я черная, отец твой, как цыган, да и ты в нас удался, смоляной. А она белесая, да еще с рыжиной. Как бы не твоя.
Аленка не понимала, как это она могла быть не батянина. А чья же? Он что, ее у чужих забрал, присвоил, как тетка Катерина чужого козленка, которого нашла в посадках? Глупость какая! Аленка даже помнила, как батя качал ее в кроватке. Всегда она была с ним. Так что пусть бабка не говорит, чего не понимает.
И лишь раз, копаясь в батином чемоданчике, который он запрятал на чердаке, она вдруг усомнилась, что больше с ними никогда и никого не было. Потому что с маленькой фотографии в резной деревянной рамочке, заботливо замотанной в тряпицу, на нее смотрела большеглазая женщина с косой, перекинутой на высокую грудь. У нее также вились кудряшки вокруг лица, как у Аленки, и даже на этой мутной фотографии было видно, какие густые и светлые у нее волосы. И смотрела она так на Аленку, что у нее защипало в носу – нежно, ласково, как будто хотела поцеловать. И Аленке тоже вдруг этого захотелось. И, не удержавшись, она коснулась фотографии губами, и ей показалось, что кто-то сзади подошел, положил теплую ладошку на ее темечко, погладил нежно, приласкал. А в старом пыльном зеркале, прислоненном к темным доскам чердачной стены, мелькнули большие серые глаза, они смотрели ласково, с любовью. Аленка обернулась – но никого не было, лишь легкий сквознячок, прорвавшись сквозь щели, озорно шевелил сухие листики прошлогодних березовых веников.
…
– Ты, Аленушка, чаю поможешь сделать, а то мне неловко, вдруг что не так. А у тебя ручки умелые, лучше тебя никто не заварит. Да и…
Алексей постеснялся сказать дочери, что он боится один принимать ту гостью. Уж больно мать настырно советовала – знакомься, да знакомься. Хорошая-красивая, да вот нужна ли – им с дочушкой и так хорошо вдвоем, вторгнется, как тать, и все сломает. А у Аленушки сердечко чуткое, ее не обмануть, сразу зло видит, у нее аж облачко на лицо светлое наползает, если что не так. Отвадит…
У дома уже стояла запряженная в крытую повозку лошадь. Повозка была нарядная, крытая ковром, прям, как у цыганей, Алексей даже испугался, уж не из табора ли та любава, уж больно имя чудное. Он подошел к повозке, похлопал взмыленную лошадь по холке, распряг, повел к сараю.
– Поить не буду, ишь, запарили животную. Потом выйду. А ты ступай, Алена, поприветствуй гостью.
Аленка открыла дверь в сени и разом столкнулась с гостем. Именно гостем, не гостьей – в сенях топтался здоровенный парень, с плечами почти от стены до стены, с темно-каштановым чубом, карими смешливыми глазами и пухлыми, как у девчонки губами. Аленка отскочила было, но вспомнила, что она хозяйка в доме, встала, подбоченившись, по боевому откинула косу назад, звонко крикнула
– Ты кто? Что сюда забрался, уж я тебя сейчас граблями. Небось, яблок залез наворовать, знаю я вас.
Парень чуть отшатнулся в сторону, потому что эта шмакодявка всерьез шарила за спиной, нащупывая грабли, а она хоть и мелкая, а шарахнет по ногам, беды не оберешься.
– Да окстись, Алена. Я ж Прокл, с мамкой приехал в гости. Не трожь грабли-то. Воды вышел попить, вас уж час как нет. Жарко.
Аленка чуть расслабилась, отпустила уже нашаренное грабловище, хмыкнула.
– Шаришь тут, как медведь. Мне батя не говорил, что у нас гость, говорил – гостья! Вот ведь!
Прокл улыбнулся, и от его белозубой улыбки в сенях даже светлее стало, как будто солнышко заглянуло. Коснулся локтя Аленки горячими пальцами, шепнул.
– Боевая какая, а, как воробышек. Есть и гостья. Мамка там, в доме, заждались уж мы. Пошли.
Худенькая женщина с забранными в тяжелый узел темными волосами, стояла у окна, глядя на улицу. Аленка удивленно подумала – надо же, без платка… Правда, вокруг узла волос была намотана какая-то ткань, расшитая бусинами и бисером, аж сверкала на солнце. Да и кофта у женщины выглядела непривычно – очень узкая в талии, расклешенная к бедрам, она широкими складками ложилась на прямую юбку, а та, в свою очередь расширялась книзу, красиво падая к маленьким ступням. Женщина повернулась и улыбнулась, у нее была такая же светлая, белозубая улыбка, как у парня, но глаза не такие – темные, как ночь.
– Здравствуй, Аленушка. Меня зовут Софья… А где твой папа?
И от этого вопроса, от этой улыбки и пронизывающего до костей взгляда у Аленки неприятно засосало под ложечкой, а по позвоночнику побежали острые мурашки, как будто кто-то насыпал колючек.
– До дворе батя. Лошадь вашу обихаживает, загнали вы ее. Будет сейчас.
И пошла мимо, как будто и не было этой Софьи, загремела чайником у печи, но где-то посреди спины, между лопаток чувствовала горячий уголек – на нее смотрел, чуть прищурясь этот дурной здоровенный Прокл.
Глава 2. Чиги
– Бесстыжая. Приперлась сама к мужику одинокому – бери меня, мол, вот она я. А говорят люди, мужик ейный живой, тока она от него сама ушла. И Бога не боятся такие, греховодники. А сама – прям цыганка, черная, уголь пережженный.
Аленка стола позади тетки Катерины и, спрятавшись за ее толстой спиной смотрела на пряники. Матвей-лавочник, видать только их привез из города, они лежали в красивой коробке под прозрачной маслянистой бумагой, и их мятно-сладкий дух наполнил всю лавку, кружил голову, лишая воли. Еще бы немного и Аленка не удержалась, схватила пряник, не дожидаясь своей очереди и впилась бы зубами в мягкий пахучий бочок. И мятная сахарная глазурь хрустнула бы, и свежая сладость залила бы ее рот, заставив замереть от наслаждения. Но Катерина двинула задом, как лошадь в которую вцепился овод, сделала шаг назад, сдвинув Аленку в сторону, и стало видно, что тетка там рассматривает. Матвей развернул перед ней сказочно красивый шелк – нежно-голубой, как сегодняшнее небо, переливающийся на солнце серебристыми нитями, а легкий такой, что, наверное даже небольшой сквознячок может сорвать его с прилавка, поднять в небо, и потом никто не найдет его – как будто он там и был. И лишь тоненькая вязь из темно-синих незабудок, окруженная серебрянной мережкой по краям ткани разрушала морок, давая понять, что это все-таки шелк – не небо. По другую сторону очереди около тетки стояла Любка – мелкая, как Жучка – соседская собачка, с такой же кудлатой головой, как у псины, и с ее куделей вечно спадала плохо стиранная косынка. Из расшитой маками кофты выпирала вперед мощная грудь, а неожиданную мощь коротких ног подчеркивала узковатая юбка. Любка часто кивала головой, вторя Катерининым словам, вздыхала, норовя погладить заскорузлой ладошкой шелк, но боялась, цепляла заусенцами ткань и дрожала редкими ресницами, дышала часто, как та же Жучка.
– Да ну, Катерин, какая цыганка. Она с Хопра, чига*. Вроде казачка, а акает, да лапти носит. Хоть в дому, а носит, лапотница. Гордячка.
Катерина всплеснула руками, кивнула Матвею, который уже отмотал шелка с версту, зашипела гусыней.
– Пссссс. Какая гордость, сама явилась. И осталась с мужиком незнакомым, да при дитях. Чига она и есть чига, с печкой на всю избу. Куда там – казааачка. Чучело!
Любка вдруг дернула своей кудлатой головой и даже подпрыгнула, стараясь заглянуть за здоровенное Катеринино плечо, и разглядела Аленку. Пырскнула глазами, прижала палец к синеватым губам, ляпнула ими дрябло, вроде вареник в миску швырнула, тоже шипанула
– Тссс. Алешкина Аленка здесь. Позади тебя стоит, уши развесила.
Катарина обернулась, ее толстое лицо-сковорода расплылось в елейной гримасе, она тоненько залебезила, как медом полила
– Деточка, миленькая! Ты чего в магазинчик пришла, папка послал? Так ты иди вперед, мы тебя пропустим, а то нам долго еще. Пряничек хочешь?
Аленка надулась, отрицательно помахала головой, но тетка все равно не унялась, схватила с прилавка здорового петушка на палочке в клейкой бумажке и сунула ей в карман.
– Ты папку -то спроси, готов мой шифонерчик? Уж месяц жду, чтой-то он задержался. А, деточка? Спросишь?
Аленка сердито кивнула, положила в авоську буханку хлеба, масло в коричневой бумажке, подождала пока Матвей отвесит в банку густой, стоящей колом сметаны, потом посчитала оставшиеся монетки, разжала вспотевшую ладошку.
– А на это пряников. Да ломаных не клади.
Потом ухватила толстый пакет, на дне которого болтались несколько пряников, вытащила из кармана петушка, бросила его на прилавок.
– Не надо нам. Мы и сами купим, да батя мне сахару не дает, больше меду все. До свиданья.
Она выскочила из лавки, вздохнула с облегчением, втянув полные легкие свежего аромата близкого августовского вечера, завернула за угол, и, метнув взглядом по сторонам выхватила пряник и со скрипом впилась в его долгожданную сладость, прижмурившись так, что уже спокойные лучи не смогли пробраться сквозь ее сжатые веки, и день превратился в ночь.
София и Прокл действительно поселились у них. Не в самой избе, а в другой, той, что батя выстроил из баньки, присоединив к ней пару комнат – получилось здорово, второй дом. Раньше Аленка обожала там играть, в комнатах пахло елкой и мылом, всегда было тепло и чисто, а теплый бочок печки, почти всегда натопленной тоже пах приятно – дымком и березовым поленом. А вот теперь туда и войдешь, там новая хозяйка. София в дом к ним с отцом не лезла, ходила гордо подняв голову, но чуть приопустив глаза, что-то все время мыла и чистила, а вчера привела корову. У них с батяней кроме кур в жизни никого не было, папке все приносили готовое – платили за работу. А столяр и плотник он был замечательный, Аленка всегда с открытым ртом встречала его новый шедевр, вот и сейчас огромный Катеринин шифоньер торжественно отливал отполированными стенками, гордо светил большим зеркалом на двери, а в батяниной мастерской из-за него было похоже на царские покои. И у них все всегда было – и молоко, и творог, бабы не скупились за шкаф или расписанный красками сундук. А тут…корова…
София встретила ее во дворе, чуть придержала у колодца, сунула в руки белоснежный узелок.
– Ты с магазина? Вот бате и передашь, скажешь от тети Софьи гостинец. Не все ж вам покупное есть…
Аленка взяла сверток, молча обошла новую жилицу и побежала по тропке к крыльцу. И встала, как вкопанная – за калиткой стоял казак из сказки. Он был на коне, свободная рубаха, туго стянутая в талии пузырем хлопала на спине, чудная кучерявая шапка была сбита набок. Но, тряханув головой, чтобы отогнать наваждение Аленка поняла – никакая это не сказка. За калиткой гарцевал Прокл. А у старой березы, что напротив у колодца, прижавшись в стволу спиной стояла соседская Машка. Тонкая, как хворостина, с мохнатой рыжей косой, она хлопала длинными ресницами, точно, как Софиина корова, и лыбилась красным ртом. Она держала в руках ведро и от нее на весь двор пахло сиренью.
…
Батя развернул узелок, что дала София, хмыкнул, отломил краешек румяного каравая, бросил в рот. На всю кухню пахло свежим хлебом, да так вкусно, что Аленка тоже не удержалась, куснула краюшку. И когда отец смущенно пробурчал, что жилица сегодня собралась их позвать на чай, поморщилась, но кивнула.
чиги – казаки, селившиеся на Хопре. Отличались от осталных Донских казаков более простым бытом, драли лыко, плели лапти, акали, за что основное казачество их недолюбливало.
Глава 3. Чаек
Батя стеснялся, чуть подталкивал Аленку перед собой, как будто хотел за нее спрятаться, его смуглый лоб покрылся испариной, он пыхтел, как медведь, и странно присгибал мощную шею, вроде лез в хомут. Аленке вдруг его стало так жалко, что она нашла его широкую ладонь, тоже взмокшую от волнения, сжала крепко накрепко и пошла вперед, ведя его за собой, как маленького. Они шли в дом, в который поселили пришлых, как в чужой, да оно так уже и было, с тех пор, как у них поселились София с Проклом Аленка ни разу не заходила в свою любимую баньку, забыла туда дорогу. Парились они теперь у батиной сестры Анны, а та за словом в карман не лезла, хихикала.
– Ты, брат любезный, коль не я – мохом б зарос, как тот пень в лесу. В свою ж баню не идут, вот смеху-то. А ты бы ее попросил баньку натопить, она б тя напарила. У нее глаз аж горит, как ты дрова рубишь, у тебя на заду еще ожогу нету?
Отец хмыкал в усы, двигал Анну в сторону, лез медведем на хлипкие ступеньки сестриной бани, но сдвинуть вредную сеструху было не так просто, она статью удалась в брата – настоящий шифоньер. Анна вздергивала плотной грудью, двигала плечом и отходила с дороги только когда натешится, а потом, прихлебывая на пару с братцем душистый чаек с чабрецом, двигала вазочку с медом поближе к Аленке, укладывала ей на тарелочку пирожок с вареньем, щурилась на Алексея, слушала. А тот сипел негромко, то ли нехотя, то ли тушуясь.
– Так, Аньк, мать же велела. Говорит – прими бабу, у нее дом погорел, а сынок еще несмышленыш, хоть и фигура здорова. Она ей крестница, Софья эта. Ну как отказать?
Анна с хлюпом допивала чай из здоровенного блюдца, кидала в рот половину пирога, щерилась.
– Ну-ну. Коль крестница… Иди уж, медведяка!
…
Софья стояла на крылечке бани, внимательно смотрела, как Аленка прячет за своим стрекозьим тельцем смущенного отца, улыбалась. Вечернее солнышко подожгло легкие пряди ее волос, свободно уложенных узлом на затылке, и они уже казались не черными, а медными. И такими же горячими искрами горели серьги в маленьких мочках ее чуть оттопыренных изящных ушек – крупные резные кольца отражали лучи каждой гранью. Аленка вдруг увидела, что Софья удивительно хороша. Атласная темно бордовая кофта плотно обтягивала тонкую талию, а потом резко расширялась книзу, подчеркивая крутые бедра. Бусы в несколько рядов скользили по груди и от этого движения нельзя было оторвать глаз. Софья снова сверкнула яркой улыбкой, показав мелкие, немного хищные, белоснежные зубы, пошла навстречу.
– Наконец-то. Мы вас ждем-ждем, уж чайник три раза кипятили. Боюсь, плюшки застыли, не такие вкусные будут. Алексей, Аленушка, давайте-ка к столу.
Она легко повернулась, слегка покачивая бедрами, от чего волной колыхалась юбка вокруг щиколоток, обтянутых темно-синей кожей нарядных ботинок, взлетела по ступенькам и скрылась за дверью, оставив ее открытой. А когда Аленка с батей вошли, Софья уж стояла посреди комнаты, спиной к накрытому столу, держала круглый поднос, на котором гордо высилась немаленькая чарка, клонила красивую набольшую голову.
– Прими, хозяин для веселья души. На травах моя водочка, как газ ароматный.
Софья сделала пару шагов навстречу, батя довольно крякнул, разом опрокинул чарку, кинул в рот крохотный бутерброд с копченым мясом и соленым огурчиком. Расплылся от удовольствия, было видно, что угощение понравилось. И разом напряженное выражение стерлось из его глаз, он расслабился, вытащил из-за спины кулек с конфетами, сунул Софье.
– Шоколадные. С этим, как его. Орехом греческим. Вкусные, бери.
Софья взяла кулек, чуть коснувшись тонкими пальцами батиной руки, вздохнула.
– Вот и слава Богу. Проходите, все на столе. Прокл! А Прооокл!
Ее голос был звонким, как у девчонки, аж в ушах зазвенело, но Прокл не отзывался.
– Вот ведь поганец. Семнадцать чуть стукнуло, а уж по девкам. Да и Марья эта – так и лезет, стыда у девки мало. Сбежал. Ну погоди, явишься, хворостиной поперек спину отхожу, я его от девок отважу.
На какое- то мгновенье сияющая улыбка Софьи погасла, и стало видно, как ей непросто, и как она устала. Но она быстро справилась с собой, снова засияла острыми зубками. Батя уселся за стол, положил плюшку, зачерпнул ложкой немало меду, залил плюшку до верху, потом опомнился, глянул на Софью.
– Ты на сына-то не серчай. Мальчишка, пусть гуляет. Чего он тут с нами сидеть-то будет, время придет, насидится. Чайку плеснешь, Софья?
Аленка с удовольствием отламывала по кусочку от необыкновенно вкусной плюшки, макала его то в смородиновое варенье, то в малиновое, то в мед, жмурилась от удовольствия, запивая чаем. У нее от тепла и вкусной еды слипались глаза, батя с Софьей казались то большими, близкими, гудели, как шмели, то вдруг отдалялись, становились маленькими, прямо гномиками, и их было неслышно, они впустую шевелили игрушечными губами. И когда Софья подошла, обдала ее запахом какого-то весеннего цветка, наглаженного шелка и сладкого вина, она совсем расслабилась, позволила ее поднять, отвести к печке, уложить на мягкую перину лежанки, укрыть одеялом. И, засыпая, она уже не пыталась разглядеть что там происходит за плотной занавеской, расшитой красными смешными зайцами.
…
Дождь лил с самого утра, как бешеный. Батя разрешил сегодня Аленке не ходить в курятник, велел только накормить Пушка и Шарика. Пушок лениво терся об Аленкину коленку, есть кашу не хотел, дождался, когда она кинет ему куриное крылышко и заурчал. Аленка положила в кастрюльку Шарика хлеба, налила бульона, положила когтистую лапку от курицы, пошла было на крыльцо, но вдруг остановилась, как будто перед ней выросла стена. На треугольном столике под божницей стояла фотография. Та самая – из батиного чемоданчика, с женщиной с Аленкиными глазами. Фотография стояла, подпертая толстой книгой, а на книге лежал цветочек. Уже подвялый, один из последних, как там из называла их Катерина – сентябринка. Но яркий – фиолетовый, аж светящийся в мути дождливого утра, а женщина с фото смотрела на него, улыбаясь.
– Мамка твоя, Ален. Вишь, как живая… Любила она таки цветы-то, говорила они последние, горькие.
Батя вошел неслышно, как тать, встал за спиной, дышал тяжело, прерываясь. Он смахнул что-то с лица, как будто паутину, аккуратно положил фотографию в сложенный платок, убрал в чемоданчик. Провел тяжелой ладонью по Аленкиным кудряшкам, вздохнул и сгорбившись пошел в сени.
…
Конец сентября в их местах часто был теплым, как будто вдруг возвращалось лето. А в этом году весь сентябрь лил дождь, прохудилось небо, Аленке уже казалось, что она сидит в доме безвылазно, и будет так сидеть всегда. А тут вдруг небесный свинец прорвали острые горячие не по-осеннему лучи, через полчаса небо стало ярко-голубым, как в мае, и плотная летняя жара ворвалась в дом, проникая сквозь толстые стены. В окно кто-то настырно стучал, Аленка сбросила сонную одурь, высунулась в открытое окно – там топталась телушкой Лушка – подружка не разлей вода.
– Что ты сидишь, как кура. Пошли к реке! Там хоть купайся, песок горячий, лето снова пришло. Давай, вылазь.
И Аленке и вправду вдруг захотелось окунуть ноги в горячий песок, коснуться теплой воды ладошками, поймать аромат уходящего лета.
Глава 4. Стремнина
– Глянь! Глянь! Ваш жилец-то! С Машкой, на лодке, на рыбалку что ли?
Лушка тыкала Аленку в бок острым кулачком, щебетала звонко, в ее мутновато-голубых глазках металась хитринка и что-то еще такое, от чего Аленке стало неприятно. Подружка была старше, ее уже взяли в школу, но казалось, что она не девчонка – девица. Может быть потому, что у нее были две старшие сестры, толстые томные девки, от которых вечно шел какой-то жар, как будто парило, и смотрели они так, как будто любили всех без исключения, и эта маслянистая любовь выделялась влажно из их маленьких глазок. Что-то они такое знали, чем-то таким делились с Лушкой, чего Аленке было неведомо, и поэтому ей всегда казалось, что подруга взрослая, не то что она. Аленка приставила ладошку к глазам, защищая их от солнца, и вправду увидела – за коровьим бродом, почти у поворота под нависающими над берегом ветвями ивы качается лодка. А в ней здоровенная фигура Прокла, он стоял широко расставив ноги, держал наперевес весло, а из-за его бедра, болтаясь, как хвост невиданного зверя, торчала рыжая растрепанная коса.
– Что ты, Лушк, кричишь так? Услышат же, нехорошо. Может и на рыбалку, тебе что за дело? Тише.
Лушка хрюкнула, как Софьин поросенок, которого она вчера приволокла с базара, пырскнула глазами, протянула.
– Нехооорошоооо. Это шлындрать с приезжими парнями нехорошо, коль у тебя жених есть. Валька вчерась обсказала, что к Машке этой сватов засылали. С Бобылевки, никак. А она, вишь, с Проклом этим вашим. А ты – нехорошо!
Аленка пожала худеньким плечиком, скинула тапки и осторожно ступила в воду. А вода была леденючая, да такая, что у нее внутри екнуло, и все подобралось от холода, аж нутро остыло. Она ойкнула, выскочила на песок, села, быстренько, как норушка прокопала две ямки, сунула в них застывшие ступни. А потом легла, прижалась спиной к горячему песку и долго смотрела, как несутся по высокому небу облака. И мысль о Прокле и Машке почему-то неприятно ворочалась у нее в голове, кололась, как будто в мозги забралась колючка, да застряла там…
– Глянь, совсем уплыли. Теперь рыбы, видать, Машка матери принесет в подоле кучу. Валька говорила, что у Машки этой самой мамка тоже рыбалку любила. С дядькой Василием, что на горке живет ездила. Рыбачила. Пока Машкин батя ей удочки не переломал…
Аленка дремала, и голос Лушки ей противно мешал, зудел у уха, вроде комар, и тихо и неприятно. Она даже отмахнулась от подружки, только что не попала ей по курносому носу, и Лушка отпрянула, неожиданно обидевшись.
– Дура ты, Аленка, тебе в куклы еще играть. С ней, как со взрослой, а она машет тут. Пойду я, сеструхи по шее надают, коль к ужину опоздаю, да и мамка врежет. Ты со мной? Иль жильца с зазнобой подождешь?
Аленка села на песке, посмотрела на подружку, и впервые в жизни ее широкое лицо с прозрачными щелками глаз показалось чужим и противным. Она отрицательно помотала головой потом кивнула, и, увидев, что Лушка ничего не поняла, сказала, шепотом, почему-то.
– Побуду. Вон погода какая, а батяня еще не скоро будет, он в город подался за зерном. Да и светло еще, какой ужин. Иди.
Лушка поднялась, постояла, потом развернулась и пошла, раскачиваясь, как утка, мотаясь из стороны в сторону толстой попой. И вот уже скрылась за прибрежными ивами, побежала по тропке в горку, вроде и не было ее. Аленка было прилегла снова, но песок быстро остывал, солнышко, торопясь скрыться за деревьями, как будто уводило летнее тепло с собой, еще чуть грело, но неспешно, стеснительно. Аленка вздохнула, встала, отряхнув ступни влезла в тапки, затянула потуже косицу и пошла к воде. Там, за мостиком, ведущим на ту сторону, в изгибе берега у нее было тайное местечко. Над быстриной нависал ствол старого дерева, он сиял в вечерних лучах, надраенный до блеска быстрой водой, по нему можно было забраться далеко, сесть верхом, смотреть в сверкающую глубину реки, представлять себя русалкой. Аленка так и сделала. Набрала чуть подале полузасохших цветов, мыльники еще цвели, ромашки кое-где, мальвы, быстренько сплела венок, больше похожий на мочало, распустила косицу и напялила свое творение на голову, точно как русалка. И, цепляясь руками и ногами за ствол, долезла почти до конца, села, поправила волосы и тихонько заныла песенку, которую слышала вчера – пели Лушкины сеструхи.